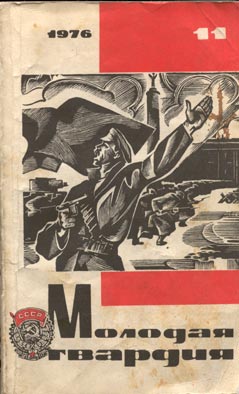Ирина Стрелкова. Чет и нечет
повесть
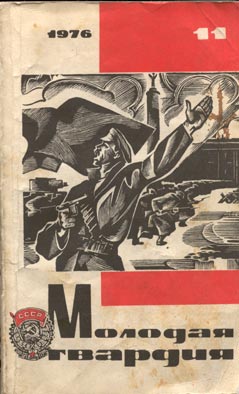 Полковник Степанов приехал в Чупчи ранней весной. На русском
севере, откуда Степанова перевели на новое место службы, громоздились
сугробы, почернелые и ощетинившиеся, солнце окуналось в ледяные лужи.
А тут, в Чупчи, степь цвела всеми красками: по чистой зелени разлились
озера алого степного мака, в небе - высокая синь, горы на горизонте то
рыжие, то лиловые. И прибегал в городок ветер, всласть вывалявшись в
степных травах.
Но уже к маю, лучшему месяцу русской весны, степные краски стали
угасать. Небо вылиняло, трава превратилась в бурьян, степь с белыми
солонцовыми проплешинами сделалась похожей на старую, вытертую шубу.
- Человек тоже не всю жизнь молодой, - говорил полковнику чабан
Садвакасов. - Молодой - глаза горят, кожа как шелк. Состарился - глаза
плачут, кожа высохла, сморщилась.
К чабану Садвакасову полковника возили майор Коротун и лейтенант
Рябов. Майор дольше всех других офицеров служил в Чупчи, а Рябов
родился и вырос в станице под Алма-Атой, знает казахский язык.
Впрочем, толмач не понадобился. Старый чабан сразу заговорил с
гостем по-русски.
Сидели они в юрте. Толстая кошма не пропускала зноя, понизу край
был приподнят: сквозь решетчатые стенки потягивало ветерком.
Садвакасов угощал гостей кумысом, взбалтывая его черпаком в большом
эмалированном тазу, налитом до половины. Пришел хмурый, диковатый на
вид подросток. Рябов обрадовался:
- Еркин! Давай шахматы.
Подросток вытащил откуда-то из-под одеял шахматную доску, высыпал
на кошму фигуры.
- Сколько тебе лет? - спросил Степанов.
- Пятнадцать будет, - ответил за подростка чабан.
Степанов подумал: "Ровесник моей Маши, Красивое имя - Еркин".
Разговаривая с хозяином, полковник нет-нет да и поглядывал: что
там шахматисты? Рябову приходилось туго, он морщился, беспрестанно
снимал и протирал очки. Диковатый подросток оставался безразличным.
- Интеллигентные люди в таких ситуациях признают себя
побежденными, - советовал Коротун.
Рябов потянул еще пару ходов и сдался.
- Давай тогыз-кумалак! - приказал сыну старик.
Еркин перевернул шахматную доску. На обратной стороне были
выдолблены продолговатые лунки.
- Тогыз-кумалак означает девять катышков, - перевел полковнику
Рябов, раскладывая черные шарики по лункам. - Игра идет в чет-нечет.
Вся хитрость в математическом расчете. Самая подходящая игра для
военных.
Лейтенант и подросток сражались азартно, загребали друг у друга
шарики из лунок...
На обратном пути Степанов спросил:
- Этот парнишка внук Садвакасова?
- Нет, - сказал Рябов, - сын, самый младший. А старший сын в
Алма-Ате живет. Геолог, академик Садвакасов. Давно зовет отца в город,
но старик ни в какую.
- Садвакасов себе цену знает, - заметил Коротун. - Поглядишь,
чабан как чабан, а все начальство к нему ездит.
Летом Садвакасов со своей отарой откочевал на юг, к горам.
Просторная юрта старика набилась мальчишками всех возрастов: съехались
на каникулы городские внучата чабана. Скучавший по своей ребятне, по
Вите и Маше, Степанов подумал: отдать бы Витю на все лето в эту
компанию - вот бы славно!
В конце августа Степанов встречал семью. Мимо катили горячие
пыльные вагоны, полковник искал глазами своих. Поезд загремел,
напротив Степанова повисли ступени, стертые до блеска. Сверху прыгнула
ему на шею дочь в узких джинсах, с рюкзаком за спиной.
- Машка! - выдохнул он.
- Пап, ты такой черный, не узнать!
Следом за Машей из вагона поплыли на платформу чемоданы, коробки.
Пассажиры из тех, что быстро сходятся в дороге, складывали на бетон
поклажу, подбадривали приятельскими репликами:
- Полный порядок.
- Сейчас ваши выйдут, товарищ полковник.
И вот по ступенькам спускается Наталья Петровна: светлый немятый
костюм, лакированные туфли именно на том вошедшем в моду каблуке, по
которому сходят с ума все офицерские жены в Чупчи. За ней невозмутимый
Витя с клеткой: в клетке мечется мелкий рыжий зверек.
- С приездом! - полковник притиснул сына к себе: все косточки
прощупываются! А вырос на целый вершок! Осторожно поцеловал жену в
напудренную щеку.
- Пап, а пап! - Витя потянул отца за рукав. - Мы с Машкой в
вагоне поспорили. Здесь настоящая пустыня?
- Полупустыня.
- Пап, а что во-он там? - Витя показал на глинобитный домик с
круглым куполом. - Древнее жилище?
- Могила. Мазар.
В конце платформы, вдоль железной дороги, метров на двести
выстроились деревянные щиты. Витя спрыгнул с платформы. Щиты
накренились под тяжестью навалившегося песка.
- Обычное явление, - сказал полковник сыну. - Движущийся песок.
- Бархан? Как же он движется, если даже ноги в нем не вязнут? -
Витя присел, копнул песок рукой. Сквозь корку пробивался неказистый
кустарник: кривые ветки, узкие серые листики. - Тут что-то растет!
- Саксаул. Песок только саксаулом и остановишь.
- Что вы там нашли? - нетерпеливо окликнула Наталья Петровна.
Степь, пески, саксаул... Конечно, не Россия. Но чего уж
вспоминать? Есть места и похуже Чупчи!
- Пошли к машине! - Наталье Петровне хотелось поскорее увидеть
военный городок.
Салман притащился в военный городок спозаранку.
Летом он дома не ночует. Мало ли в степи мазаров? Чтобы не
мерзнуть, Салман спроворил ватное одеяло. Невелика ценность. Соседка
купит себе в универмаге новое - побогаче, крытое зеленым или малиновым
шелком. А у матери не попросишь. В универмаге продают школьную форму,
но и ее Салману не купят. Мать сказала: "Пойдешь в школу - там дадут.
У школы денег много. Хотят, чтобы ты ходил на уроки, - пускай
покупают". В прошлом году ему выдали форму шерстяную, ботинки, пальто,
шапку. В школе боятся, что он бросит учиться и тогда их всех будут
ругать. Отчего этим не попользоваться? Отец учит Салмана: глупые люди
для того и существуют, чтобы умные их обманывали. Себя отец считает
самым умным в Чупчи, хотя работает всего-навсего сторожем в больнице.
Когда главный врач Доспаев ругает его за беспорядок, отец презрительно
сплевывает: "Зачем кричишь? Зарплата! Что можно требовать за такую
зарплату?"
Про зарплату отец рассуждает смело, потому что Мазитовы не
бедные. У них нет хорошей одежды, в доме нет дорогих вещей, но они не
нищие, слава аллаху! - говорит отец. У нищих денег ни копейки, а у
Мазитовых деньги есть, много денег - Салман знает, где они спрятаны.
Но это не такие деньги, как у всех. Все носят деньги в магазины,
покупают одежду, еду. У Мазитовых только отцова зарплата уходит из
дома, а большие деньги остаются и живут тайно, шуршат, как мыши.
Оттого Салман не любит бывать у себя дома. Зимой приходится - зимой
никуда не денешься, а летом он живет на воле.
Вчера Салман соображал проскочить в ларек военторга, сидел на
ступеньках, приглядывался. Подошла машина, стали чемоданы выгружать,
вылез мальчишка с клеткой. В клетке рыжая крыса. Салман поглядел и
сплюнул: "Зачем крысу привез?" Мальчишка ответил: "Это не крыса, а
хомяк". Старшая сестра на него закричала: "Витя! Помоги чемодан
дотащить!" Мальчишка с сестрой чемодан в дом понес, Салману клетку
оставил. Потом выскочил: "Эй ты! Пойдем покажу!" Привел в дом, показал
рыбок в воде - красиво. Вместе сели есть. Полковник тихо подсказал:
"Колбаса свиная. Может, тебе дома не разрешают свинину? Тогда ешь
котлеты, они из баранины". Салман в ответ покрутил головой - пускай
свинина, лишь бы пожирней.
Сейчас Салман сидел на камешках под Витькиным балконом. Вчера они
сговорились пойти в степь за сусликом. Салман сдуру проболтался, что
добыть суслика очень просто: налить воды в нору до краев, и суслик
вылезет. Теперь он сидел и думал: полную нору налить не просто,
намаешься таскать. Прежде Салман никогда и шкурками не промышлял.
Подумаешь, деньги - копейки.
Не поднимаясь с земли, он исподлобья глядел на подбегавшего
Витьку. Сынок полковника не пара Салману: чистенькая светлая челочка
на лбу, сытый, в новеньких кедах, военная фляга на ремешке. На Алика
похож. Жил здесь, в городке, толстый Алик, мать ему в школу завтраки
возила. Все они Алики!
- На целый день пойдем! Пожрать я захватил! - Витька помахал
ведром, в ведре Салман увидел пакет вроде тех, какие привозили Алику.
- Не съедим, возле нор оставим. А сейчас на! - Витька вытащил из
кармана горсть конфет в бумажках. - Пососи - кисленькие. Должны
помогать от жажды, хотя я читал, что в пустыне перед походом надо
соленого наесться, а не сладкого.
- Зачем соленого? - Салман сунул конфету в рот. - Сладкое лучше.
Он гонял конфету языком и думал про Витю: какой-то непонятный.
Или, может, глупый?
В степи видно далеко, но арба появилась неожиданно, словно из-под
земли.
Старик в рваном пиджаке вел ишака. Лошадь, даже самая ленивая,
понимает, что везет, уважает хозяина. У ишака другой характер. На
суконной морде написано: плевать мне на вес. Ишак волок арбу,
груженную с верхом, волок без дороги, прямиком по степи. Увидел, как
два дурака льют воду в сусличью пору. Остановился, зубы оскалил.
Старик царапнул взглядом по Салману, по Витьке, прикрикнул на ишака и
вытянул его палкой по пыльному хребту.
За арбой, нарочно приотстав, плелся мальчишка в штанах с
заклепками, в рубашке навыпуск - рубашка расписная, как стенка в
детсаде: пальмы, обезьяны.
Витька простодушно загляделся на расписную рубашку, на
вздыбленные рыжие патлы мальчишки, из-за которых тот получил прозвище
Ржавый Гвоздь. Салман изготовился: Нурлан Акатов из восьмого "Б"
сейчас обязательно Витьку языком ткнет как шилом - такая уж у Ржавого
привычка. Однако Салману не пришлось огрызнуться - Нурлан молча прошел
мимо. "Ну дела..."
Сам он виду не подал, что старик с арбой его родной отец.
А Витька загляделся, как переваливались по неровной земле два
колеса арбы.
- Я теперь понял, почему древние делали у колесниц такие
высоченные колеса. Когда приходится ездить без дороги, то нужны либо
гусеницы, как у танка, либо всего два, а не четыре колеса. И чем
больше колеса в диаметре, тем лучше... Улавливаешь? Проходимость
повышается.
Салман на эти пустые слова ничего не ответил. Проходимость!
Ничего не понимает Витька. Колеса разглядел, а о тех, кто за арбой
тащится, - без всякого соображения. Куда же они ездили? Зачем?
Наверняка дело здесь нечисто. Для чего отец потянул с собой в степь
Ржавого Гвоздя? К чему приспосабливает? Ржавый, насколько Салман
знает, у отца кругом в долгу. А отец-то молчком проехал.
...Вода поднялась по край норы, но суслик еще не показывался. И
вдруг полез: крупнее и страшнее, чем он есть, - как старается показать
всякий зверь и даже человек в минуту опасности. Витька накрыл суслика
мешком, сунул в ведро.
Возле городка нагнали ползущую со степи отару. К ним верхом на
лошади, с палкой в руках подскакал Еркин.
- Зачем? - спросил он, показывая на ведро.
Витя стал обстоятельно рассказывать: будет держать суслика дома,
в клетке, изучать его повадки.
- Зачем дома? Суслика в степи смотреть надо. - Еркин толкнул
коленями лошадь, потрусил к своей отаре.
- Эй, пастух! - крикнул Витя. - Дай на лошади покататься!
Еркин оглянулся:
- На лошади не катаются. Не велосипед.
- Ты его знаешь? - спросил Витя Салмана.
- Еркина? У своего отца помощником работает. Хорошие деньги
получает. Богато живут. Да вон ихняя юрта!
Юрта Садвакасовых виднелась в степи меж военным городком и
поселком.
В юрте Садвакасовых праздник: из Алма-Аты приехал старший сын,
известный геолог, академик Кенжегали Мусабаевич Садвакасов. Чабан
зарезал двух баранов, позвал женщин варить бесбармак. Затрещал курай
под казаном, забурлила вода. Пока мясо варилось, подъезжали родичи и
соседи.
Прислуживал гостям Еркин.
Академик сидел на кошме, брад мясо с блюда руками и за едой
рассказывал, как в детстве пас овец.
Еркин видел: отцу не правится разговор, затеянный Кенжегали. Ну,
пас и пас. Все пасли. Из всех гостей только полковник не нас в детстве
овец. Так думал Еркин, хотя в казахских семьях младшим не положено
осуждать старших.
Кенжегали вспоминал, как в войну, когда отец был на фронте и он
за него оставался с отарой, ему довелось носить тулуп на голом теле. В
тулупе заводились насекомые, Кенжегали клал его на муравейник. Муравьи
быстро уничтожали всех паразитов.
- Вам знаком такой древний способ дезинсекции? - спросил
Кенжегали сидящего рядом председателя райисполкома.
- Я этого способа уже не застал, - засмеялся председатель. -
Думаю, что и старики о нем забыли. У вас, Кенжеке, замечательная
память.
- А вот я помню... - продолжал Кенжегали. - Зимой приходилось
бегать босиком по снегу. Ноги в коросте, руки тоже. Однако я имел
смелость влюбиться в девчонку, которая приходила на уроки в кружевном
воротничке, в кружевных манжетках.
- Вы, Кенжеке, были первым учеником, - вставил директор школы
Ахметов, имевший у ребят прозвище Голова. - Наш завуч Серафима
Гавриловна хорошо вас помнит и часто приводит в пример.
- Серафима Гавриловна! - Садвакасов улыбнулся. - Она приехала в
Чупчи, когда я кончал десятый класс. Молодая, но ужасно строгая!
Только и слышишь: "Садвакасов, не отвлекайся! Садвакасов, ты опять
загляделся на свою соседку!"
Все засмеялись, Еркин тоже. Но с кем же тогда сидел Кенжегали?
Кто та девочка в кружевном воротничке? Постойте...
Да это же Софья Казимировна, мать Саулешки! Ее отца, врача
Казимира Людвиговича, часто вспоминают старики. Значит, это в нее был
влюблен Кенжегали. Теперь понятно, почему однажды Саулешкина мать
сказала Еркину: "Ты похож на старшего брата. У всех Садвакасовых
способности к математике". Может быть, дочери врача все-таки нравился
Кенжегали, но он уехал из Чупчи, выбрал профессию, которая никогда не
приведет его домой. А Софья Казимировна вышла замуж за Доспаева - они
вместе учились в Москве, в медицинском институте - и привезла его в
Чупчи. Отец говорит: у нее в роду все привязаны к степи покрепче самих
казахов. Прадед Софьи Казимировны был сослан сюда царем. В Чупчи
ссыльный поляк построил первую в степи больничку. С тех пор в его роду
все врачи. Доспаев замечательный врач. В Чупчи его уважают, как
уважали отца Софьи Казимировны, погибшего на войне.
Академик Садвакасов давно не бывал в родных краях. У городских
Садвакасовых считалось, что Еркин закончит школу в Чупчи, а учиться
дальше приедет в Алма-Ату. Но гостившая летом у деда садвакасовская
ребятня привезла новость: Еркин собрался пойти в чабаны. Городские
Садвакасовы забеспокоились. Брат академика Мажит, начальник шахты в
Караганде, сказал так: время назад не поворачивает, уголь обратно в
пласт не укладывают. И на совете было решено: за Еркина пора взяться
всерьез.
Академик вышел с гостями из юрты.
- Мусеке, - обратился к хозяину на прощание председатель
райисполкома, - почему вы не подаете заявку на "Волгу"? Передовым
чабанам мы выделяем в первую очередь.
- Не нужна. - Кенжегали услышал в отцовском голосе знакомое
упрямство. - "Газик" везде пройдет, правильная машина. Ты мне "газик"
продашь?
- Чего не могу, того не могу. "Газики" продаем колхозам. Частным
лицам запрещено.
- Неправильно запретили. Я в Москву напишу. Пусть вынесут
постановление: чабанам продавать козел-машины. Государству перед
чабаном стыдно. Работает старик, а что ему надо - не продают. Мой
мальчишка мне сказку читал. Одному старику служила волшебная рыба.
Старик у нее ничего не просил! Ему надо - он заработает. Старуха дом
просила - рыба дала дом. Шубу просила - бери шубу. Нахальная старуха.
Совесть потеряла, приказывает: молодой меня сделай, дочерью хана.
Сказала нахальные слова - все у нее пропало. Дом развалился, шуба
развалилась, ковры, машина швейная - ничего не осталось у старухи.
- Значит, и швейная машина развалилась? - переспросил
председатель райисполкома. - Значит, так и написано в сказке Пушкина?
- Пошкин? Правильно. Сказки Пошкина. Мой мальчишка читал. Не
Еркин, нет, а вот он. - Старик показал на академика. - Я помню сказку,
не забыл.
- С вами не соскучишься, Мусеке! - проворчал председатель,
залезая в машину.
Академик тихо посмеивался: да, с отцом не соскучишься.
В знакомых алма-атинских семьях он видел неслышных, как тени,
стариков и старух, взятых из аула в город, чтобы дожили свои годы
ухоженными и присмотренными. Хотел ли он для отца такой же участи?
Нет. Кенжегали не мог считать себя плохим сыном. Он казах, а у казахов
нет плохих сыновей, как нет и брошенных стариков, бегающих по судам
насчет алиментов с родных детей. Кенжегали знал: его отец, давший
жизнь стольким удачливым и обеспеченным Садвакасовым, живущим в
городских комфортабельных квартирах, будет до конца дней жить в степи
и гонять свою отару с летних пастбищ на зимние, с зимних - на летние.
Но кто же заменит ему Еркина, которому надо учиться дальше?
Он перебирал в памяти аульную родню: кто?
В степи темнело, резче потянуло запахами сгрудившейся на ночь
отары. Вместе с Еркином, гонявшим на отцовской лошаденке в кино,
прискакал парень постарше на гнедом иноходце. Сразу видно, что не
чабан, а табунщик.
- Агай, это Исабек, - сказал Еркин.
Кенжегали с любопытством оглядел приземистого, широкого в плечах
родича.
- Рад тебя видеть, Исабек. Садись, поговорим.
Много лет назад, приехав в Чупчи, Кенжегали обратил внимание на
туповатого малыша, целыми днями копошившегося в одиночку возле юрты.
Года три было Исабеку, но он еще не научился говорить. Отец и мать -
оба молчаливые. Как научишься? Юрта в степи, рядом никакого жилья,
никаких соседей с детишками.
Сейчас, разговаривая с Исабеком, Кенжегали презрительно
посапывал, углы рта ползли вниз: очень неразвит, очень.
Исабек ежился под взглядом именитого родича, но, воспитанный
по-аульному, не смел подняться без разрешения. Наконец академик его
отпустил, Исабек мгновенно вскочил на своего иноходца и скрылся в
темноте.
"Вот и помощник отцу взамен Еркина", - подумал Кенжегали.
Разговор с младшим братом он начал издалека:
- В Нью-Йорке к нам подошел несчастный человек. Русский. Спросил,
нет ли у нас с собой горсти земли. Он хотел отнести родной земли на
могилу матери. Я тогда подумал, что кочевой народ не придавал земле
такого значения. Чтобы напомнить казаху о родине, ему послали емшан -
степную полынь. Сейчас люди все больше интересуются древними обычаями,
жизнью предков. Один мой институтский товарищ, он теперь большое
начальство, ездил к себе в аул, привез дедово седло, повесил в
кабинете. Финская мебель, африканские маски, чешский хрусталь, дедово
седло. Это уже не обычай. Это другое. Интерьер.
Кенжегали говорил медленно, словно не с Еркином, с самим собой.
- Мы с тобой давно не виделись, малыш. Ты вырос... Как отец? Не
болеет?
- Шишка весной распухла на ноге. Сакен Мамутович: вырезал.
- Почему не повезли в Алма-Ату?
- Доспаев сказал - не надо беспокоить.
- Ты тоже упрямый? Как и отец?
- Не знаю.
- А как вон та звезда называется, знаешь!
- Пастуший кол! Другое название: Полярная звезда. Пастуший кол,
по-моему, верней. Все звезды ходят по кругу, а Кол всегда на месте. К
нему привязаны две лошади.
В небе вызвездило по-степному: негусто, неярко.
- Смотрите, агай! - обрадовался Еркин. - Вон спутник летит.
Среди россыпи звезд пробиралась одна, ничем неотличимая от
остальных, кроме движения.
- Агай, вы бывали в Байконуре?
- Я знаю тот Байконур, где шахты. А космодром от старого
Байконура далеко.
- А-а... - протянул Еркин.
- Я вижу, отец водит дружбу с этими, из военного городка?
- Полковник Степанов часто приезжает. Он сказал отцу: дороги надо
строить в степи. Первое условие цивилизации.
- Еще что советовал?
- Не понимает, зачем нужен зимний отгон. Запаси кормов на всю
зиму - и не надо чабану гонять овец по снегу, мерзнуть на ветру.
- Что ответил отец? - Кенжегали неожиданно ощутил, что все это
задевает его за живое.
- Спасибо сказал за добрый совет. А как будет выполнять, сказал,
не знаю. Ученые зоотехники норму придумали такую - одна овца на
двадцать гектаров. Кто скажет - много, кто скажет - мало. Трава бывает
густая, бывает совсем плешивая, - в голосе Еркина старший брат услышал
отцовские интонации. - Овца ходит, траву щиплет. Густую, плешивую -
какая есть. Другой работы овца не делает. Утром щиплет, днем щиплет,
вечером щиплет - целый день. Отпуска у председателя не просит, зубы на
ремонт не ставит, запасных частей овце не надо. Сама не заметила -
двадцать гектаров за год выщипала. Кто за нее так сделает? Кто
двадцать гектаров плешивой травы машиной ощиплет? Кто овце в кошару
принесет? Так отец Степанову объяснил. Полковник смеялся: век живи -
век учись.
- Я вижу, ты и сам думаешь о том, как жить дальше чабанам?
- Все чабаны думают жить дальше. Ребята тоже думают. Ночью
соберемся, разговариваем. Спорим, красиво ли станет на земле, если
везде поля распашут, вырастят сады? Или, может быть, разная природа
нужна: степи, пески, озера горькие. Волк тоже нужен, каракурт. Сайгак
нужен. Заяц. Раньше у нас в степи только песчаный заяц водился, теперь
русак пришел. Он сюда с запада идет. Ученые подсчитали - за год
продвигается на сто километров.
- Интересуешься экологией? Перспективная наука. Будешь первым
Садвакасовым, который поступит на биофак.
Еркин мотнул головой:
- Я хочу остаться здесь.
- Несерьезный разговор! Выбрось из головы все эти традиции рода и
все прочее из старого сгнившего сундука. Твое поколение должно
выбирать свой путь. Думай о будущем, а не о прошлом.
- Скажите, агай, отчего так получается? Если говоришь - пойду в
чабаны, то думают, что ты идешь в прошлое, где бедность и темнота. Или
хвалят бесстыдно, будто ты герой и совершаешь разные подвиги. Я читал
- сейчас пишут про целинников: какие смелые - не побоялись поехать в
Казахстан! Если они смелые, то кто же тогда мы?
- Я тебя не понимаю... Чего же ты хочешь?
- Я хочу жить в Чупчи. Хочу, чтобы у нас в степи было много
людей, много света, много тепла.
- И что ты собираешься делать? - серьезно спросил старший брат.
- Я вот о чем думал, агай. Вы только не смейтесь. Сайгаки у нас в
степи обходятся без чабанов. Считалось, они вымирают, а взяли под
охрану - и сайгаки расплодились. Вот я и думал... Человек может
вернуть овце все, что у нее было, пока она не стала домашним животным.
Когда-то у человека никакого орудия не было, кроме палки. Вот он и
стал пастухом. Я читал: в Австралии овец сторожат автоматы. Но зачем
улучшать с помощью новой техники все ту же палку? Человек должен
отпустить некоторых домашних животных на свободу. И научиться, как
брать в степи сколько нужно мяса, шерсти...
- Брать в степи... А что ей давать - об этом ты думал?
- Надо улучшать пастбища. Садить саксаул. Рыть колодцы.
- Я вижу, ты много читаешь фантастики? - усмехнулся старший брат.
- Этот вопрос мне уже задавали! - Еркин надулся.
- Прости, Еркин, я не хотел тебя обидеть. Но век батыров прошел.
Мы живем в век науки. Все, о чем ты мечтаешь... Ты и твои товарищи,
когда вам не спится ночью... Чтобы все это осуществить, надо стать не
чабаном, а биологом или партийным работником. Что может сделать чабан
для изменения природы овцы?
- Сделает что может. Чего не может, того не сделает.
Старший брат снисходительно хмыкнул: детский максимализм!
Он подумал о своей голодной диковатой юности. Его ровесники
упрямо рвались из аула, пробивались наверх, как должное принимая все
скидки, которые делались молодым национальным кадрам в науке, в
промышленности. А Еркин с той же силой бьется в противоположном
направлении. И не отец уговорил его идти в чабаны, совсем нет, Еркин
сам решил.
С неба послышались металлические трубные звуки. Кенжегали поднял
голову и увидел, как высветлился Млечный Путь, по-казахски Птичья
дорога. Трубы пели наверху. Журавли летели на чужбину. Академику снова
вспомнился русский в Нью-Йорке и его просьба о горстке земли. А чего
бы попросил казах? Ведь есть и казахи, заброшенные на чужбину. Тоже
горсть земли с дорогих сердцу могил, соленой степной земли? Черных
заветренных камешков с холма? Глиняную корку такыра? Ломкий пучок
степной полыни? Серый колобок курта со следами слепивших его женских
пальцев, с прилипшими полосками овечьей шерсти? Он слишком подолгу не
бывал дома, в своем родном Чупчи. Занятый работой, он вспоминал о нем
лишь в те минуты, когда вместе с делегациями гостей приезжал в те
места под Алма-Атой, где в декорированных юртах угощают кониной,
кумысом, бесбармаком, не забывая в то же время и о коньяке, лимонах,
боржоми. И все же он увезет отсюда и младшего брата, отнюдь не для
городских развлечений. Еркина ожидал труд не менее тяжелый, чем
вековечный дедовский труд здесь, в степи, - вот о чем надо с ним
говорить, настраивать мальчишку. Скоро ему пятнадцать. По степному
счету - возраст совершеннолетия. А по городскому?.. Кенжегали вспомнил
своих ребят, их особую школу с английским языком. По-городскому
пятнадцать лет - самый трудный возраст.
- Ты, наверное, спать хочешь?
- Нет, я люблю вот так сидеть. Мы с ребятами до света досиживаем.
- Все казахи полуночники. У нас это в крови. Слушай, Еркин... -
Кенжегали тихо засмеялся, - но ведь по ночам вы с ребятами не только
думаете о будущем. О девчонках, видимо, тоже. Я-то помню. В городах
мальчишки теряют голову весной, а в аулах - летом, на джайляу. Ваше
поколение не забыло ак-суек*? (* Ак-суек - белая кость, национальная
игра (казах.).)
- Играем иногда. Но больше в футбол.
- Чудак. Футбол - это спорт. Ак-суек - это... В общем, кто-то
ищет ак-суек, а кто-то ищет девчонку. Эх, мне бы сейчас твои годы! -
Кенжегали помолчал. - Слушай, Еркин, ты ведь знаешь Софью Казимировну?
У нее должна быть дочка твоих примерно лет. Как ее зовут?
- Сауле.
- Почему не дали русского имени?
- Не знаю, - сказал Еркин. - А разве плохое имя Сауле?
- Да нет, хорошее. Слушай, Еркин, а она что... красивая?
- Очень, - серьезно ответил Еркин.
- Самая красивая в Чупчи?
Кенжегали собирался посоветовать младшему брату влюбиться в дочь
Софьи Казимировны, в дочь Сони. Однако что-то в настроении мальчишки
удержало его от обычных в ауле вольностей насчет девчонок.
- Пойду-ка я спать, - зевнул он. - Я ведь рано ложусь, рано
встаю.
Еркин слышал: льется вода в стакан, брат запивает таблетки, затем
поудобнее укладывается на кошме. Однако нет - поворочался и снова
вышел из юрты:
- Ты напрасно думаешь, Еркин, что судьба Чупчи решается только
здесь. Ты же сам видишь. Электричество, радио. А оставайся мы на
месте, в своих аулах, ничего бы здесь не было. Так что ко всем этим
переменам приложили свою руку и мы.
- Я понимаю, агай, - сказал Еркин. - Только отец наш так говорит.
Когда казах в своем ауле живет - он все хорошие обычаи других себе
берет. Но когда в город едет - тащит все старые аульные привычки,
боится лицо потерять.
На школьном крыльце стоит женщина в строгом синем костюме. Седые
волосы туго зачесаны назад. Рядом с ней - высокий грузный человек с
огромной головой, пегие волосы ежиком. Головастый глянул на Машу,
глянул на Витю - морщины вдоль щек раздвинулись, складки на лбу пошли
вверх: новенькие.
Головастый стоял там, где рядом с завучами всегда стоят
директора, и он, конечно, был директором школы: длинной, одноэтажной,
огороженной низким глиняным забором, отрезавшим от полупустыни
вытянутый прямоугольник. Есть места, где можно не тратиться на асфальт
для двора: все гладко и каменно от природы.
- Степанова Маша - восьмой "Б", - протрубила завуч густым басом.
- Степанов Витя - пятый "Б".
В класс Маша не торопилась. В длинном коридоре, как во всех
школах, пахло непросохшей масляной краской. Пробивался и еще какой-то
тяжеловатый дух. Маша не знала: так пахнут все постройки из самана. На
забеленных стенах висели плакаты и монтажи. На одном кумаче написано:
"Кош кельдыныз", и тут же рядом - "Добро пожаловать". Отец заранее
предупредил: здесь в одних классах преподают на казахском языке, в
других - на русском. Для детей военнослужащих уроки казахского языка
необязательны, но отец советовал Маше и Вите учесть: никакое знание не
бывает лишним.
По дороге в класс Маша замечала: вот учительская, вот пионерская,
вот канцелярия, вот кабинет физики. Новичку первым делом приходится
изучить школьную географию, где что размещается.
- А ты, оказывается, не из бойких. - Маша ощутила у себя на плече
тяжелую руку, увидела синий рукав костюма завуча. - Пойдем, у меня
первый урок в твоем классе... Ну, понравилась наша школа?
- Да! - Сколько раз ей приходилось лгать, отвечая на такой
вопрос.
Их обогнал рыжий мальчишка:
- Здрасссте, Серафффима Гавриловна!
Будь на месте Маши Витя, он узнал бы Ржавого Гвоздя, что
встретился ему и Салману в степи, за арбой старика.
Входя в класс, Серафима Гавриловна подтолкнула Машу на лобное
место между дверью и доской:
- Я привела к вам новую ученицу, Степанову Машу. Она приехала в
Чупчи издалека...
- ...и живет в военном городке! - выскочила девочка с первой
парты в правом ряду. Что это у нее на лице? Веснушки? Нет, мелкие
черные родинки.
- Да, Маша Степанова дочь офицера и живет в городке, -
подтвердила Серафима Гавриловна.
- В той квартире, где жил Алик! - добавила всезнайка с пестрым
лицом.
- Фарида-а-а!.. Когда говорят старшие...
- То дети должны молчать! - тонким голоском подхватил рыжий. Он
сидел позади Фариды.
За третьей партой сидела коротко стриженная девочка с густой
блестящей челкой, брови тонкие, стрелками разлетающиеся к вискам.
Откуда взялась здесь такая? И почему сидит одна?
Серафима Гавриловна словно угадала Машины мысли:
- Доспаева, рядом с тобой место свободно?
- Нет! Нет! Со мной сидит Шолпан.
- Где она?
- Приедет.
- Почему опоздала? Это непохоже на Байжанову.
- У них приданое шьют! Шолпашку мать не отпустила! Шолпашкина
сестра замуж выходит! - Самое большое удовольствие для Фариды -
сообщать новости.
- Вот кто у нас всегда в курсе, - проворчала Серафима Гавриловна.
Старшая сестра Шолпан Байжановой тоже училась в этой школе. После
шестого класса родители оставили ее дома. Люди, живущие по старым
степным обычаям, отчего-то считают пределом девичьего образования
шестой класс. Но Шолпан, слава богу, уже в восьмом. Серафима
Гавриловна знает: если на шестом не остановили - значит, девочка
чего-то добилась, настояла на своем. Но мало ли какие бывают
неожиданности!
- Где же мы посадим новенькую? - спросила Серафима Гавриловна.
- Со мной! - крикнул рыжий с голубыми глазами.
- Акатов, ты лучше помолчи. У тебя есть сосед - Кудайбергенов.
- Да я его сейчас вышвырну! - Рыжий обеими руками уперся в
соседа, но тот двинул плечом, и Акатов плюхнулся на пол.
- Ах ты так!
- Акатов! - повысила голос Серафима Гавриловна.
- Если вы не возражаете, - сказала Маша, - я сяду за последнюю
парту.
- Садись! - кивнула Серафима Гавриловна.
Маша прошла мимо Сауле Доспаевой, надменно опустившей глаза, мимо
рыжего Нурлана.
- Ну, восьмой "Б"! - принялась распекать Серафима Гавриловна. -
Неважно вы подготовились к новому учебному году. Настроение, я вижу,
нерабочее. Не все явились к началу занятий. Допустим, у Байжановой
семейные обстоятельства. А где Садвакасов?
- Во-о-о-н бежит Садвакасов, - спокойно сообщил чернявый
Кудайбергенов и показал рукой в окно.
Все повернулись.
- Ух и жмет!
С последней парты Маша увидела, как по плоской степи бежит
мальчишка в школьной серой форме.
Скоро бегун распахнул дверь класса:
- Разрешите войти?
- Явился, не запылился! - добродушно приветствовала его Серафима
Гавриловна. - Садись.
Тяжело дыша, опоздавший прошел к последней парте, недоуменно
взглянул на Машу: откуда вдруг взялась? Сел рядом, достал из-за пазухи
потрепанную тетрадку, из кармана достал новенькую заграничную ручку.
- Расписание сказали?
- Нет еще, - ответила Маша.
От него исходил еле слышный запах дыма, горький, знакомый запах.
Маше вспомнился город, где они жили давным-давно, пестрый удод над
очагом, горьковатый, щекочущий ноздри дым.
Раскрыв тетрадку, сосед пробовал свою шикарную ручку, вывел
крупно: "Еркин Садвакасов" - и залюбовался, склонив голову набок.
- Садвакасов! - вызвала Серафима Гавриловна. - Что-то ты
загляделся на новую соседку. К доске.
Учебный год начался.
Из школы за Машей увязался рыжий Акатов.
- Понимаешь, тебе одной идти опасно. Пустыня! Тут хищные верблюды
водятся. Могут напасть.
- Отстань!
- Польщен вашему вниманию! - продолжал кривляться Акатов. - Нет,
не так... Польщен вашего внимания. Скажи, пожалуйста, какой тут нужен
падеж?
- Отстань!
Они миновали переезд. Показались дома военного городка.
За спиной взвизгнули тормоза. Зеленый военный "газик", дверцу
распахивает лейтенант Рябов.
- Маша, домой?
- Здравия желаем! - Рыжий нахально откозырнул Рябову. - Разрешите
доложить? Назначен сопровождать. Несу, так сказать, конвойную службу.
Замечания будут?
- Вольно! - засмеялся Рябов.
- Иными словами: можете убираться?
Рябов пропустил Машу на заднее сиденье.
- Бойкий парнишка, - сказал он о рыжем. - Ребята прозвали его
Ржавым Гвоздем. Наверное, не только за цвет волос.
Местных ребят Рябов знает хорошо. В части он считается вроде
ответственного за шефство над школой. Под его начальством приезжают
солдаты на школьные вечера, на матчи со старшеклассниками.
По пути, в автобусе, Рябов напоминает Муромцеву:
- Только без происшествий. Понятно?
Володя Муромцев - москвич, из интеллигентной семьи - слушает
наставления с корректной улыбкой, отвечает туманно:
- Наши первыми не начнут. Но навряд ли обойдется.
Рябов и сам понимает: навряд ли. Часть многое делает для школы,
но все налаженные шефские отношения летят к чертям, стоит на школьном
вечере кому-то из солдат неосторожно поглядеть на красивую ученицу.
Майор Коротун возмущается: "Ненормальные отношения с местным
населением". Зато директор школы Ахметов посмеивается: "Почему
ненормальные? Молодость!"
Рябову симпатичен грузный, медлительный директор школы по
прозвищу Голова.
В этот день директор пригласил шефа из городка по делу
малоприятному.
- Милиция беспокоится, - отпыхиваясь, выкладывал Канапия
Ахметович. - Участковый Букашев, вы его знаете. Через Чупчи уплывает
краденый каракуль. Кто-то провозит, но кто - пока неизвестно. Букашев
считает, что тут замешаны наши ученики. Ему известно, что у жуликов за
посыльного какой-то мальчишка.
- Каракуль? - Рябов покрутил головой. - Дело серьезное. Жаль,
если кто-то из ребят попал в такую компанию. Там умеют держать за
горло. Букашев про кого-нибудь конкретно спрашивал?
- Как всегда, про Мазитова из пятого "Б". Про Акатова из восьмого
"Б"...
- Насчет Акатова - чепуха. Он талантливый мальчик.
- Я помню его деда, акына Садыка. Не первой руки акын, но
случалось, выступал на больших айтысах вместе с Джамбулом, с
Байганиным. Они - орлы, а он - крикливая лягушка. По-нынешнему
сказать: не стеснялся подхалтурить. По пирам с домброй таскался. -
Директор говорил все медленнее, неохотнее. - Вы, наверное, осудите
меня, но я, вопреки своим учительским обязанностям, не беспристрастен
к своим ученикам, не даю каждому в своем сердце места поровну. В уме -
да, но в сердце - нет. Вы знаете младшего сына Садвакасова?
- Еркина? В шахматы не раз сражались. Умный парень.
- У казахов есть такая похвала человеку: "журекты", "львиное
сердце". Львиное сердце мы противопоставляем волчьему, ненасытному.
Журекты! Такой человек не идет, как собака за чужим караваном. Он сам
поворачивает коня на истинный путь. А ваш Акатов, что о нем сказать?
Легкий человек. Все, что он делает, несерьезно. Если добивается успеха
- легкий успех.
Во время разговора пришла Серафима Гавриловна.
- Мы с лейтенантом о каракуле говорим, - сообщил ей Голова. -
Кое-что проясняется.
- Мазитов? - спросила она.
- Возможно. Однако Геннадий Васильевич считает, что надо поискать
кого-нибудь потрусливей, помягче...
Лейтенант удивился: разве он это говорил?
До Чупчи Маша переменила четыре школы. Ей ли не знать, что на
новом месте надо себя поставить в первый же день. Но в первый день
любой новичок действует словно впотьмах, обычаи класса и школы ему
неизвестны.
Последние два года Степановы жили в большом городе на Волге. Маша
занималась греблей и плаваньем, на детских соревнованиях брала первые
места. Но в Чупчи все это ни к чему. Здесь нужно что-то другое, а что
- Маше неизвестно, и некого спросить. Отец ее предупредил: в Чупчи
учатся ребята из аулов, они ничего не видели, не знают, кроме своей
степи. Стыдно считать себя лучше и умнее других только потому, что они
прожили всю жизнь в степи, а ты объехала всю страну, летала на
самолете, плавала на океанском теплоходе. Ладно, Маша не стала
задирать нос. Но почему Сауле Доспаева так враждебно встретила ее и не
пустила к себе на парту? Обидно!
Многое бывает обидно в первый день и после сказывается.
Недели через две комсомольский секретарь класса Доспаева подошла
к новенькой из городка.
- Степанова, какую ты можешь вести общественную работу?
- Тренером по плаванию! - Маша не ответила бы так ни Кольке, ни
Акатову, ни Еркину.
- А еще? - снисходительно улыбнулась Сауле.
- Зимой - по конькам!
Разговора не получилось.
Через неделю Сауле предложила ей пойти вожатой к
третьеклассникам.
- Ой, что ты! - вырвалось у Маши. - Я не справлюсь!
Заметила ли Сауле ее растерянность? Наверное. Они даже не
поссорились - ссорятся друзья. Они поговорили вежливо и разошлись.
Оставшись в одиночестве, Маша принялась учить казахский язык.
Голова поручил Еркину помогать новенькой.
В казахском алфавите к букве "к" привязан снизу хлыстик. Не
"калоши", не "кукла" - совсем другое "к". В нем звучит клекот степной
птицы: "ккказаккк". Буква "о" перепоясана ремешком, она выкатывается
из горла не круглая, ее надо в горле как бы сжать с боков, сделать
чуть похожей на "е" и на "у" - сразу на оба эти звука.
Маша догнала Голову в коридоре:
- Канапия Ахметович, пожалуйста, не ставьте мне пятерок.
Он недовольно подвигал морщинами:
- Ты думаешь, я ставлю тебе пятерки за то, что ты дочь
полковника? Я ставлю отметки за успехи. Для человека, который не знал
ни одного казахского слова, у тебя очень большие успехи. Например,
сегодня ответила все падежные окончания. Наверное, сосед тебе хорошо
помогает. - Морщины мягко расплылись. - Я заметил: писали русский
диктант, ты держала тетрадь, чтобы глядел. Он не стал списывать.
Характер. У него по русскому четверка. У тебя за первый диктант тоже
четверка. Я, наверное, диктую для тебя непривычно?
- У меня и в той школе была четверка.
- Очень уважаемая отметка. Пятерка по русскому - редкая птица
даже в России. У нас в восьмом "Б" пятерка только у Сауле Доспаевой. У
Акатова тройки по казахскому, по русскому - без всякого различия.
Болтает бойко, грамотности нет. У Кудайбергенова честная четверка - по
казахскому, по русскому. У твоего соседа четверка. У наших учеников
могут быть разные отметки по истории и по геометрии, но по русскому
языку и по казахскому всегда отметка одна.
Голова шел по коридору, Маша за ним.
- У меня, Степанова, с детства два родных языка. Два - равновесие
моей жизни. Я учился в Ленинграде, в институте имени Герцена, на
факультете русского языка и литературы. - Голова остановился перед
фотографией старой женщины: темное скуластое лицо, белый головной
убор, как у сагатских старух. - Вот погляди. Знаменитая Марьям
Жагор-кыз. На фотографии она уже старая. Когда была молодая, ее не так
звали. Она русская - Мария, дочь Егора, тезка твоя - Маша. Полюбила
парня-казаха, сложила о своей любви песню "Дударай". Вся степь теперь
поет... В нашей степи, Марьям, издавна живут в тесном соседстве
казахи, русские, украинцы. Такую нам судьбу подарила история. Люди,
выросшие здесь, не пили воду из разных колодцев. Ты приглядывайся,
тебе все должно быть особенно приметно.
Старая песельница глядела с фотографии мудрыми зоркими глазами:
"Ну что, Марьям?"
Как-то полковник подвез из райцентра директора школы. По дороге
разговор шел о степных контрастах: радиосвязь с чабанами современная,
а дорог нет, до сих пор держатся за кочевое скотоводство, а корма
подвозит вертолет.
- Прибавьте еще одно противоречие, - заметил Голова. - Такое
достижение ума, как ваша техника, и такой поселок, как Чупчи, с
саманной школой. - Морщины на лицо директора раздвинулись в усмешке. -
У нашего Абая есть восьмистишие-загадка:
"Их восемь доблестных богатырей,
что меряются силой своей.
Верх то один берет, а то другой,
но кто из них окажется сильней?
Такая вот загадка, Николай Сергеевич. Сразу скажу ответ:
Раздумье нас к разгадке привело:
то лето и зима, добро и зло.
Сверх этих четырех - то день и ночь,
нечетное и четное число.
Полковник задумался.
- Странный список богатырей. Неравные понятия. Добро и зло, день
и ночь, чет и нечет...
- Узор мысли! Восток любит символику. Поглядите на орнамент
казахской кошмы!
- Орнамент? Да-а... Я видел у Мусеке великолепную кошму.
- Жена Садвакасова была художница, - с печалью отозвался Голова.
- Я надеялся, что кто-нибудь из их детей станет поэтом. Но все
занялись точными науками.
Некоторое время ехали молча, потом Канапия Ахметович заговорил:
- Из русских поэтов я люблю Кольцова. Он степняк, понимал
простор. Я воевал в кольцовских местах, под Воронежем... Вы, Николай
Сергеевич, откуда родом?
- Брянский.
- Лесной человек. А Садвакасов рассказывал вам, где он воевал?
- Да, под Москвой.
- Ему до сих пор часто снится, будто заплутал в лесу. Шел по
дороге, не понравилось: чего петляет? Решил, что лучше прямо. Пошел
напрямик, полсуток ходил. А выбрался на дорогу и - петля за петлей -
быстро дошел.
- Ваша речь - очень извилистая дорога! - смеясь, заметил
Степанов. - Оттого, что едем по прямой?
- Такой уж я хитрый! - простовато признался Голова. - Вы ведь
меня собирались о дочери спросить, о сыне. Я угадал? Однако мы уже
въезжаем. Скажу пока одно: у вашего сына опасный товарищ.
- Мне уже говорили. Но Витя своих друзей выбирает сам.
- Наша Серафима Гавриловна очень надеется на Витю. Он хорошо
влияет на Салмана Мазитова... Ну, благодарю, что подвезли.
Выбираясь из "газика", директор накренил своей тяжестью машину.
В последний момент Голова решил ничего не говорить полковнику о
подозрениях завуча, будто Мазитов причастен к хищению каракуля. Нет,
не Мазитов здесь замешан.
А Мазитов легок на помине: встретился директору на школьном
дворе.
- Как живешь? Какие новости? - Морщины на большом лице выразили
живейшее ожидание, будто Мазитов только и делал, что радовал директора
школы интересными новостями.
Салман прикинулся дураком и молчал.
На самом-то деле он был вовсе не дурак. Учителям давно бы
следовало догадаться: дурак и лодырь при такой жизни, как у Салмана,
давно бы пропал, а ему ничего не делается. Знание - сила. Это Салман
давно понял. Он знает, сколько баранов привезли на воскресный базар и
кто перекупщик. Знает, что в бане, в пивном ларьке, из-под прилавка
торгуют водкой, что в универмаге у продавщицы Райки есть черный ход и
отец Салмана часто пользуется этим ходом. Знает он, что Амина
встречается с черным Левкой из городка (встречаются они в Мазаре
Садыка и запирают железную дверь), а "Ф + Н = Л" пишет на стенках сама
Фарида...
Многое знает Салман, но молчит. Участковый Букашев с ног сбился:
кто провозит через Чупчи краденый каракуль? А Салман, встречая
Букашева, злорадно скалится: что ты умеешь, милиция? Только и дел у
тебя, что жаловаться Гавриловне, носить ей бумажки в синюю папку,
чтобы засадить Мазитова в колонию. Но придется подождать, милиция!
Салман своими ушами слышал: на педсовете говорилось, что сейчас вся
надежда на дружбу Мазитова с Витей Степановым.
Витя учится без двоек, даже без троек, а по ботанике и зоологии
знает в сто раз больше, чем сама учительница. Ящериц, птиц и мышей для
чучел убивает Салман - Витька при этом закрывает глаза, затыкает уши.
Но что правда, то правда: снять скальпелем мышиную шкуру или птичьи
перья с кожей может только Витя. Скальпель ему подарила Софья
Казимировна. Чтобы Витька его не потерял, Салман эту замечательную
вещь всегда прячет себе в карман.
Чучел они за осень сделали много. Но вот беда - если умеючи
взяться, можно их продать и хорошо заработать, а Витька отдает
задаром. За один почет отдает, за надпись: "Работа учеников 5-го "Б"
Мазитова С. и Степанова В". Хотя что Витьке! В доме у него полно всего
- и еда, и одежда, все есть.
Отец у Витьки добрый, мать не жадная, его сестра Салмана по
голове гладит: "Очень жесткие у тебя волосы. Разве ты злой?" Салман ее
боится немножко. Вообще он ничего не боится, ни Головы, ни Гавриловны,
ни участкового, а перед Витькиной сестрой трусит.
Недавно вечером сидели у аквариума. Люстру погасили, зажгли в
зеленой воде свет, рыбки медленно плавали - красиво! Пришла Витькина
сестра, села рядом на диване, стала рассказывать, как поймала птицу
руками. Они тогда не здесь жили. Кипел казан с бельем, птица села на
деревянную крышку, чуть не свалилась в огонь. Потом вспомнил Витька,
как заблудился в высокой траве. Маша сказала: "Я помню, ты не в траве,
ты в кукурузе заблудился, тебя полдня искали". Потом стали вспоминать,
что отец в войну мальчишкой был, двенадцати лет. Фашисты его
расстреляли вместе с родителями, а один наш офицер нашел его живого в
яме, сыном полка назвал, отвез в суворовское училище.
Вспоминали Витька с сестрой, а после поссорились. Какое море
синей - Берингово или Черное. Витька ей сказал: "Ну и дура!"
Салман не хотел, чтобы Витькина сестра дружила с Сауле. В доме у
Мазитовых не любили всю доспаевскую семью. "Я бы на месте Доспаева..."
- презрительно сплевывал отец. Был бы он не сторожем, а главным
врачом, умные порядки завел бы в больнице. И у матери Салмана свои
счеты с больницей: год назад в детской палате умерла одна из
Салмановых сестренок. "У Доспаевой в палате лежала, по ее вине
умерла", - клялась мать.
Салман не ленился, если видел, что есть возможность напакостить
Сауле. Он был изобретателен на самые дурацкие мелочи и с мальчишеской
мстительностью понимал, как может унизить Сауле, заставив ее думать о
копеечных обидах. Как-то раз он заметил: она на него поглядела
подозрительно, и был рад, словно нашел десятку: прежде Сауле Доспаева
будто и не знала, что есть в Чупчи такой человек - Салман Мазитов.
Маша простудилась, сидит дома. В прежней школе к ней бы в первый
день прибежали друзья, а тут никто не идет.
С утра пораньше Степановым привезли сайгачатину, Маша выглянула в
коридор. На полу валялись две стылые туши в пятнах запекшейся крови.
Разрешение на отстрел выхлопотал Коротун. Вчера он звал Степанова
ехать за сайгаками, но Степанов отказался: отстрел - это не охота.
На кухне мама гремит кастрюлями - собирается варить консервы из
сайгачатипы. На всех кухнях городка сегодня будут варить консервы,
потому что в городках все делается коллективно.
Маша тоскливо глядит в окно. Дым из труб, словно дома разводят
пары, собираясь в плавание.
"Скорее бы нас перевели отсюда", - думает Маша.
Кто-то нетерпеливо давит на кнопку дверного звонка. Мама из кухни
бежит открывать.
- Проходите, проходите! - слышит Маша. - Наконец-то! Она уж
заждалась!
Маша спешно наводит порядок. Расправляет одеяло, смахивает в ящик
тумбочки скуноженные горчичники, взбивает волосы расческой.
Входит мама, за ней сияющая родинками Фарида. Всего лишь Фарида.
- Ты подумай, какая радость, - сообщает мама, - Фарида говорит,
что здешней больнице нужна медсестра.
Это на самом деле большая радость. Маша знает: всюду мама с
трудом находит хоть какую-нибудь работу.
Фарида без стеснения разглядывает Машину комнату. Еще никто из
ребят тут не бывал. Только Салман - Сашка, но он не считается. Первая
у Маши гостья - Фарида.
- Я тебе уроки принесла. Доспаева говорит: кто хочет пойти к
новенькой? Все молчат. А я и раньше тут бывала. Алику носила
новогодний подарок. Это давно было - в четвертом классе. С Аликом тоже
никто не дружил, он трус! Я и сама презираю, если мальчишка не
храбрый. У нас самый смелый в классе, по-твоему, кто? Акатов! В
прошлом году на спор с крыши прыгнул. Я Еркину сказала! "Теперь ты!" А
Еркин прыгать не захотел. Конечно, ему-то зачем, его и так все
уважают. У него на отару волки напали, а отца не было. Отбился сам. За
волка премия полагается - пятьдесят рублей.
Лицо Фариды сияет. Если уж рассказывать - так рассказывать все, и
про себя тоже.
- Мне Акатов просто жуть как нравится. Он самый остроумный в
классе. Я замечаю, он на меня иногда та-а-ак глядит! А тебе уже
кто-нибудь понравился из наших мальчишек?
- Ни... никто.
- Садвакасов, конечно, умный, брат у него академик, все
Садвакасовы в ученые вышли. Ты у Еркина ручку видела? Американская!
Ему старший брат все заграничное присылает, но Еркин никем из девчонок
не интересуется. Я в пятом классе в него влюби-и-илась! - Фарида
округляет глаза. - А сейчас в него Шолпашка по уши, а он ей - ни одной
записки. Я Нурлану каждый вечер пишу, анонимные, пусть поволнуется...
Мы теперь подруги с тобой? Ты в Нурлана не влюбляйся. Ладно? Ты в
Кольку! Он по Саулешке страдает. Колька русский - ты не знала? Его дед
еще давно, когда с басмачами воевали, фамилией поменялся с одним
узбеком. Он этого узбека от смерти спас, вот и поменялись. Такая
замечательная героическая история! Мы Колькиного деда на пионерский
сбор хотели пригласить - Гавриловна отсоветовала. У Кольки дед
необразованный. Ты сама Кольку спроси про узбека, я завтра к тебе
приду, Кольку с собой позову и Нурлана... Ладно?.. Можем в домино
сыграть, как раз четверо будет. Колька любит играть в "морского
козла", а ты умеешь?..
Маша еле успела вставить: "Умею". Да, недаром Колька
Кудайбергенов называет Фариду сорокой. Однако сам-то он не догадался
прийти к Маше. И Доспаева не пошла.
- Обязательно приходи завтра! - просит Маша. - И Нурлану скажи, и
Кольке.
- Мы теперь подруги! Конечно, приду!
За два часа Маша узнала о Чупчи столько, сколько не узнаешь и за
два месяца. Кто бы мог подумать, что у Кольки Кудайбергенова в семье
такая удивительная история! И Еркин... Все мальчишки хвастуны. А этот
хоть бы вспомнил про волка!
Под вечер Маша одна в квартире. Мама ушла, Витька с приятелем у
Рябова. Папа с утра предупредил, что поздно вернется. Тихо кругом -
слышишь, как в батареях переливается вода. Но вот кто-то ключом
поскребся в замочную скважину, отворил дверь, топает в прихожей...
Витька? Маша босиком бежит через комнату, выглядывает в коридор. На
полу сидит Сашка, разувается, оглянулся волчонком:
- Меня Витька прислал... Рыбок кормить.
Странный он какой-то - Сашка. У Витьки всегда приятели странные.
Там, где жили раньше, Толик ходил, никто от него слова не добился,
кроме: "Витя дома?" - и то шепотом.
- Сашка!
Он нехотя является.
- Ну!
- Возьми там, на сковородке, для вас с Витькой котлеты.
- Не! Мы у лейтенанта печенку сайгачью жарили. - И шмыгает носом.
- У меня сейчас девочка из нашего класса была.
- Ну, знаю, - Сашка ухмыляется. - Фарида.
- Что ты нашел в ней смешного? - строго осаживает Маша.
- На стенках пишет: фы плюс ны.
- Ты видел?
Сашка мотает головой.
- Не видел - зачем наговаривать?
Сашка молчит. В это время легонечко затренькал звонок.
- Не слышишь? - говорит Маша. - Иди открой!
Сашка усмехнулся, пошел. С кем-то там у двери: бу-бу-бу.
Коридором протащил в кухню что-то тяжелое? Мешок?
Маша устраивается поудобнее, поближе придвигает лампу и открывает
"Мушкетеров".
Сколько времени прошло? Уже отец дома, Витя шляется по квартире в
мамином халате, Сашки нет - домой ушел. Мама вернулась от Марии
Семеновны.
- Как дела? - отец берет у нее и захлопывает "Мушкетеров". -
Температуру мерила? Забыла... И ладно, кому она нужна! Давай-ка
попросим маму. Ты носки теплые наденешь, кофту, с нами посидишь, чаю
попьешь.
В кавказских колючих носках Маша с удовольствием выбирается на
кухню. Под всеми широтами у Степановых была и будет привычка вечерами
сходиться на кухне. Тут всегда у них уютней, домашней, чем в других
комнатах.
Маша замечает в углу возле холодильника черно-пестрый мешок. Тот
самый, что Сашка, сгибаясь, волок по коридору.
- Откуда? - спросила Маша.
- Помнишь, старичок у нас был в гостях? - говорит мама. - Здешний
чабан, очень симпатичный. Он прислал папе казы. Полуфабрикат конской
колбасы.
- Полуфабрикат! - фыркает младший братец. - Ты, мам, скажешь!
- Конечно, полуфабрикат. Тот мальчик велел передать - в сыром
виде есть нельзя, два часа варить.
- Тот мальчик? Кто?
- Еркин приходил, младший сын Мусеке, - говорит Маше отец. - Он,
кажется, в твоем классе?
Ну Сашка, ну вредный тип! Значит, открыл Еркину, и нет чтобы Машу
позвать, хотя бы крикнуть ей, кто пришел. Бу-бу-бу...
- Что же ты к Еркину не вышла? - упрекает отец. - Выздоровеешь -
непременно извинись. Он славный парень, собирается стать чабаном, как
и отец.
- Что, слабо учится? - спрашивает мама.
- Вовсе не слабо, - обижается за Еркина Маша, - по математике
самый способный.
- Алгебру арабы придумали, я читал, - встревает Витя, - а
геометрию греки.
Маша вылезает из-за стола, идет к себе.
- Не засыпай! - наказывает мама. - Я сейчас приду, горчичники
поставлю.
Маша, уткнувшись в подушку, ревет в три ручья.
- Господи, да что с тобой?
Приходит папа, гасит свет.
- Спи, Машка! Утро вечера мудренее.
Фарида привела в городок Кольку и Нурлана. Нурлан принес с собой
гитару.
Как он ею обзавелся - целая история.
Старый черт Мазитов настойчиво подталкивал Нурлана: знакомься с
солдатами какие побойчей и с деньгами. В универмаге Нурлан приметил
уверенного парня из городка, купившего китайскую вазочку. Продавщица
Рая, Фаридкина молодая тетка, хихикала и стреляла глазами; другой бы
сомлел, а солдат интеллигентно расписывал, какую перегородчатую эмаль
делали в древней Византии, какую в Китае.
Вышли вместе. Нурлан показал солдату из-под полы золотистую
шкурку.
- Очень интересно! - Володя Муромцев погладил завитки. - Но у
меня другой вкус.
- Ты, я вижу, человек деловой, - продолжал Володя в тоне доброго
покровительства, ставящем Нурлана в положение услужливое: он это
чувствовал, внутренне протестовал, но отделаться уже не мог. - Не
поможешь ли мне раздобыть что-нибудь из старинных вещиц, из творений
здешних умельцев?..
Нурлан вспомнил: домбра деда Садыка висит без дела на стенке у
дяди Отарбека в Тельмане.
- Продай! - предложил Володя. - А то махнем? У меня гитара есть,
самый модный сейчас инструмент.
Нурлану за дедову домбру Володя в придачу к гитаре напел весь
модный репертуар. Рыжий мальчишка оказался на удивление переимчив:
суть схватил, саму манеру шепотного московско-переулочного исполнения.
Хотя под казахскую домбру - рыжий Володе показывал - поют
высоко-пронзительно, в долгий крик. Но всего удивительней вот что
оказалось для Володи: мальчишка пел дешевку, ширпотреб, а слушаешь -
за сердце берет.
Послушать Нурлана к ребятам в комнату пришли отец Маши и лысый
майор. Майор послушал, послушал, не вытерпел и протянул руку.
- Дай-ка!
Он долго настраивал гитару, потом страдальчески вскинул брови и
начал:
- "Синенький скромный платочек..."
Он пел, подражая модной когда-то певице, ее жеманной манере.
Песенка фронтовых лет увела его в далекие годы, когда был лейтенантом
с задорными усиками, в щегольской бекеше, в сапогах со шпорами.
Маше было жаль Коротуна: неужели он не замечает, что смешон?
Майор домучил "Синий платочек" и собирался петь еще, но бойкая
Фарида перебила:
- Маш, а Маш... Ты хотела у Кольки узнать про деда. Коль, а
Коль... Расскажи!
- Да чего там... - смутился Колька.
- Ну, не буду вас стеснять! - Коротун поднялся.
- А может, и нам пора? - спросила Фарида. - Надоели больному
человеку.
- Ничего не надоели, - запротестовала Маша. - Скучно целый день
одной.
- А я, бы пожил один, - позавидовал ей Колька. Он сидит за
письменным столом, разбирает поломанный будильник. - Дома минуты покоя
нет, малышня лезет. Вчера только отвернулся - уволокли паяльник и
комод разделали.
Нурлан побренчал струнами.
- Ты не крути, ты про деда рассказывай.
Колькиного деда каждый раз надо было подолгу упрашивать, чтобы
поведал свою историю. Дед вздыхал, хмурился, сосал сигарету и нехотя
начинал:
- Я уже, значит, демобилизовался, а он в кавбригаде служил у
Карпенки. В тридцатом году опять басмачи объявились. Карпенко их угнал
за Чу, в киргизские горы. В тех горах и попал в плен к басмачам боец
Фетисов. Ему допрос, как водится у басмачей. Курбаши спрашивает: "Кто
такой? Как зовут? Какие планы у командования?" Известно, чего им,
басмачам, надо. А друг мой язык на замок - молчит. Курбаши к нему с
подходом: "Ты же наш. Ты мусульманин". А дружок ему в ответ: "Я боец
красной конницы Фетисов". Уже после один пленный басмач показывал, как
все было. Курбаши налетает: "Врешь! Ты не русский! Ты мусульманин!" А
он на своем стоит: "У тебя, бандит, мой документ в руках! Разуй глаза!
Написано: Фетисов!" Басмачи его ножами, а он им: "Нет и не будет у
меня другого имени. Фетисов я, и точка"... - Дед поникал головой,
смахивал слезу. - Так и погиб Фетисов. Нашли его конники истерзанного:
грудь истыкана, глаза выколоты, язык отрезан. Там, в киргизских горах,
и похоронили. Написали на камне: "Красноармеец Фетисов. Зверски убит
басмачами. Спи спокойно, товарищ, мы за тебя отомстим". До сих пор,
сказывают, камень при дороге лежит. Люди читают и думают: "Эк занесло
тебя, русского мужика, помирать в такую даль". Иной раз ночью не спишь
- камень могильный на грудь давит...
Историю Колькиного деда рассказывал Нурлан, а Колька тем временем
ладил и ладил будильник. Кончил и заулыбался.
- Сейчас проверим, ходит или нет. - Поднес будильник к уху. -
Тикает! А ну-ка звон проверим! Без звона будильнику грош цена. -
Колька перевел стрелки, будильник залился оглушительной трелью. -
Голосистый! С таким не проспишь.
- Что я говорила? - подхватилась Фарида. - У Кольки выдающийся
технический талант... А у Нурлана музыкальный, - не забыла она
вставить.
Нурлан Фаридку терпеть не может, но обрадовался похвале,
забренчал на гитаре.
- А что, ребята? Не сочинить ли мне песню про Колькиного деда?
- Да ну тебя! - отмахнулся Колька.
Зато Фарида так и захлопала крыльями: конечно, напиши! У тебя
замечательно получится!
Когда Маша пришла в школу после болезни, у нее уже была своя
дружная компания, и это - без всяких ее трудов - поставило Машу в
школе на то место, какое ей теперь полагалось по сложившимся между
ребятами отношениям.
Майор Коротун как-то встретил Нурлана возле дома, зазвал к себе.
Жена майора, шумливая Мария Семеновна, рассказывала всему женскому
населению городка:
- Мой-то с мальчишкой песни поет по вечерам. С ума спятил.
Нурлану понравилось ходить к майору. Мария Семеновна откроет
дверь, крикнет в глубину квартиры: "Коротун! Твой кунак пришел!"
Сколько раз ей говорил Нурлан: нет кунаков в степи, тамыры есть, но
Марию Семеновну не переучишь. Нурлан с ней не пререкается, идет к
майору, садится рядышком на диван - и пошло... "Ты теперь далеко,
далеко. Между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до
смер-ртя четыре шага..." Нурлан знает: солдаты Коротуна не любят,
прозвали "уставчином", но ему, Ржавому Гвоздю, плевать на прозвища,
если человек плачет от хорошей песни. Нурлан еще придет, посидит с
майором на диване, споет ему "Соловьи, соловьи, не тревожьте
солдат...".
У Маши в комнате слышно: весь вечер напролет бренчит внизу
гитара, поют два голоса. Фарида приходит и начинает возмущаться:
- Взрослый человек, а не понимает, что Нурлану еще надо физику
выучить. Его завтра непременно спросят.
Но вот наконец гитара смолкла. Фарида выскакивает в коридор,
торопливо натягивает модное красное пальто. Она успевает столкнуться с
Нурланом на лестнице, ему некуда деваться, он идет из городка в
поселок вместе с Фаридой, а назавтра в классе все об этом знают, хотя
Маша ни разу не проболталась.
- Уж такое место наш Чупчи! - Фарида закатывает глаза. - Здесь
всегда все известно.
Стук в дверь, отцовские босые прыжки - от двери к окну, от окна к
печи, истошные крики матери. Вошли четверо, два казаха, русский и
татарин, все не местные, но откуда-то они знали, что и где им искать в
хибаре больничного сторожа. Они отыскивали и выкладывали на стол пачки
денег, пересчитывали, записывали. Салман раньше отца догадался:
милицию навел на их дом Ржавый Гвоздь. Зря отец доверил Акатову
рисковое дело. Старый способ пересылки товара был верней. Проводник
вагона привозил отцу ящик с яблоками и забирал туго зашитый мешок.
Отец в больнице открыто приторговывал яблоками из посылок,
участковый Букашев придирался: мелкая спекуляция. Простой и умный был
способ у отца, но зачем-то понадобилось старому черту связаться с
Ржавым Гвоздем, поехавшим с классом на экскурсию в Алма-Ату. Видно,
хотел покрепче запутать Акатова, а вышло наоборот. Влип, значит,
Ржавый Гвоздь в Алма-Ате.
"Трус Акатов. Трус и предатель", - думал Салман, а голая лампочка
под провисшим прокопченным потолком светила все ярче. Вечером она
горит вполнакала, потому что весь Чупчи жжет электричество, а тут
поселковая трансформаторная будка работала на один мазитовский дом,
где чужие люди считали деньги, много денег. Салман заметил: не отец
стыдится, что при таком богатстве жил как нищий, а чужие чувствуют
себя неловко, считая деньги в мазитовском голом доме, где с ломаных
кроватей поднялись, глядят на них разбуженные ребятишки, у которых
сейчас, посреди ночи, уведут в тюрьму отца. Салман уже понимал: отца
уведут. Понял сразу, едва милицейские вошли. А младшие догадались,
заревели на все голоса, только когда за отцом захлопнулась низкая
набухшая дверь. Мать выбежала следом, сыпала проклятиями в спины тем,
кто увел из дома хозяина, унес кровные денежки, грозила каждому из
четырех: "Проклятие твоему отцу и матери!" - и обоим казахам, и
русскому, и татарину. Вернувшись в дом, повалилась на постель и начала
кататься по ней, хватая зубами то руки свои, то в блин умятую, сальную
подушку. Салман спрыгнул со своей лежанки, погасил свет. У него в
кулаке размякла плитка шоколада, из жалости подсунутая милицейским.
Салман в темноте нашаривал зареванные рты малышей, вталкивал сладкие
обломки. Малышня зачмокала, стала утихать, а он наскоро собрался и
выкатился на улицу.
Сухой заморозок ожег воспаленные от ночного яркого света глаза.
Некуда Салману пойти в тепло, кроме как в школу. Портфель с книжками
он решил спрятать на школьном чердаке.
По железной лестнице Салман забрался на чердак, зарыл свой
портфель в груду разного хлама и через люк спустился в коридор. В
уборной он напился из-под крана, поплескал водой в лицо, вытерся
рукавом. Ему пришла мстительная мысль написать на стенке про Акатова:
пускай все узнают правду. Салман вытащил из кармана красный карандаш,
Витькин подарок, вывел печатными буквами: "Акатов предатель".
В коридоре послышались громкие женские голоса. Салман осторожно
выглянул. Гавриловна уже заявилась, распекает за что-то уборщицу. Чего
доброго, сунется сейчас и в мальчишечью заповедную. Днем-то ей сюда
ходу нет, гонять курильщиков она посылает Василия Петровича, учителя
физкультуры.
Еле успел Салман перебежать в закуток за железной круглой печкой.
Гавриловна распахнула дверь уборной и увидела надпись на стенке. "Это
что за безобразие!" Салман в закутке злорадно хихикнул. Гавриловна и
уборщица пошли дальше, зажигая по пути свет в коридоре и в классах.
Наконец их громкие голоса захлопнулись в учительской. И тут Салман
услышал за дверьми школы скрип притормозившей легковушки. Выстрелила
закрытая сгоряча дверца. Салман знал, кто в Чупчи так хлопает дверцей
машины. Приехал Доспаев. Но откуда ему уже все известно?
Доспаев шел по коридору в белом халате под пальто, накинутом па
плечи. Значит, едет куда-то к больному, а в школу завернул по дороге.
Салман подкрался к учительской, куда вошел Доспаев.
Нет, главный врач еще ничего не знал об аресте больничного
сторожа Мазитова. Он заехал в школу по другому делу. Доспаев недавно
узнал, что в школе какие-то хулиганы за что-то мстят Сауле.
- Мазитов? - сразу же спросила Гавриловна.
- Вряд ли он один. Вдвоем с мальчишкой из городка. У Сауле что-то
вроде ссоры с его сестрой. Думаю, что она натравила брата, а он своего
приятеля.
- Ишак безмозглый! - Салман, притаившийся за дверью, выругался
шепотом себе в кулак.
Доспаев продолжал рассказывать Гавриловне, что Софья Казимировна
однажды подарила мальчишке из городка скальпель. Эту улику обнаружили
там, где в Саулешку швыряли мокрой известкой.
- Мешок дерьма! Свиной ублюдок! - обозвал себя Салман, но душа
его не облегчилась бранью, заныла и затосковала. - Дурак я! Дурак! -
Он двинул себя кулаком в зубы. То, с чем Доспаев спозаранку примчался
к Гавриловне, оказалось тяжеленным довеском к ночной беде. Не зря отец
говорил: когда враг берет за ворот, собака хватает за полы.
Салман убрался в закуток за печью и чувствовал себя жалким
сусликом. Некуда деваться: нора залита ледяной водой. Вода подымается
все выше, выталкивает суслика в руки врагам. Даже самый трусливый
зверь - суслик или заяц - кусается, пускает в ход когти, когда
приходит безвыходный час. Салману хотелось царапаться, драться. Не
оброни он, растяпа, тот скальпель, мог бы сейчас броситься на
ненавистного Доспаева. Все равно теперь колонии не миновать:
заведенная Гавриловной папка полна до краев.
Он упустил время, когда мог незаметно уйти из школы. И вот
получилось: Салман, хотя и без книжек, запрятанных на чердаке, сидит
за своей партой в пятом "Б", рядом с ничего не знающим Витой.
Измученный бессонной ночью, он угрелся и вздремнул за партой. Учителя
не трогали Салмана: ни вопроса, ни замечания. Пришел, сидит - и на том
спасибо. Так прошли два урока, третьим была физкультура, но Василий
Петрович не повел пятый "Б" в зал - объявил классный час.
Салман вздрогнул и проснулся: "Конец! Попался! И Витьку не успел
предупредить!"
- Позор всему пятому "Б"! - гремел над классом голос, привыкший
подавать команды. - Совершен отвратительный поступок!
Салман краем глаза глянул на соседа по парте, увидел испуг на
чистеньком лице с аккуратной светлой челочкой.
Еще никто из самых трусливых подлиз не ткнул пальцем в Салмана
Мазитова, а единственный друг Витя Степанов струсил. Вот когда ударила
Салмана предательски в спину Витькина слабость, которую он раньше
всегда прощал.
Салман бросил в чистенькое испуганное лицо: "Суслик! Предатель!"
- и пошел из класса. От злости он будто оглох. Не слышал: кричат ему
вслед или нет. Он уходил, не унижаясь трусливым бегством, но и не
медлил, а то подумают, что Мазитов еще надеется на прощение. Вот он
уже во дворе школы - виден из всех окон. Многие сейчас видят: навсегда
уходит из этой проклятой школы самый ненавидимый ею ученик. И пускай
книжки-тетрадки, купленные не за его - за школьные деньги, сгниют на
чердаке. Салман Мазитов никогда не вернется сюда.
- Сашка! Погоди! - услышал Салман.
Витя бежал через двор, натягивая пальтишко.
- Сашка! Постой!
Салман нагнулся, схватил с земли промерзлый кизяк.
- Ну! Ты! Суслик! Не лезь. Пришибу!
- Да ты что? - Витя остановился.
- Не лезь! - Салман погрозил промерзлым увесистым комком,
повернулся и пошел. Сначала куда глаза глядят - подальше от поселка,
от школы. Потом сообразил - пешком далеко не уйдешь, повернул к
станции.
Оглянувшись, Салман увидел: Витя упрямо идет за ним.
Витя знал: его дело теперь идти за Сашкой, не отставать. Книжник
и в практических вопросах неумеха, Витя не только поспел выскочить из
класса за Салманом, но, словно подтолкнутый под руку кем-то неведомым,
догадался сдернуть с вешалки у дверей свое пальтишко и шапку. Будто с
самого начала предвидел: им предстоит долгий путь.
Они сделали круг по степи, и теперь Витя видел впереди станцию.
Салман шел прямиком к ней, не оглядываясь.
За семафором, в километре от станционных построек, стоял длинный
товарный состав. Салман нырнул под платформу - Витя за ним, весь дрожа
от страха: вот поезд тронется, огромные тяжелые колеса раздавят его в
лепешку. Но состав терпеливо стоял. Вынырнув по другую сторону, Витя
увидел быстро убегавшего Салмана. Он тоже побежал, жалобно выкрикивая:
- Сашка! Постой!
Салман заметил: чуть отодвинута дверь товарного вагона -
сантиметров на сорок, не больше. Он подпрыгнул, цепко повис и
протиснулся в щель. Вскочил на ноги и приналег изо всех сил - закрыть
щель. Но тяжелая дверь не поддавалась.
Витя с первого раза сорвался, но со второго подтянулся на руках и
лег животом на пазы, по которым ходят такие двери - ноги его болтались
в воздухе, лицом он уткнулся в пол вагона, замусоренный чем-то едким.
И тут состав дернулся, резкий толчок стронул тяжелую пластину двери,
не поддававшуюся мальчишеским усилиям... Салман еле успел схватить
Витю за шиворот, втащить в вагон - дверь задвинулась, и стало темно.
Прогремели под колесами стрелки, поезд убыстрял ход.
- Попались! - сказал Витя. - Теперь не спрыгнешь.
- А мне и не надо спрыгивать! - Салман сплюнул набежавшую слюну.
- Я далеко уеду.
- Куда далеко?
- Во Владивосток! - с ходу придумал Салман.
Витя тоже сплюнул, чувствуя кислоту на губах.
- Во Владивосток надо ехать через Новосибирск. А этот поезд идет
на юг, в Ташкент.
- Ты откуда знаешь? На юг, на север? Сам в кукурузе заблудился.
- Я тогда маленький был. Чудак ты, Сашка. Сейчас часов
одиннадцать. Солнце было от нас слева. Значит, едем на юго-запад...
Слушай, что за порошок тут в вагоне рассыпан? Все время плеваться
хочется. Химия какая-то! Выбираться надо отсюда. И вообще еще
неизвестно, исключат тебя из школы или нет. Хочешь, я с отцом
поговорю?..
- Вот этого не хочешь? - Салман сложил кукиш. - Сегодня ночью
моего отца в тюрьму забрали.
- В тюрьму? За что?
- За хорошие дела! - Салман подошел к двери, налег плечом. -
Сейчас я тебе, Витька, открою. - Он тужился изо всех сил, но впустую.
- Открою, и катись отсюда на первой же станции. Я тебе больше не друг.
Мой отец вор, хуже вора. Ну, чего стоишь? Помоги, суслик несчастный!
Сколько лет живешь на свете, ничего в жизни не понимаешь. Сын вора я!
Понял?
- Понял... Отца посадили, но ты же не виноват. Ты честный!
- Ничего ты не знаешь! - заорал Салман. - Я тоже вор! На базаре
воровал? Воровал! Одеяло украл? Украл! Что? Испугался? Не бойся, у вас
дома я ничего не украл. Хватит разговаривать - толкай дверь!
- Вместе слезем! - упрямо повторял Витя. - Вместе!
Сколько они ни толкали, дверь не открывалась. Поезд получил
зеленую улицу и все дальше увозил их от Чупчи.
- Сдохнем мы тут от дуста, как клопы! - сплюнул Салман.
- Нет, это не дуст. На фосфор похоже, - Витя облизнул палец,
макнул в порошок. - Жжется немного. - Он посопел нерешительно и все же
спросил: - Ты зачем известкой в ту девчонку бросал?
"Ничего не понимает! - горестно удивился про себя Салман. -
Откуда только берутся такие беспонятные люди? "
Вечером Колькин братишка-третьеклассник ходил в интернат на кино
про Тарзана. Притопав домой, братишка шепнул Кольке: "Ржавый Гвоздь
сбежал. Воспитатели еще не знают, но среди ребят ходит такой
разговор".
Не теряя времени, Колька подался в интернат. В учебной комнате
подремывал на клеенчатом диване дежурный воспитатель Дюсупбек
Жунусович, по-школьному Дюк. Спальня старших ребят пустовала. Колька
полез в Нурланову тумбочку и понял: Ржавый Гвоздь на самом деле
смылся. Дюку Колька, конечно, ничего говорить не стал, а Дюк - лодырь,
перед сном поверок не устраивает, ночью спален не обходит - дрыхнет в
учебной комнате.
Из интерната Колька припустил не домой, а на садвакасовскую
зимовку. Дома ему сейчас делать нечего. Если деду сказать: "Нурлан
попал в беду", дед протянет ехидненько: "А-а-а... Внук старого Садыка?
Помню я Садыка. Тоже был артист. За рубль заставишь, за тысячу не
остановишь". Послушать деда, так от Садыка никакого доброго семени
пойти не могло: и отец Нурлана не работник, и отцов брат, Отарбек из
Тельмана, вовсе балалаечка без струн - ни к какому делу не пристал, и
теперь определили его заведовать клубом. А какой там клуб на
отделении? Мазанка небеленая, раз в неделю заезжает кинопередвижка. Но
Отарбек и веника в руки не возьмет. "Я заведующий. Руковожу
культурно-массовой программой. Для подметания прошу выделить штатную
единицу".
Так уж выходило: встревожившись за друга, Колька сразу вспомнил
про Отарбека. И прежде при всех передрягах Нурлан имел обыкновение
подаваться за помощью и советом не к толковым людям, а к балаболке
Отарбеку.
Что с Нурланом теперь-то?
Кольке и в голову не пришло, что побег Нурлана был связан с
передрягой, приключившейся летом в Алма-Ате. Нурлан имел тайное
поручение от Мазитова и адрес. По этому адресу он налетел на милицию,
арестовавшую перекупщиков и караулившую, кто еще придет за товаром.
Нурлана допросили и отпустили, приказав помалкивать.
Мазитова он настолько боялся, что даже Кольке ничего не
рассказал. И после ни о чем не вспоминал. Поэтому Колька начисто
забыл, как однажды в Алма-Ате притопал Нурлан откуда-то очень поздно и
клацал зубами.
У Еркина Колька застал родича Садвакасовых, десятиклассника
Исабека. Всегда тугодум, а тут оказался самым шустрым. Пока приятели
решали, где и как искать Нурлана, Исабек ненадолго исчез и привел пару
лошадей.
Еркин и Колька выехали на другой день спозаранку и потому ничего
не знали ни про арест сторожа Мазитова, ни про побег двух
пятиклассников.
От Чупчи до Тельмана было по степному счету километров двадцать.
Название аула - Тельман - произносится с ударением на последнем
слоге, как все казахские слова. Здесь когда-то организовался один из
первых в степи колхозов, взявший имя немецкого коммуниста Эрнста
Тельмана. Сначала говорили: "имени Эрнста Тельмана", потом упростили:
"Мы из Тельмана...", а с годами укатали на степной лад: "Где живешь?"
- "В Тельмане".
У крайних домов Еркин придержал коня, перевел на медленный шаг.
Не любят в аулах дуралеев, скачущих к жилью во весь опор, будто с
вестью о вражеском нашествии.
Они ехали единственной улицей, В Тельмане казахи, украинцы и
немцы жили в тесном соседстве, но на отличку. Украинец белил хату и
расписывал наличники. Немец не тратил деньги на архитектурные
излишества, весь хозяйственный пыл вкладывал в надворные крепчайшие
постройки. Казах убирал дом коврами и держал двор голым, как ладонь:
пускай степь расстилается до самого порога.
Из всех казахских дворов самым открытым стоял двор Отарбека.
Еркин огляделся: негде и лошадей привязать. Выручила посыпавшая из
дверей мелюзга - приняла поводья. Вместе с ней плеснул на улицу звон
струн и высокий рыдающий голос.
- Здесь наш друг-приятель! - Еркин толкнул покосившуюся на одной
петле дверь.
В единственной комнате духота, не прибрано. Посередке, на кошме,
лист газеты, миска с вареным мясом, зеленая бутылка, два захватанных
стакана. Колька оторопел от такого пьяного безобразия, а Еркин чинным
гостем подсел к газетине-дастархану.
- Ты пой, пой... Извини, если помешали.
Нурлан ударил по струнам:
- ...На поленьях смола как слеза. И поет мне в зем-ля-а-а-нке
гармонь при улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в
белоснежных полях под Москвой... Я хочу, чтоб услы-ы-ышала ты, как
тоскует мой голос живой...
Отарбек всхлипнул, выкатил откуда-то еще два грязных стакана.
Бритая голова Нурланова родича белела пролысинами. Он тазша - плешивый
после болезни, перенесенной в детстве.
Еркин будто не замечал, что ему наливают из зеленой бутылки.
- Еще спой.
- Русскую? - Нурлан держался задирчиво. - Романс старинный. Тебе
посвящаю! Гори, гори, моя звезда...
Колька молча злился: "Ладно! Ори, ори, моя звезда! Покажу после,
как всякие штучки выкамаривать".
- Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда... - Нурлан
пел без пижонства, нараспашку - с казахской и с русской удалью.
Старинный романс он перенял у Коротуиа. Только майор, когда пел,
изламывался весь от грустных чувств, а Нурлан откуда-то знал: это
поется со строгим лицом и не в тоске, а светло, счастливо.
У Еркина против воли горячо стало в груди, тревожные токи
побежали по крови. Думал про Нурлана: бесстыдный он, что ли? Сам
открылся напоказ. Думал про себя: "Я так никогда не смогу, не
вывернусь наружу - сдержусь, поводья не отпущу".
Еркин знал: Нурлан вовсе не сердцем живет, болтовней. Но
позавидовал Нурлановой открытости, осудил свою неизменную выдержку.
Всегда Еркин словно перепоясан тугим ремнем, всегда словно с удилами в
зубах: грызи - не перегрызешь за всю жизнь, не выплеснешь горя, не
разбросаешься радостью, как бросаются сластями на аульных свадьбах.
Нурлан последний раз ударил по струнам и пропел:
- Че-го при-е-ха-ли?
Колька выпалил:
- Тебя, дурака, проведать!
- Совет держать, - сказал Еркин. - Один ум хорошо, два лучше.
Отарбек тут же придрался:
- Ты, выходит, умный? А я, по-твоему, не советчик сыну моего
любимого брата?
- Простите, агай! Мы ждем вашего совета.
Отарбек важно выпятил нижнюю губу, сплюнул жвачку на выщербленный
пол и закатил торжественную речь. Нурлан талант. Нурлану не нужна
вонючая чупчинская школа. Вы хотите, чтобы он пас овец или в конторе
щелкал на счетах? Никогда! Таланту необходима вольная жизнь. Нурлан
внук Садыка. В любом доме ждет Нурлана заслуженный почет, еда и
ночлег. Пора вернуть в степь добрые традиции, когда певца кормила
домбра и он ни перед кем не ломал шапку.
Отарбек разглагольствовал напыщенно, крикливо. Однако, начав про
Нурлана, вскоре забыл обо всех талантах и несчастьях любимого
племянника и взахлеб заговорил о себе. Он, Отарбек, выдающийся сын
народа, загубленный злодейкой жизнью и завистниками одноаульцами. Если
бы не жена - ей каждый день давай еду! Если бы не председатель - ему
каждый день выходи на работу! Разве стал бы Отарбек в других условиях
заведующим каким-то клубом? Он бы высоко вознесся!..
Еркин насмешливо посапывал. В народе считается: все тазша -
большие хитрецы и ловкачи. А этот? Мешок дырявый, вся глупость наружу.
Колька наконец взорвался:
- Нурлан! Какого лешего ты молчишь!
Ржавый Гвоздь словно ждал, чтобы ему подали в спектакле нужную
реплику: голову скорбно уронил на грудь, пятерней вцепился в рыжие
патлы.
- Мне, Колян, теперь все равно! Саданут под сердце финский нож -
и точка. Отпел свою песню Акатов!
- Ты что? Сдурел?
- Нет! - Нурлан искусно дрогнул голосом. - Нет, Колька, друг ты
мой единственный! Мне теперь не найти спасения. Сам видишь: вынужден
скрываться. Но они меня и под землей достанут.
- Кто они?
- Тебе знать не надо. - Нурлан тяжело вздохнул. - Тебе, Колян,
жить да жить, а я человек конченый.
- Иди ты к лешему! - обозлился Колька.
- Прощай, - кротко поглядел Нурлан. - Ты меня не знаешь, я тебя
не знаю. Месть банды не только мне грозит, но и всем моим друзьям.
- Какая банда? - насторожился Отарбек.
Тут Ржавый Гвоздь развернулся! В красках расписал, будто бы
однажды помог милиции напасть на след крупной банды, окружить тайную
квартиру в Алма-Ате. Бандиты яростно сопротивлялись. Двое из них
перескочили дувал, оглушили милиционера и скрылись в неизвестном
направлении. Полковник, весь седой, много раз тяжело раненный в таких
схватках, мужественно сказал Нурлану: "Не буду от тебя скрывать - тебе
теперь надо остерегаться их кровавой мести". Полковник предложил
Нурлану: "Под чужим именем устроим тебя жить где-нибудь подальше, в
Сибири или на Кавказе". Но Нурлан решил: не буду трусом - и вернулся в
Чупчи...
- Однако здесь... - На этих словах голос Нурлана трагически
оборвался: пусть поработает фантазия слушателей!
- Не ожидал от тебя такой подлости! - Отарбек вскочил, заметался.
- Ты хочешь навести беду на мой дом? - Он кинул племяннику плащ, шарф.
- Я не трус, но у меня жена, дети!
Еркин встал, подмигнул Кольке: готово, спекся! Нурлану сказал
озабоченно:
- Твой дядя прав. Ты не должен прятаться у него в доме. Поедем.
- Поедем, - мрачно согласился Нурлан, берясь за чемоданишко.
- По стаканчику! На дорогу! - захлопотал Отарбек.
- Спасибо, агай! - отказался Еркин. - Нам нельзя туманить голову.
Думать будем, как Нурлану помочь. До свидания.
- Не поминайте лихом! - подыграл Еркину Колька.: Он давился от
смеха, до чего все лихо получилось! Другого бы пришлось уговаривать,
спорить до хрипоты, а Нурлан сам себя выставил из дома Отарбека. Сам!
Собственной своей бессовестной брехней!
Во дворе мелюзга слегка передралась, кому выполнить почетную
службу, и подвела нерасседланых лошадей.
- Ко мне за спину сядешь! - сказал Колька Нурлану.
- Счастливой дороги! - Отарбек вышел спровадить мальчишек и
убедиться, что соседи не очень-то любопытничают. - Лишнего не
болтайте. Где были, у кого. Длинный подол ноги опутывает, длинный язык
- шею.
Нурлан глянул на дядю изумленно: от него ли слышит?
Колька клятвенно стукнул кулаком в грудь:
- Могила!
Со двора взяли вскачь.
Крыши Тельмана остались далеко, приплюснулись к земле. Нурлан
завозился у Кольки за спиной, забарабанил кулаками по ватнику:
- Стой! Дальше не поеду!
Еркин, скакавший чуть впереди, остановился.
- Что там у вас?
- Думаете, связали, как барана, и повезли? - Нурлан скатился на
землю, глядел на ребят снизу вверх. - Думаете, и разговаривать с
Акатовым нечего? Хитрецы нашлись - выманили от дяди Отарбека. Я бы и
сам от него ушел!
- Куда? - Колька возмущенно завертелся в седло. - Куда ушел? Под
чужим именем на Кавказ?
Еркин высвободил ногу из стремени.
- Нурлан прав. Поговорим.
Неподалеку увидели развалины зимовки, отпустили лошадей, сели в
затишке, по-степному, на корточки. Нурлан охлопал карманы: закурить
бы. Поглядел на Кольку. Тот сроду не дымил, у Кудайбергеновых на этот
счет строго, но вытащил из-за пазухи пачку "Севера". У Нурлана нос
благодарно взмок: что ни говори, а есть на свете верная дружба.
- Поговорим! - Нурлан, старый курильщик, затянулся жадно. - Врал
я вам. Нет никакой банды, но все равно я кругом в дерьме. Люди
пальцами показывать будут: "Акатов - мазитовский хвост", "С Акатовым
не связывайся - продаст". Некуда мне деваться.
Еркин вытянул камчой по сапогу.
- Если долго преследовать труса, он храбрецом станет!
- Тебе, Садвакасов, не чабаном быть! Тебе зубы дергать в
больнице. Или хирургом. Возьмешь ножик и - чик! - отхватишь у человека
полсердца. Вы, Садвакасовы, жалости не знаете.
Еркин занялся рукоятью камчи.
- Вернешься в Чупчи - заставишь всех себя уважать. Много сил
уйдет, много времени. Но постараешься - заставишь. А убежишь? - Еркин
поцокал языком. - Убежишь - дурная слава твоя еще долго проживет в
Чупчи, по всем аулам разлетится. Сколько человеку не прожить на земле,
сколько у нас в степи помнят нечестные дела.
Колька кивнул солидно:
- Он нрав. Вернешься - снимешь вину. Не сразу. Однако снимешь.
- Что снимешь? Всю шкуру снимешь, - заныл Нурлан. - И девчонки
задразнят. У них не языки, а жала каракуртов! - Рыжий артист картинно
схватился за голову и повалился на землю.
- Больно много ты о девчонках стал думать! - рассудительно
заметил Колька. - И вообще кончай свои спектакли. Думай, что будем в
школе говорить.
Нурлан лежа приоткрыл хитрый глаз:
- Что ни придумай, Голову не обдуришь.
- А его нет в школе. Через неделю вернется.
- Значит, для Гавриловны придумать! - обрадовано поднялся Нурлан.
- Так бы и сказал, а то тянешь. Для Гавриловны легче.
- Много придумаешь, много вопросов задавать будут. Мало
придумаешь, мало спросят. Скажешь, как было, - вовсе никакого
разговора, - рассуждал неспешно Еркин. - У тебя была причина в Тельман
податься? Была. У нас с Колькой была причина за тобой поехать? Была, О
чем говорить?
- Слушай, а он здорово придумал! - обрадовался Колька. - Коротко
и ясно. Поехали - приехали.
- Ладно! - Нурлан встал. - Темные вы люди. Не знаете: чем проще
роль, тем артисту труднее.
Что-то возникло вдали, где небо, сгустившись серо, сходилось со
степью.
- Летит! - вскочил Колька. - Вертолет. Военный.
Вертолет тянул низко над степью, покачивал округлым брюхом. Еркин
вспомнил: летом на джайляу неподалеку от садвакасовской юрты садился
такой же. Овцы повалили на его стрекот, окружили небесного гостя.
Привычка у них кидаться к вертолету, потому что зимой, когда буран
погуляет или когда вся степь в ледяной непробиваемой корке, на отгон
везут сено и тракторами и вертолетами. Рев мотора для современной овцы
- сладкая песня.
- Ищут кого-то, - определил Колька, когда винтокрылый на миг
завис над зимовкой.
- Меня? - трухнул Нурлан.
- Ну с чего, дурья башка, стали бы тебя с таким форсом искать?
Может, из солдат кто заплутал.
Вертолет удалился в сторону Жинишке-Кум.
- К чабанам полетел.
Оттуда, где скрылся вертолет, вскоре вынырнула машина "газик".
Колька присвистнул:
- А "газик"-то... К нам!
"Газик" не рыскал, бежал нацеленно, словно собака, учуявшая след.
- Солдат за рулем, - разглядел глазастый Колька. - Сейчас узнаем,
что тут армия ищет.
- Искусственный спутник ищут. Здесь у нас упал! А что? Вполне
возможно! - Нурлан стянул с шеи красный шарф, замахал, как флагом:
"Сюда! Спасите наши души! Идем ко дну!"
Метров за десять до мазара "газик" развернулся полукругом,
подкатил правым боком. В переднем оконце - майор знакомый. Спрыгнул на
землю:
- Послушайте, ребята. Вы сегодня не встречали в степи двоих из
вашей школы? Степанова и Мазитова.
- Они так далеко не ходят, - сказал Еркин.
- Сегодня могли и дальше забраться.
- Случилось что-нибудь?
- Да так... Ничего особенного. - Коротун не собирался вдаваться в
подробности. Он оглядел всех троих, словно на выбор, и остановил
взгляд на Нурлане.
- Вот что, парень. Поедешь со мной. Довезем до Чупчи, по дороге
покажешь, где еще можно пошарить. - Майор откинул переднее сиденье,
подтолкнул своего "кунака" вглубь.
"Газик" по-собачьи рванул песок задними колесами, умчал в сторону
поселка.
- Найдутся, никуда не денутся, - говорил солдат-шофер. - Я
пацаном сколько раз из дому бегал. Батя мой умер, он с войны инвалидом
пришел, на пять мирных лет только и хватило. Ну а мать больно скоро
замуж вышла. Отчим что? Неплохой мужик, я с ним сейчас вполне, а
пацаном в двенадцать лет злился: то на чердаке ночую, то поездом
укачу. Милиция поймает, вернет - я опять в бега... Три месяца в
психичке пролежал с такими же бегунами, как я. Оказывается,
заболевание есть психическое детское: из дому бегать... Обследовали
меня, расспрашивали, я чуть вправду умом не тронулся. Спасибо, отчим
приехал, забрал меня из дурдома под свою ответственность. Еще разок я
его подвел, до Одессы добрался. После как отрезало, не тянет.
Переболел и выздоровел. Может, и с ребятами в таком роде случилось.
Как вы считаете, товарищ майор?
- Разговорчики! - У майора, роняющего слезу над песней, имелся
для подчиненных другой, заскорузлый голос. - Не забывайте, произошло
неприятнейшее чепе в семье офицера. Лишняя болтовня дает пищу
обывательским слухам.
Нурлана словно мордой протащили по колючкам: так, так,
беспокоимся о чести мундира, боимся лишней болтовни!..
- Слушай, парень! - Коротун, кажется, забыл, что у Нурлана есть
имя. - Слушай, парень, что за тип у вас в поселке - Мазитов?
- Мазитов? - дурашливо переспросил Нурлан. - Отрицательный тип.
Могу охарактеризовать. Хотите? Устное сочинение на тему "Образ
Мазитова".
- Можешь не сочинять, - разрешил майор. - Вашего Мазитова сегодня
ночью арестовали. Мы получим о нем достаточные сведения из официальных
источников. Меня сейчас больше интересует его сын. Я к нему уже давно
присматривался.
- К Сашке? Думали, иностранный шпион?
Солдат за рулем фыркнул.
- Острить будешь в другом месте! - отрезал Коротун. - Сейчас
отвечай на вопросы. Давно ли сын Мазитова занимается темными делами?
- Вас понял! - Нурлан как бы со стороны удивился совершенному
своему спокойствию. - Ученик пятого класса Салман Мазитов... Запишите:
его настоящее имя Салман. Так вот, Салман Мазитов уже давно никакими
темными делами не занимается. Салман Мазитов послал ко всем чертям
своего дорогого папашу. Прошу занести эти мои показания в протокол. А
также ответить на мой вопрос: послал бы кто-нибудь военный вертолет
персонально за Сашкой Мазитовым? За ним одним?
- Ты брось выламываться! - прикрикнул Коротун. - Говори
нормальным языком.
- Есть говорить нормально! - отчеканил Нурлан. - Мой нормальный
язык - казахский. А вы по-казахски понимэ? Сколько лет здесь служите?
Почему до сих пор не изучили?
- Меня, парень, на такой крючок не поймаешь. Понял?
- Я вас прекрасно понял! - ухмыльнулся Нурлан. - Так вот насчет
каракуля. Мазитову помогал я.
- Врешь!
Нурлан набрал побольше воздуха и захохотал, как хохочут негодяи в
американских фильмах: ха! ха! ха!
- Да брось ты выламываться! - попросил Коротун обыкновенным
голосом. - Дело-то ведь серьезное. Уголовное дело. Ты мне, Нурлан,
толком объясни.
Нурлана заело: "Вспомнили наконец мое имя?"
Коротун заговорил вроде бы даже ласково:
- Давай, Нурлан, выкладывай все по правде. Я ж тебе друг.
Скучно стало, как барану, которому горло перерезали. Почему же вы
раньше доброго слова сказать не могли? Теперь что? Какая может быть
теперь правда?
- По правде, товарищ майор, ничего не получится.
- Ну смотри. - Коротун вроде бы даже обиделся. - Тебе же хуже.
- Вы меня но пугайте! - взорвался Нурлан. - Я пуганый.
- Вот ты как заговорил?
Нурлапа понесло, как легкое семечко степным ветром. Он выложил
Коротуну про все свои делишки с Мазитовым.
Майор слушал и все больше мрачнел. Обманулся он, оказывается, в
этом мальчишке. Думал, душа у него светлая, сердце отзывчивое. А на
поверку дрянной человечишка, мозгляк и трус.
Коротун так и сказал Нурлану.
У Нурлана враз заныли все зубы: "Скука зеленая! Чего я с ним в
откровенность полез? Какая мне нужда Сашку защищать?"
- С таким, как ты, на фронте, - пилил майор, - с таким пропадешь.
Я бы с таким в разведку не пошел.
Нурлан подскочил, ударился башкой в брезент.
- Надоело! Выпустите меня!
Но из "газика" с заднего сиденья сам не уйдешь - надо, чтобы
вылез сидящий впереди.
- Ты старшего выслушай. Для пользы твоей говорится. Можешь не
беспокоиться, в городок к себе не увезу. Высадим в поселке.
- Да плевал я!
Он в самом деле дурак с длинным языком: нашел у кого искать
поддержки, сочувствия, хотя бы желания выслушать, понять!
На краю поселка шофер притормозил. Майор не шевельнулся на
переднем сиденье. Шофер вылез:
- Давай, парень, вытряхивайся!
- Чао! - Нурлан решительно пошагал в интернат.
Ух и порасскажет же он сейчас - у всех глаза на лоб повылазят!
На какой-то большой станции Салману удалось приоткрыть дверь.
Сразу налетели люди, Витьку положили на носилки, куда-то понесли.
Салмана крепко держал за руку парень с повязкой дружинника. Так Салман
очутился в детском приемнике, в компании очень толковых ребят. Он у
них и куревом разжился, и поднабрался кое-чего полезного. Народ был
опытный, со всех концов страны.
Один пацан постарше Салмана года на три. "В седьмом классе учусь.
Надо бы в восьмом, да на второй год оставался. И все из-за того, что к
отцу бегаю. Отец у меня морской адмирал во Владивостоке. Я к нему
бегаю".
Салман удивился: "Зачем много раз бегать? Надо один раз". Пацан
улыбнулся печально: "Это кажется - просто. Ты сам попробуй".
Салман про отца-вора не сказал, только про Витю: что в вагоне
случилось. "Хана твоему корешу. В прошлом году на Алма-Ате-первой
распечатали вагон, а там покойники, пацаны местные. И уехать никуда не
уехали. На одну ночь закрылись от милиции - и кранты". У Салмана чуть
не отнялись руки-ноги, но он свой подлый страх усмирил: "Я-то живой.
Отчего же Витьке кранты? Ну, слабже он меня. В котельной не ночевал, в
мазарах не жил. Непривычный к плохому. Понятное дело, сомлел. Но ведь
теплый был. Не мог он. Я-то живой, не сдох!"
Воспитатель нудил: "Когда вспомнишь, как тебя зовут, откуда
прибыл - приди и скажи". После снова заглянул, напомнил: "Ну как?
Думаешь?" Салман сказал правду: "Думаю". Он очень сильно думал: как из
приемника убежать?
Утром ели за длинным столом котлеты с кашей. Салман шепнул сыну
адмирала:
- Давай вместе убегать.
- Отсюда не убежишь. Милиционер у ворот. И вообще... Я не могу
сейчас во Владивосток ехать. Отцовская эскадра вчера ушла в плавание.
Придет через полгода. У меня самые точные сведения. А откуда -
объяснить не могу. Военная тайна.
- Полгода... - Салман от души посочувствовал. - Чего же ты
полгода делать будешь?
- Подожду. Мать за мной приедет. Ей телеграмму дали. Поживу дома.
А через полгода сбегу, отец меня возьмет юнгой.
- Лучше сразу во Владивосток, - сказал Салман. - Чего тянуть?
- Мать жалко... - Сын адмирала отвернулся, зашмыгал носом.
Милиционер открыл ворота грузовику. Воспитатель вышел на крыльцо:
- Не надоело вам, голуби, лодырничать? Все дети учатся, а вы от
ученья бегаете. Идите потрудитесь немного. Матрацы на дезинфекцию пора
свозить.
И вот тут-то Салман все шустро сообразил, но виду не подал, даже
с лавочки не стронулся.
- Адмирал, иди матрацы таскать! - орали из кладовки. - Адмирал,
поднимай паруса, плыви сюда!
Беглый народ волок матрацы, кидал в кузов, плясал на мягком.
- Тебе, Иван Непомнящий, особое приглашение требуется? - ехидно
спросил воспитатель.
Салман встал с лавочки будто нехотя, но все жилки в нем
натянулись: не упустить бы случай! Сын адмирала матрацем Салмана
прихлопнул - никто и не заметил. Верный парень.
С грузовика он изловчился смыться в тихом месте. Шофер зашел в
дом, а позади, в проулке, никого. Салман выполз из-под матрацев,
перевалился через борт - и бежать.
...Табличка на заборе: "Больница". Проходная. Тетки с узелками.
Салман остерегся лезть в проходную - к теткам пристроился разузнать.
Они его надежд не обманули. У них как раз беседа шла - ах! ах! - про
мальчика из седьмой палаты. Там у одной из теток сын лежит: рыбой
отравился. Так вот, в ту самую седьмую палату, где после промывания
желудка вполне поправляется теткин сын, вчера привезли со станции
мальчика. Лежит, в себя не приходит, а кто такой и откуда -
неизвестно.
- Помрет, а мать, бедняжка, и на могилку не придет.
- Раскаркались! - прикрикнул на теток Салман.
Там Витька - в седьмой палате!
Скрип, скрип - открылась больничная проходная, выглянул дяденька
в синем халате, больничный сторож. Барыга, сразу видно.
- Вы бы, девушки, шли по домам. Нечего тут дожидаться.
Салман жалобно заскулил:
- Дяденька! Мне в седьмую палату. Мальчик там отравленный, вчера
со станции привезли.
- А ты ему кто?
- Брат!
- Интересно... - сторож оглядел его. - Значит, брат? - Синий
халат раздулся от смеха. - Обмануть хочешь? Нехорошо, нехорошо. Тоже
еще брат нашелся. Блондинчик он, а ты копченый. Разная у вас нация.
Так что уходи отсюдова, чтобы я тебя больше не видел. Ну, скажи по
совести, какая ты ему родня?
Салман оскалил острые зубы.
- Брат!
- Ты, я гляжу, вредный! Чего тут крутишься? Воровать пришел?
Из проходной вышел дяденька с портфелем.
- Можно на минуточку? - окликнул его сторож. - Как там у вас,
доктор, мальчик отравленный? Помер? - И глазом поводит на Салмана.
- Мальчик? Пока в тяжелом состоянии. - Доктор посмотрел на
Салмана. - А это что за явление?
- Крутится у ворот и брешет, будто отравленный ему родной брат.
Так я и поверил! Нация совсем другая.
- Но почему так уже сразу и не верить? - засомневался доктор. -
Ты, говоришь, брат?
- Папка нас бросил, мамка замуж вышла, - радостно зачастил
Салман, - мы к бабушке едем...
- Что ж, пойдем к брату. - Он взял Салмана за плечо, подтолкнул в
проходную. - Плохо твоему брату. Надо бы мать телеграммой вызвать.
Если мать не хочешь - бабушку. Адрес скажешь?
- Не скажу. Брата вылечить - он скажет.
- Такой, значит, выдвигаешь ультиматум?
Салман вопроса не понял, промолчал.
- Так это ты сегодня из приемника утек?
- Ну, я! - буркнул Салман.
- Если не возражаешь, я в приемник позвоню, скажу им, чтобы тебя
не искали.
В тесной комнатушке молодой врач надел халат, нарядил Салмана в
больничную пижаму. На белой тумбочке - белый телефон. Салману слышно,
как наговаривают из приемника:
- Вы этот народ не знаете, а мы знаем. Все он врет. И убежит он
от вас. Знаем мы этих бегунов не первый год. Все говорят, что папка
бросил, мамка замуж вышла. Да, поголовно. Да, все едут к добрым
бабушкам. Есть у нас один, к отцу-адмиралу бегает, но он, поверьте,
исключение.
На эти наговоры молодой врач возражает твердо:
- Я за него отвечаю! Никуда он от своего брата не уйдет! Адрес?
Нет, адреса он пока не сообщил. Как зовут? - прикрыл ладонью трубку,
вопросительно поглядел на Салмана.
- Сашка, - выдавил Салман.
- Его зовут Саша. Он мне сейчас очень нужен. С тем, с другим?
Плохо пока. Его фамилия? - Он опять прикрыл ладонью трубку. - Фамилию
брата скажешь?
- Вылечи - он скажет! - уперся Салман.
Он рассчитал наверняка: Витю в больнице пусть вылечат, Внтя сам
все расскажет. Салмана хоть бей, хоть пытай - не дознаетесь. Витин
отец - полковник, командир части. Его фамилию, адрес нельзя говорить.
У Витькиного отца на груди шрам от фашистской пули, ему плохие вести
опасны. Салманово дело молчать. Витю пускай лечат. Витя скажет. Люди
разберутся: Витя не вор. Мазитов пускай вор, фамилия испорченная,
можно сказать, а сейчас он с Витькой как брат с братом - не Мазитов,
неизвестно кто. Сашкой зовут - на том и хватит.
Витя лежал за стеклянной загородкой, лицо на подушке синее.
Салман руками в спинку кровати впился - никуда он отсюда не уйдет. Его
и не гнали. Табурет под колени двинули: сиди. Он сидел, смотрел: течет
кровь по стеклянным трубкам, длинная игла входит в Витькину руку,
светлая жидкость мелеет в стеклянном пузырьке.
Ночью он вышел в коридор, разбудил дежурную сестру, задремавшую
за столиком:
- Адрес пиши! Матери телеграмму!
- Какой адрес? - отмахнулась она. - Спят все. Иди ложись. Тебе
постелили вон там на диване.
Утром, заглянув за стеклянную ширму, молодой врач увидел: Салман
сидит на табуретке, не спит.
"Ну характер у стервеца!"
Салман не пропустил минуты, как начало теплеть лицо на подушке,
щелочкой глянул Витькин глаз и тихо, радостно прояснился:
- Сашка... живой...
По щекам Салмана побежали слезы, и он засмеялся.
- Дайте ему валерьянки! - приказал врач.
Степановы всю ночь не спали. У Натальи Петровны начался сердечный
приступ, прибегала Мария Семеновна, делала уколы, ругательски ругала
этого мерзавца Сашку Мазитова. Пунктуально каждый, час звонил Коротун:
пока ничего нового, никаких известий.
Витин портфель Маша спрятала у себя в комнате, чтобы никому не
попадался на глаза, не расстраивал. Маша вынула из портфеля книжки,
тетради - все аккуратное, чистенькое. Ничего не нашлось в Витином
портфеле такого, что могло бы объяснить: почему он вместе с Сашкой
удрал из Чупчи.
Ночью пошел снег. Он летал над степью и словно боялся касаться
земли.
Утром у школьных ворот Машу ждал Еркин в длинном косматом тулупе.
Было еще темно.
- Если бы ты не приехала, - сказал Еркин, - я бы не пошел в
школу, я бы пошел к тебе.
Еркину казалось: из одной жизни он переместился в другую. Сам
остался тот же, но вокруг все стало другое, непривычное. И степь, куда
он после уроков брел вместе с Машей, стала другой; они шли без дороги
но черно-белой земле, как по другой, неизвестной Еркину планете.
Далеко отсюда до весны, до зеленой степи, до озер алого мака, в
которые кидаешься с седла. И Маша там никогда не бывала - в сагатской
весне.
- Знаешь, мама говорит: все дети как дети; а ты с Витей как кошка
с собакой. Я больше всех виновата: сестра, а не знала, не
догадывалась... Знаешь, ты тогда пришел, я звонок слышала, но не
подумала... На Сашку разозлилась, что меня не позвал, но он ведь не
нарочно... Знаешь, мы все время ездим, я в поезде родилась, это всегда
со мной, в характере осталось.
Она рассказывала ему обо всем.
Еркин тоже рассказывал свое, все, что само всплывало в памяти.
Никого нет, они вдвоем в степи, но Еркин все время чувствовал
чей-то настороженный взгляд. Переменившаяся сегодня степь глядела на
них во все глаза: кто вы такие? Зачем складываете вместе свою память?
В какую дальнюю дорогу снаряжаетесь?
На пути из поселка в городок стоит мазар, сложенный, как и в
старину, из саманного необожженного кирпича, но с дверцей из железного
прута, - заказ райисполкома, искусно выполненный местным кузнецом,
отцом Кольки Кудайбергенова. Здесь похоронен член Союза писателей акын
Садык, Нурланов дед.
- Я внутрь уже заглядывала, - сказала Маша. - А войти можно? Не
запрещается?
- Можно.
Железная дверца, крашенная голубой краской, скрипнула сварливо.
Они вдохнули мерзлую глиняную пыль, перемешанную с сухим снегом. На
стенке низко - слишком низко! - нацарапано: "Амина".
Разве Еркин не знал, кого частенько прячут разбросанные в степи
полуразваленные и новые мазары? Знал. Он отвел глаза от имени,
нацарапанного слишком близко к земле.
Амина... Этим летом на джайляу он ее возненавидел. Идет, бедрами
качает - мужчины, отцы взрослых сыновей, поворачивают бороды ей вслед.
Кенжегали ее встретил - городской человек, ученый! - и тоже закосил
глазами. Наверное, и раньше такое происходило при Еркине, но он умел
понимающе отворачиваться. Натыкался, ночью в траве на парня с девушкой
и молча уматывал куда подальше, держал язык на привязи: что он,
маленький, что ли? Все живое живет законами жизни. Но нынешним летом
возмущался: проходит Амина, и отцы взрослых сыновей теряют
достоинство. Чего уж спрашивать с Исабека. Когда видит Амину, кровью
наливается лицо. А она тут с солдатом...
- Ты о чем задумался? - спросила Маша. - В мазаре еще холоднее,
чем на ветру. Пошли!
У Степановых спрашивают Машу: что же ты не пригласишь в гости
сына Мусеке? Фарида ходит, Коля и Нурлан ходят, а сын Мусеке нет.
Еркин не ходит в гости к Степановым потому, что каждый вечер
бродит по степи около городка и ждет: вот Маша зажгла-погасила зеленую
лампу у себя на столе с тетрадками - значит, она сейчас выбежит к
нему.
Еркин и Маша впервые поняли: четырнадцать лет - очень много. Они
прожили по четырнадцать лет, не зная ничего друг о друге. Если
сложить: получается расстояние в двадцать восемь лет. Половину пройти
степью, путем, знакомым Еркину. Половину поездить-полетать от Чукотки
до Волги - путем, знакомым Маше.
В степи он знал все. А Маша спросила: "Нурлан тоже пас овец?" Он
сказал: "Нет, у них теперь валухи". Маша подумала: он говорит про
какую-то особую породу. Краснея, Еркин стал объяснять, для какой
хозяйственной пользы баранчиков делают валухами.
Когда Маша не понимала самых простых вещей, ему казалось: он
возвращается на уже пройденный путь, и она опять от него далеко.
На школьные вечера Маша приезжает в военном автобусе, лейтенант
Рябов подает ей руку, помогает сойти по ступенькам. Лейтенанту
двадцать пять лет. Еркину иногда кажется: между Рябовым и Машей
разница в годах меньше, всего одиннадцать лет, а со мной - целых
двадцать восемь.
У Степановых все по-старому, никаких перемен. Только появился в
доме тревожный сквознячок. Его не слышно, не видно - однако придешь с
улицы, и непонятно каким путем догадаешься: только что он, сквознячок,
тут прогулялся.
Раньше люди в приметы верили: воет в печной трубе - к переезду.
Печных труб теперь нет. Можно ли верить в ночные всхлипы батарей
парового отопления?
Еще нет никакого приказа. Даже приказа подготовить приказ. Может
быть, всего лишь где-то и кто-то сказал: "А что, если поедет полковник
Степанов?" Еще неизвестно: как, с какой интонацией прозвучала фамилия
"Степанов". Сказал, что ли, кто: у Степанова были какие-то осложнения
с сыном, помните, вертолет посылали на поиски? Сказал, что ли, кто: у
Степанова дочь кончает восьмой, конечно, он рад будет, чтобы она
последние два года доучилась в большом городе. И вообще Чупчи не такое
место, с которым трудно расставаться.
Такой вот поселился в доме тревожный сквознячок.
Когда отца переводят на новое место службы, они не едут сразу с
ним. Иногда они ждут вызова полгода. По разным причинам. Чаще всего
потому, что кто-то там, на новом месте, еще не выехал и выехать не
может: из-за того, что еще кто-то и где-то не освободил жилье.
Спрашивать не полагается - военная тайна.
В дом ведет дверь, обитая драной кошмой. Ни крыльца, ни сеней, ни
коридорчика. Прямо с улицы входят в комнату. Маша захлопнула за собой
дверь, и что-то несправедливое и никогда прежде не известное ударило
ее больно и обидно: неправда, не могут в наше время люди так несчастно
жить!
Печка приготовилась развалиться по кирпичику. На печке
скособоченный чайник с проволочной ручкой и сковорода с чем-то
засохшим. Кровать продавленная, на ней полураздетые ребятишки. Маша
услыхала, как на улице заработали лопаты, зашаркали по днищу
грузовика, зашуршало что-то под стенкой дома. Солдаты сгружали уголь,
выхлопотанный женсоветом городка.
Мазитиха встала перед Марией Семеновной - руки в бока, кофта не
сходится на животе.
Мария Семеновна без стеснения разглядывает мазитовское
бесприютное жилье. Узел с вещами, собранными женсоветом, кладет на
стол.
Хорошо, что Сашка не видит: он гордый.
Маша не знала: сообразительный Салман с утра почуял угрозу, и в
ту минуту, когда Мария Семеновна усаживалась в "газик", направился
ближней дорогой в укромное место, в котельную сагатской бани. Там он
теперь и сидел в тепле, думал две важные думы.
Первую: как Вите дальше быть, если после побега с Мазитовым над
ним посмеивается вся школа. Над Мазитовым никто не смеется: чего с
Мазитова взять? Над Витей Степановым и в пятом "Б", и в других классах
рады позубоскалить: ему-то, пятерочнику, зачем было бегать? Витя
краснеет, смущается. Хотя ни в чем не виноват. Ржавый Гвоздь плохие
дела делал, Ржавый Гвоздь предатель, а ходит - не смущается. Даже хуже
на себя наговаривает, чем было по правде: такой испорченный, такой
пропащий, даже жизнь не мила. Чем хуже на себя наговаривает - тем
больше к нему внимания: ах, бедный Нурлан! Даже Гавриловна с ним
обращается, будто Акатов вот-вот у нее на глазах разлетится вдребезги
от своих несчастий. А Вите строго сказала: "Поменьше, Степанов,
хвастайся своими похождениями". Витя ответил: "Не было похождений.
Сели в вагон - и все". Такой уж человек Витя. Теперь Салману надо за
него думать: как быть?
А вторая забота о самом себе: как дальше жить?
Салман знал: Витин отец ездил к Голове, уговорил не исключать
Мазитова из школы. Витин отец объяснил Салману: сын вора может найти
честную дорогу. Но от честной дороги не шло пока никакого заработка, а
жрать надо: и Салману, и младшим, и матери. Салман как мог
подрабатывал. Солдат записку дал для Амины, пачку сигарет - Салман
курево раньше брал, теперь обратно сунул: гони пятьдесят копеек. Пошел
в магазин, купил хлеба и сахарного песку.
Салман знал: попрятанные деньги не все разысканы милицейскими, но
мать не пустит их в расход, не истратит на еду. Ни деньги уцелевшие,
ни золотишко зарытое - Салман подглядел - со двора под степной хибары.
Не тронет мать этого до самого возвращения отца из тюрьмы. А других
бумажек, на какие можно купить хлеба, сахара, бараньего сала, муки,
костей мясных, в доме сейчас не водилось.
Мазитиха знала: Салман догадливый. Только парнишка за собою дверь
- бух! - она схватилась прибирать. Что было в доме целое, неизношенное
- побросала в сундук.
Однако из военного городка прикатила хитрющая баба в зловредном
возрасте: много чего в жизни повидавшая, ей глаза ни на каком базаре
не задурят, ее не обвесят, не обсчитают - она всему свою цену назовет
и не отступится, где хочешь наведет свой порядок. Даже растерялась
Мазитиха, когда хитрая баба к ней в дом вошла: такую голыми руками не
возьмешь, сообразить еще надо, что к чему. И опять же девчонка
полковничья здесь зачем?
Так они и стояли друг против друга: Мазитиха и Мария Семеновна.
Маша никак не решалась шагнуть от порога.
Мария Семеновна завершила осмотр запущенного жилья.
- Грязно живете, голубушка!
- Вам-то что за дело?
- Приехала - значит есть дело! - Мария Семеновна каждое слово
веско припечатывала.
Мазитиха смолчала, свела губы в жесткий узелок. Мария Семеновна
скинула военную меховую куртку и огляделась: куда повесить?
- Ну-ка! Подержи! - Мария Семеновна наконец сыскала чистую и
надежную вешалку - Машины руки. Маша ухватилась за куртку, как за
спасательный круг.
Постыдную гадливость в Маше вызывали детишки, сидевшие в тряпье
непонятного цвета. С бритой синей головенкой - Сашкин братишка. С
тряпичками в кое-как разобранных косицах - сестренки. Что-то девчонки
понимают о себе - косички заплели. Но даже когда стоишь у самой двери,
чувствуешь: от детишек пахнет нехорошо. Нет, не хватит у Маши сил
подойти к Сашкиным младшим, погладить по головам, слово ласковое
сказать.
Мария Семеновна развязывает на столе узел. Мазитиха всем видом
показывает: мне на это плевать. Однако в глазах жадность: много ли
принесено и какая всему цена?
Узел развалился по столу: рубашонки, штанишки, чулки, ботинки,
шапчонки. Все не новое, ношеное, но выстирано, выглажено - не стыдно
дарить.
Мария Семеновна все добро раскладывает и перетряхивает. Вынула
вафельное полотенце - кинула через плечо. Мыла пачку нашарила -
распечатала. Баночку с какой-то мазью открыла. К печке подошла,
качнула чайник: есть ли вода? Пошла с чайником к рукомойнику у порога,
налила туда теплой воды.
Маша слышит: на улице кончили сбрасывать с машины уголь,
бибикнули и укатили, громыхнув на колдобине так, что весь дом
затрясся. Ребятишки перепугались и заревели.
- Гулиньки, гулиньки... - Мария Семеновна зыбким шагом подплыла к
ребятишкам. - Кто хочет умыться теплой водичкой?
Вытащила из троицы самую младшую, самую замурзанную и понесла к
умывальнику.
Толстые наманикюренные пальцы с неожиданной ловкостью и нежностью
принялись полоскать ручонки затихшей от удивления девочки. Забитый нос
вычистили-высморкали, личико сполоснули, вытерли полотенцем до розовой
чистоты. С веселой сноровкой Мария Семеновна перекинула девочку с руки
на руку и плеснула из рукомойника на верткий задок.
- А теперь мы старое платьице снимем. Фу, какое платьице! Мы его
на пол, на пол. А новое наденем, наденем. Эту ручку сюда. Эту сюда.
Ах, какие мы красивые! А тут у нас что? Тут у нас бобо... Мы губки
смажем, чтобы не болели. И на ушке бобо смажем.
Маше казалось: огромная толстая девочка возится с куклой. Есть
такие куклы-голыши, их для того и дарят, чтобы сколько душе угодно
мыть и переодевать. Сашкина сестренка и впрямь словно кукла двигала
послушно ручонками и ножонками. Девочка сомлела в добрых женских
руках, стосковавшихся по самой дорогой женской заботе. Двое других
малышей следили зверовато, но в их настороженном любопытстве уже
проглядывало смелое нетерпение.
Дошел черед и до них. Растерянная Мазитиха сходила за водой,
подтопила печку. Маша только поворачивалась, давая дорогу то Мазитихе,
то Марии Семеновне с дитенком на руках.
Мария Семеновна скомандовала, двигая ногой по полу кучу всего
снятого с малышей:
- Маша, выкинь подальше эти ремки!
И глянула выразительно: по-даль-ше! Опасалась: как бы после
Мазитиха не запрятала в сундуки все дареное и не вырядила снова свою
малышню в рванье.
Маша первый раз услышала слово ремки. Деревенское слово. Ремки -
значит рванье. Ремки валялись на полу, нагнись и подними. Куртка в
левой руке, ремкн в правой - она плечом толкнула дверь и вспомнила:
дверь открывается внутрь, на себя.
К ней подскочил мальчишка с синей бритой головенкой - Сашкин
братишка, на Сашку похожий. Обеими руками-палочками цапнул за ручку
двери, пузо выкатил, ногой в косяк, поднатужился - дверь отворилась.
Маша задохнулась от морозного воздуха - дневного, яркого,
резкого. До чего хорошо на белом свете! Небо ясное, лишь по закраинам
остатки облаков. Степь просторная, ничем не заслоненная, ветер гонится
по ней сильный и чистый, продувает насквозь.
Маша подставила ветру ремки, быстро пошла от мазитовского дома
через выбитый, загаженный двор.
Не хотелось ей возвращаться обратно. Да кто-то в спину толкает:
надо, иди, если не пойдешь, не схватишься за все своими руками, то
зачем там была, зачем бездельно глядела на беду?
Перед домом в проулке "газик" ждет, пофыркивает. Она быстро
подошла к "газику", положила кожан Коротуна на переднее сиденье,
пальто свое туда же и, не думая ни о чем, даже дыхание придержала,
толкнулась в низкую дверь.
Мария Семеновна домывала мальчишечку.
- А я уж беспокоюсь, куда девка сбежала! Принимай готовенького.
Нет, прежде ихнюю постель разбери.
Маша разобрала сырую постель, вынесла на улицу, постелила чистое.
Помыла чашки, протерла тряпкой стол, вынесла из-под рукомойника ушат с
водой, налила горячей, из ведра на плите, и начала мыть пол. Раз пять
воду меняла. Пальцы разбухли, ладони саднит от грубой тряпки. Зато
куда-то девалась постыдная брезгливость, горячо и весело стало.
Запущенный Сашкин дом отмывался, рождался заново.
Сели в "газик", поехали. Мария Семеновна тяжело повернулась на
сиденье:
- Я в твои годы в госпитале раненым горшки подавала. Другой
работы мне по возрасту не полагалось. А подросла - взяли в санитарный
поезд. Под бомбежками побывала. Вот когда страшно-то было! И не
убежишь - полон вагон лежачих. Я своего Коротуна, если хочешь знать,
встретила не на танцах в офицерском собрании, я его своими руками... -
она повертела перед Машей растопыренными пальчиками-сосисками, -
своими руками в свой вагон на носилках втаскивала. Боялась - не
довезем. В живот его ранило осколком. Можно сказать, чудом в живых
остался.
Она уселась прямей, и Маша теперь не видела ее лица.
- Иной раз живет человек и счастья своего не видит. Возьми хоть
женщину эту. Говорят, у нее дети пополам с богом. Который выживет,
который помрет. А детишки-то какие славные - ласковые, глазастенькие.
Показалось Маше или на самом деле Мария Семеновна всхлипывает?
Тихий вечер, а Салмана знобит. Худо дело.
Салман поглядывал на разметенное дочиста небо, на зимние слабые
звезды, на тонкий месяц, повалившийся кверху рогами: не к добру.
Подходя к своему дому, он увидел в оконце цветастый, сквозь
тряпицу, свет. Толкнулся в дверь и сразу понял, зачем свет, почему на
оконце материна кофта. За столом сидел и жадно жрал чужой человек.
Недавно заявился - на полу под сапогами черная лужа. Вот, значит,
отчего месяц кверху рогами валяется и озноб отчего: гость пришел не
случаем, не от кого-нибудь - пришел от старого черта, от Салманова
отца!
Салман у порога стянул с ног сапоги, скинул пальто, боком
протерся по беленой стене к кровати, влез к младшим под одеяло. Тут
подкопилось тепло: нагрела мелюзга.
Не шевелясь, будто сразу уснувший крепким детским сном, он чуть
приподнял край одеяла и следил: чужой жует, кадык ходит, ворочаются
челюсти. Такому что барана прирезать, что человека. Оттуда заявился,
где теперь отец. И адрес родного дома с детишками сам отец ему дал. Не
задаром, видно. Салман отца знает. И можно догадаться, зачем
понадобился чужому чупчинский адрес. Отсидеться надо, спрятаться - вот
зачем!
Ночной гость покончил с едой, хмурый сидел за столом, оглядывал
доставшееся прибежище. Он не взял бы сагатского адресочка, да случай
выпал редкий здесь уйти из вагона. Отсидеться надо, пока идет ближний
розыск, а там будет видно.
Ночной гость дергался все время, оборачивался.
Салман вылез из-под одеяла, протопал к ведру с водой, черпнул
сушеной тыквиной, напился. Все сделал медленно, с расчетом.
- А ну, кыш! - приказал чужой. - Спать!
Салман оскалился:
- Не хочу.
- Я два раза повторять не привык!
- Ложись, сынок! - допросила мать из своего угла жалко и
трусливо.
- Сейчас лягу. Он уйдет - лягу...
- Тетка, уйми своего щенка!
Мать захныкала:
- Салман, гость пришел от отца.
- Не надо нам ничего от отца. - Салман не сводил глаз с чужого.
Струйки пота потекли по его спине.
У человека бывает три пота: пот от слабости, пот от боли, пот от
работы. Салман не чувствовал себя слабым и больным. То, чего он сейчас
хотел, чего добивался, много сил требовало, как гору угля перекидать.
Он в мыслях кидал, кидал, кидал...
- А если не уйду! - спросил отцовский посланный. - В милицию
донесешь?
- Боишься?
Чужой встал, сунул руку в карман. Салман увидел острый рог
месяца. Весь от пота мокрый, кидал и кидал он уголь, делал самую
тяжелую работу, какая есть на земле: спасал дом, малышей, мать. Чужой
дернул кадыком, всадил нож в буханку на столе, отвалил половину, сунул
за пазуху. С порога погрозил:
- Вернусь скоро. Погуляю на свежем воздухе.
Дверь бухнула, мать захныкала в подушку. Салман пошел погасить
свет. Выключатель чернел у двери справа. Салман щелкнул и в темной
тишине прислушался: чужой стоит в тамбуре, пристроенном солдатами, не
ушел, дышит, скребет ногами. Не отрывая уха от мерзлых, чутких на все
звуки досок, Салман толкал задвижку в гнездо. Затолкал до отказа.
Босые ноги застыли, Салман влез в сапоги. Стоит чужой за дверью?
Стоит. Нет, пошел. Хрустнула щепка, отлетел камень.
"Куда же он теперь? - Салман чуть не завыл с досады. - Дурак!
Упустил бандита без присмотра ходить по Чупчи!"
Салман - задвижку долой! - сгреб пальто, шапку и выскочил на
улицу. Спина чужого покачивалась за низким дувалом.
Чужой не то чтобы сильно испугался мазитовского сопляка. Он знал:
не мешает побродить, часок по Чупчи, приглядеться, что тут у них есть,
чего нету, и вернуться, когда сопляк будет дрыхнуть. Но не очень-то
ему хотелось возвращаться. Надул старик. Не такое уж верное место его
развалюха, да и поселок головат. И нет пользы, что при железной
дороге. По всем станциям добрые дяди только и ждут, когда появится
человек с протелеграфированными приметами. Глядят за пассажирскими,
глядят за товарными. Задача нехитрая, не магистраль крупная - рельсы
всего в одну колею. Зато других дорожек тут в степи понакатано - дай
боже! На авто за ночь полтыщи сделаешь, в другую республику заскочишь
- есть шанс. Дело только за машиной - где ее взять? Хорошо бы
тепленькую перехватить, с ключиком - шофера на дороге не кидать, в
кузов его - и поехал, пока там хватятся. Да, тепленькая нужна. От дома
не взять без шума...
Чужой откачнулся от дувала, пошел. Салман за ним. На улицах ни
души. Но Салман-то знал, а чужой нет: на эту ночь Гавриловна назначила
в Чупчи встречу Нового года.
У кого власть, тот и командует календарем. В Чупчинской школе
календарем владела Серафима Гавриловна, и она своей властью назначила
встречать Новый год не в ночь с тридцать первого декабря на первое
января, а двадцать девятого, часиков в десять, не позже.
У дверей школы Колька Кудайбергенов отражал все попытки
недоростков-семиклассников прошмыгнуть в зал. Колька - человек
исключительно надежный: его не обманут, не припугнут. Нурлан
прикалывал входящим бумажные номерки.
Накануне молодая учительница английского языка пыталась
втолковать Серафиме Гавриловне: уже давно нигде на школьных вечерах не
играют в воздушную почту, это провинциально и старомодно - пошло,
наконец! Но Серафиму Гавриловну не переубедишь.
- Разумеется, нам с вами некому и не о чем писать. Ну, о чем бы я
стала вам записки строчить? Чтобы вы сдали вовремя поурочные планы? А
вы бы в ответ просили еще недельку? Кстати, план я все-таки жду от вас
после бала, то есть завтра. А ребятам не мешайте играть. Поймите, в их
годы очень интересно переписываться, Да еще солдаты на вечер придут.
Пусть пишут! Главное, чтобы все у нас на глазах!
Англичанка не разрешила нахальному Акатову приколоть к ее платью
бумажный номерок. Однако едва она вошла в зал, к ней подлетела Фарида
в синей картонной фуражке, с синей картонной сумкой на боку:
- Вам письмо!
Учительница развернула пакетик, сложенный по-аптечному: "Вы
сегодня очень интересны".
В другом углу зала Фарида совала аптечный пакетик лейтенанту:
"Почему вы не танцуете?
Из своего угла Серафима Гавриловна мысленно одобрила действия
Фариды. Кроме лейтенанта, не найти в Чупчи подходящего жениха для
молодой англичанки.
Воздушная почта попала в верные руки. Фарида запаслась из дому
записками на все случаи жизни, несколько вечеров сочиняла: "Вы сегодня
очень интересны", "Почему вы не танцуете?", "О ком вы грустите?",
"Кто-то здесь следит за вами" и еще разное, позагадочней.
Домашний запас у Фариды скоро иссяк, однако сумка не пустует,
полна записок: в каждом деле главное - энергично начать, а там пойдет.
Раздвинулся занавес, на сцене Сауле в синем платье с белым
кружевным воротничком.
- Выступает ученик восьмого класса "Б" Акатов Нурлан!
Жидкие хлопки, ехидный смешок...
Нурлан заносчиво откинул рыжую голову:
- Я спою вам песню собственного сочинения. Посвящается моему
лучшему другу Николаю Кудайбергенову.
Колька покраснел до ушей, заерзал: не предупредил его ни о чем
чертов Ржавый Гвоздь.
- Песня о двух красных бойцах! - Нурлан ударил горстью по
струнам, бросил в зал домбровую россыпь, домбровый скач по степи,
перебор копыт.
Рядом мчатся два бойца, русский и казах, ведут разговор. Шинелями
бы сменяться, да рост разный. Сапогами бы, да одному малы станут,
другому велики. Чем поменяться? Именами нельзя - матери дали. Копыта
звенят по родной земле... Фамилиями поменяемся? Тебе мою, мне твою,
одна другой не хуже. Судьбой поменяемся? Тебе мою, мне твою, обе равны
и пока неизвестны. Но час пришел, и убит один, скачет дальше другой.
Кто скачет? Ты знаешь? Я не знаю, не разглядел лица. Скачет красный
боец по степи, по родной земле. Смолкает вдали перебор копыт.
Нурлан опустил гитару, рыжие лохмы уронил на глаза: все!
Грохнули аплодисментами солдатские ряды. Володя Муромцев с места
подмигнул: молодец, старик! Лейтенант наклонился к директору: что
скажете? Талантливый мальчишка! Голова всеми морщинами изобразил:
ошибка природы - вложила талант столь непредусмотрительно, ненадежно.
Зануды-майора в зале нет. Не слышал Коротун, какую душевную песню
сложил его бывший "кунак" Нурлан Акатов. Обидно, что не слышал -
единственный в мире человек, который Акатова всерьез осудил, с
Акатовым в разведку не пойдет. Для остальных, что ни случись с
Акатовым, - пустяк. А майор понял бы, слезу уронил...
Кто бы подумал: Нурлан Акатов, Ржавый Гвоздь вдруг затоскует -
Коротуна нет в школьном зале! Об этом не догадывается даже Фарида. Она
сидит в зале рядом с Машей и сторожит минуту, чтобы поменяться местом
с Еркином, сидящим позади.
- Еркин, пересядь! Что тебе, трудно?
Еркину не по душе, что Маша дружит с Фаридой, но спорить не стал,
пересел.
Нурлан со сцены поглядел на него, ухмыльнулся.
Из-за кулис к певцу идет Сауле в синем платье с кружевным
воротничком - сейчас объявит следующий номер. Но Нурлан ее не
дождался, сам объявил:
- Старинный русский романс, музыка Булахова! - Фамилию выговорил
как казахскую: не через "у", через перепоясанное арканом "о".
Сауле осталась рядом с певцом. А он запел будто не залу, а ей
одной: Сауле, в старинном кружеве, стала прекрасной и гордой, как
никогда, похожей на девушку в бальном платье, над которой склонялся
прапрадед Саулешкин в черном фраке или в офицерском мундире.
Эх, жаль, нет в зале лысого майора!
Чужой до сих пор не чуял Салмана за собой: ходил - не
оглядывался. Так вдвоем на одной нитке они прошивали улицы и пустыри
поселка. То дверь отворится, бросит полосу света. То послышатся шаги в
потемках по ухабистой сагатской улице. То радио откуда-то вырвется и
грянет... Салман и чужой шли сквозь вечернюю, хотя и стихающую, но все
же полную забот жизнь поселка и ни разу ни с кем не столкнулись, не
попались ни на чьи глаза. Даже вырывающиеся вдруг полосы света как бы
обегали их обоих.
Салман тащился за неясной тенью, а в памяти всплывало: жуют
крепкие челюсти, ходит острый кадык. Салман себе самому орал неслышно:
"Теперь, Сашка, не упусти! Не упусти! Не прозевай! Недолго теперь
осталось..."
Чужой забирал от поселка в степь, скрадывался. Двое близко прошли
- не заметили. Амина со своим солдатом гуляет - друг на дружку не
наглядятся. "Привет Исабеку!" - скривился Салман: не забыл, как
схлопотал от него по шее за то, что носил Амине записки от Левки.
В прогремевшем мимо грузовике Салман разглядел за рулем дядю Пашу
из Тельмана. С ним в кабине женщина укутанная. Из кузова, из фанерной
будки, кто-то стучит-кричит: тише! Не гони! Такое, значит,
беспокойство. Теперь попятно, почему дядя Паша всегда подвозит, а
сейчас не остановился. В больницу везет укутанную тетку - больше
некуда поспешать в такую ночь.
Чужой все время шел осторожно, обходил свет и голоса, а тут вдруг
рванул навстречу машине, однако в последний момент что-то
засомневался. Оробел, передумал?.. Да уж! Сробеет такой, дожидайся!
Видно, услыхал стук из фанерной будки: кто знает, сколько там людей?
Машина дяди Паши направлялась к больнице. Чужой двинул туда же,
наперерез, степью. Салман за ним.
У больничной проходной на кругу стоит грузовик дяди Паши, мотор
постукивает - не выключен. Чужой на свет не сунулся - остановился за
углом. Ударила дверь проходной, вышел кто-то. Салман ближе подобрался,
узнал Ажанбергена, тельмановского чабана.
- Не пустили! - Ажанберген закинул в будку мягкий узел.
Паша вылез аз кабины:
- Ну и чего? Скоро?
- Ты бы сам с ней поговорил!
- С кем? С Катей?
- С акушеркой. Она Катю при мне выспросила: как мать зовут? Как
бабку? Обнадежила: у Кати в семье, оказывается, все женщины легко
рожали. На Катю при мне напустилась: "Терпеть будешь или орать?"
Русские бабы орут. Казашки молчат, им так привычней. Спрашивает
Катьку: "Ты кто? Екатерина или Хадича?" Такой вот грубый разговор. А
меня - за дверь.
- Ну и что будем делать?
- Посижу подожду. Может, скоро?
Салман видит: Ажанберген достал сигареты, предложил Паше,
закурили оба.
- Рассказывают, - продолжал Ажанберген, - будто в старину муж
вокруг юрты обязан был ходить, когда жена рожала.
- Давай покатаю вокруг больницы! - засмеялся Паша.
- Ладно уж. Езжай спать. Ты где ночуешь?
- У Садвакасова. Правда, неловко ехать, пока хозяина нет. В школе
у них вечер, значит, и Еркин в школе. - Паша вылез из кабины, обошел
грузовик, попинал колеса сапогом. - Давай прокатимся в школу,
поглядим, что там у них.
- Нет, я уж здесь свое отдежурю.
- А я, пожалуй, скатаю в школу. Погляжу, как веселится молодое
поколение. Ребят знакомых встречу, потреплемся. Я, конечно, по
солдатской лямке не печалюсь, но техника в армии - высший класс, это
тебе не колхоз Тельмана. Мне бы прокладочкой у ребят разжиться.
Паша полез в кабину, дал газ.
- Счастливо оставаться. Хадича родит - от меня поздравь.
Салман откуда-то знал: чужой пойдет за машиной, значит, к школе.
Вот как нацелился смыться из Чупчи: на машине! Но кто же его добром
повезет - чужого, в ночь? Выходит, он не добром машину возьмет. Ну и
гад...
За школой, в затишке, вспыхнула спичка, пошли по рукам сигареты.
Но не для того собрались старшеклассники, чтобы подымить без опаски -
ожидалось важное дело.
Какое дело, Еркин догадывался: за школу его позвал с собой
Исабек. Парень горяч, но медлителен - долго распаляется. С малых лет
при отцовском табуне объезжает самых строптивых лошадей. Возвращается
к табуну на присмиревшем, в белых хлопьях скакуне, пыжится от
гордости. Спроси Исабека: что вчера видел в кино? Уже забыл - не
вспомнит. Спроси: как кобылица первый раз выводит в табун своего
жеребенка? Исабек покажет: вот кобылица идет гордо, сторожко, идет как
воплощение нежности, а вот жеребенок поспешает неловко. Исабек
приглядчив и чуток ко всему живому.
В Чупчи он считается чемпионом по казахской национальной борьбе
казахша-курес. Исабека не оторвать от земли, не свалить. По всему
сложенью - потомок кочевников, наездников. Туловище длинное, а ноги
короткие, колесом, Сидит на коне - картина. Пеший низкозад, но тем
упористей стоит на земле. И рукастый: далеко достает, хватает крепко.
Не раз видел Еркин: Исабек легко кидал соперников. Летом кидал на
мягкую траву, зимой - на грязные маты спортивного зала. Еркин учился у
родича всем хитростям казахша-курес, но самолюбивый Исабек ни разу не
поддался младшему - всегда прижимал его к земле. Исабеку нет выше
радости, как показать свою силищу. Сила есть - ума не надо! Но в
борьбе бывает минута - нет, доля минуты! - когда видишь, какое сердце
у человека. Бросил противника, а дальше что? Придержал противника в
позоре, поверженным, продлил свое торжество - чье-то унижение или
сразу же победитель закончил схватку, отпустил лежачего: не враги мы,
силами померились - и точка.
Еркин знает: Исабек ни разу не затянул свое торжество, не
придержал поверженного в унижении, сразу же отпускал. Отойдет,
расплывется глуповато: сам удивляюсь своей силе!
Чупчинский первый силач топтался за школой в кругу
одноклассников, чабанских сыновей из казахского десятого "А".
- Солдат-то не идет. Струсил, - хорохорился Кабиш, самый малый
ростом, самый хилый и потому самый охочий до чужих драк. Кабиш
вертелся на углу, посматривал на школьное крыльцо. Наконец
затрепыхался: - Идут, идут! Один идет! Ну, Исабек! Сейчас ты ему
врежешь! - Кабиш вытянул шею, вглядываясь в темноту, и разочарованно
протянул: - Не Левка! Другой идет. Струсил долгоносый!
В солдате, пришедшем к десятиклассникам за школу, Еркин узнал
белобрысого самоуверенного москвича, старшего по команде, приехавшей
на вечер.
Зачем пришел? К москвичу ни у кого счетов нет, хотя он и ходит к
Саулешке. Левку звали, Исабек звал, отправлял письменное приглашение с
быстрой Фаридой по летучей почте.
Муромцев оглядел собравшихся, насколько позволяла зимняя серая
темнота:
- Рад всех приветствовать. И вынужден тут же огорчить. Кто-то
пригласил для серьезного разговора моего товарища Левона. К сожалению,
он не может прийти...
Несколько дней назад, вызванный Рябовым, Володя в обычной своей
дипломатической манере доложил обо всем, что полагал необходимым
лейтенанту знать, а все, что, на взгляд Муромцева, деликатному
лейтенанту лучше не знать, дипломат оставил при себе.
- Ребята кипят! - свободно излагал Муромцев, усевшись напротив
Рябова. - Общее мнение такое: Левкина мать - женщина старая, ей
положено иметь соответствующие пережитки. Но он сам обязан, конечно,
мыслить по-современному. Ребята считают - у Кочаряна такая задача:
дождаться демобилизации, расписаться с девчонкой и ехать к матери -
пусть поглядит... - Здесь Муромцев мог продолжить: "на невестку и
внука", поскольку солдаты разбирались, как далеко зашли дела у Левки с
Аминой, но такими лишними сведениями он обременять лейтенанта не
намеревался. - Пусть поглядит на молодую семью. Не сойдутся со
стариками - уедут. У нас есть для них надежные адреса: жилье будет,
работа будет. - Здесь Муромцев мог добавить, что и бабки намечены:
приглядеть за новорожденным, пока родители на работе, но удержался. -
Одним словом, мнение у ребят сложилось единое, но Кочарян колеблется.
- Двухэтажный дом? - спросил Рябов. - Своими руками строил?
О доме ему откровенно рассказал сам Левон: столько труда вложил,
столько денег, а теперь бросать!
- Дом, - подтвердил Муромцев. - Однако я не спешил бы Левку
судить за собственнические мысли о доме. До армии он работал в бригаде
шабашников. Вы про такие бригады читали? Одни пишут: грабеж колхозной
кассы. Другие: благо для колхоза, потому что в деревне еще нет своей
строительной базы. Такая вот дискуссия в печати. А по Левкиным
рассказам - старинный промысел, народная традиция. Работают от зари до
зари, на полную катушку. Лодырь у армян-шабашников и дня не
продержится - вышвырнут. И профсоюз не заступится. Любопытная
ситуация, не правда ли? Свои плюсы и минусы. Вам ведь нравится, что
Левка такой умелец и безотказный работяга?
Рябов подумал: "Ну трепач..."
- По Левкиным рассказам, - с удовольствием развивал свои
соображения Володя, - он за сезон тысячи греб. И все деньги вкладывал
в дом: один раз его строишь, на всю жизнь, чтоб и детям остался... Не
отсуживать же Левке свою долю у отца с матерью - этого он не сделает,
а ведь есть прохиндеи, что и судятся с родителями... Так ведь?
- Все-то вы, Муромцев, понимаете, все-то вы можете разложить по
порядку, - нехотя сказал Рябов. - И товарищи вас за это, кажется,
уважают. Но я бы на вашем месте попридержал свою рассудительность.
- Почему?
- Посмотрите у Пушкина в заметках. Пушкин считал, что тонкость
еще не показывает ума. Что глупцы и даже сумасшедшие бывают
удивительно тонки. Я это говорю не в обиду вам...
- Понимаю! И хотел бы почаще слышать такие замечания. Мне это
необходимо. Я ради этого в армию пришел. Скажите, считаете ли вы меня
самодовольным пижоном?
- Нет, - ответил Рябов. - Самодовольным - нет. Вы скорее человек
практический, здраво оцениваете свои возможности. Но... Сказали бы
иногда словечко в простоте!
- В простоте так в простоте! - охотно согласился Муромцев. - Дело
в том, что уже не Левка артачится, а она. Левка ей записку посылал.
Мальчишка тут есть для таких поручений - Сашкой зовут. Услужливый,
если не задаром. Он с Левкиным посланием обратно притопал - не
приняла. Обиделась, что ли... Кому-то из ребят все же придется
вмешаться, я так думаю. - Он встал. - Можно идти?
- Еще один вопрос. Синяк Кочаряну под глазом кто поставил?
- Никаких стычек с представителями местного населения не было, -
успокоил Муромцев начальство. - Синяк получен на территории части.
После дипломатических переговоров с лейтенантом Муромцев решил:
позиция его в общем была правильной. Синяком дело не кончится, ребята
непременно припрут Левку к стенке: женись, и точка. Требование
несколько примитивное, но в чем-то совпадающее с убеждениями
Муромцева: допуская в иных прочих случаях какие-то отклонения от
истины и нравственных правил, человек в отношениях с женщиной всегда
обязан оставаться порядочным. И дело тут вовсе не в совести. Есть
инстинкт самосохранения личности.
Надо все это Левке попроще растолковать, вколотить в его башку.
Родная мать, хотя она сейчас и шлет ему свои восточные проклятья, сама
же первая не простит сыну, если он смалодушничает, уронит мужскую
честь. Такой довод на Левку подействует сильнее кулаков. И начальство
будет довольно, если история с Левкой и его девчонкой не перерастет в
ЧП, подрывающее дружбу воинской части с местным населением.
Возвращаясь от лейтенанта, Муромцев думал: что можно извлечь для
себя полезного на будущее из такого забавного эпизода солдатской
службы? Можно извлечь важное правило: если все время демонстрировать
свой ум и проницательность - станешь неинтересным.
Окрик Коротуна вернул Володю на обсаженную кирпичиками дорожку
военного городка.
- Почему не приветствуете? Уставчик подучить, подучить! -
отечески рекомендует краснолицый майор.
Внутри Коротун весь кипит от Володиной манеры глядеть на старшего
по званию свысока. По какому такому праву свысока? Да что у него есть,
у щенка? Только рост. Современная молодежь! Образованные, с
десятилеткой! Амбиции хоть отбавляй, а простых вещей усвоить не могут.
Прежние, с четырьмя классами, за месяц овладевали. С этими год бейся -
службу не понимают.
Эту сцену наблюдал из окна полковник Степанов, и ему она
чрезвычайно не нравилась.
- Ваше мнение о Муромцеве? - спросил он лейтенанта Рябова.
- Умен, быстр, деловит... - перечисляет Рябов.
- Вы не назвали очень важные качества: честность, отвага.
- Трусости он себе не позволит никогда.
- Какие-то новые обороты речи. Что значит: он себе не позволит?
- Честолюбие.
Рябов смотрит в окно. На плацу Коротун продолжает воспитывать
Муромцева. У будущего дипломата на лице ретивая готовность: немедленно
пойду, сяду зубрить устав.
- Несмотря на все вопли о грехах цивилизации, я верю, что
образование делает человека лучше, то есть образует и его нравственный
мир...
- Допустим. А как вы считаете, этот - по вашему наблюдению,
деловитый честолюбец - вас, своего командира, уважает?
- Трудный вопрос, - замялся Рябов. - Современному солдату мало
почтения внушают должность и чин. Ему еще надо доказать, что ты знаешь
и умеешь больше, чем он. Что ты в военном деле настоящий специалист.
Муромцев признает мой авторитет военного специалиста. Признает
необходимость беспрекословного выполнения приказа. К военной службе
относится сознательно, ищет в ней пользы для своего развития.
- Допустим. А случись настоящие боевые действия?
- Я думаю, война всех заставляет поворачиваться неожиданной
стороной. Я, конечно, на войне не был. Помню, мальчишкой хотел понять:
какая она, война. Смотрел на фронтовиков. Но ничего не понял.
Кончилась для человека война, и он опять переменился, стал другим...
- Очень хорошо, что вы сами об этом заговорили, - сказал
Степанов. - Мы с вами на войне не были, а вот майор Коротун был.
Идя за Левку на драчливый вызов Исабека, Володя Муромцев в
точности знал: рискует, но не слишком.
- К сожалению, Кочарян не сможет прийти, - Володя подмешивал в
вежливость гомеопатическую дозу пренебрежения. - У него есть более
важное дело, чем то, для которого кто-то из вас, аксакалы, пригласил
его сюда. Левон пошел провожать одну девушку из вашей школы.
Володе нравилась собственная речь и то, как он ловко переиначил
на местный лад принятое в Москве среди юнцов обращение "старик",
"старики".
Исабек тяжело переминался с ноги на ногу:
- Слушай, ты! Зачем пришел?
Володя снисходительно усмехнулся:
- Я, видите ли, пришел засвидетельствовать, что мой друг не
струсил. Можно сказать, он рвался посчитаться с кем-то из вас,
аксакалы, но я, как старший, ему отсоветовал. Понятно? - Он задрал
рукав, поглядел на светящиеся часы.
- Обманули они тебя! - бросил Исабеку раздосадованный Кабиш.
Еркин подумал: когда чужой входит в аул, ему надо остерегаться не
матерых псов, а самой никчемной собачонки. Пока она не зальется -
свора не вскочит.
- Не-е, ты погоди-и-и... - медленно тянул Исабек. - Не пойму я,
ты-то зачем пришел?
Володя еще раз демонстративно взглянул на светящийся циферблат.
- Если у кого-то здесь чешутся кулаки, могу предложить свои
услуги. Так сказать, заменить в программе вечера моего товарища
Левона.
Кабиш подскочил к Исабеку.
- Да всыпь ты ему! Он над нами издевается! - Кабиш говорил
по-казахски, но смысл сказанного был любому ясен по азартной
жестикуляции.
Еркин сказал по-русски, не одному Исабеку, но и пижону
московскому:
- Не валяйте дурака! Пошли!
- Нет, ты погоди... - мучился тугодум.
- Аксакал, у меня десять минут! - бросил москвич.
- Нет, ты погоди... Не пойму я, кто тебя-то звал сюда?
Москвич не производил на чабанских сыновей впечатления противника
сильного и ловкого. Левка, тот - да, здоров, как зверь, вся грудь в
густом волосе. А москвич? Слабак он и городской стиляга. Исабек - не
сравнить - куда сильней. Только смысл какой первому в Чупчи силачу
взять верх над тщедушным солдатом? Разве что для порядка. Поставить на
место этих из городка, чтобы нос не задирали, к сагатскпм девчонкам не
лезли.
- Зачем стоим? Пошли, - сказал Еркин Исабеку, опять по-русски,
чтобы солдат понял.
Парни из десятого "А" не возражали, вид имели самый мирный, но
вопреки мирному виду расступались все шире, очищали место. Еркин
видел: Исабек не хочет драться, солдату-москвичу драка тоже ни к чему,
но теперь от нее не уйдешь. Люди не хотят - драка иной раз сама свое
дело правит. И самый трусливый выходит тогда в судьи над храбрецами.
- Уж не испугался ли здесь кто? - подстрекал Кабиш.
Еркин понял: нет, не остановишь.
Кабиш захлебывался:
- Врежь ему! Врежь!
Что случилось - никто не понял, не разглядел. Исабек пошел на
противника и вдруг рухнул на утоптанную глину школьного двора.
Вскочил, бросился на солдата - опять тяжелым мешком брякнулся оземь.
Москвич весело покрикивал:
- Осторожней, аксакал!
Вот почему смело пришел, разговаривал вызывающе: знает какие-то
тайные приемы! Сильную ручищу Исабека вывернул, встал над ним:
- Ну как? Поиграли? Хватит?
Исабек взревел: пусти!
- Нет, ты скажи. Хватит?
Все притихли и услышали снизу, от земли:
- Хватит...
Еркин чувствовал - будто он сам прижат к земле, будто его рука
выворочена больно, зверски больно! - солдат медлит, наслаждается
победой, тянет унижение противника.
- Пусти! - Еркин подскочил к солдату.
Тот отпустил Исабека и похлопал Еркина по плечу.
- Старик, порядок!
Исабек поднялся, пошел прочь, не разбирая дороги.
Еркин с трудом вспоминал: что-то очень дорогое он поставил на
Исабека. Поставил и, значит, потерял. Зачем он допустил родича своего
до неравной схватки? Пускай не шибко умен Исабек, но всегда верил в
свою силу. Теперь же его сила перечеркнута, высмеяна, уничтожена. Ты
слабейший из слабых, Исабек!
Парни из десятого "А" выспрашивали москвича о хитрых приемах
борьбы.
- Нет, не самбо. Это дзюдо. В Японии каждый мальчишка владеет
такими приемами. Вообще-то, аксакалы, я бы мог с вами позаниматься. Но
только с разрешения вашего учителя физкультуры. Учить буду не каждого.
Дзюдоист не имеет права передавать свое умение ненадежным ребятам.
Короче говоря, ставьте вопрос перед своим начальством, а оно пускай
топает к моему. Понятно, аксакалы?
Володя был доволен: и не думал прежде о кружке в школе, а ведь
это прекрасная идея, возможность уйти из части вечером или в
воскресенье!
Еркин практических размышлений Володи знать не мог. Он видел:
победитель держится достойно, без похвальбы. Ловкий парень и умен.
Куда против него Исабеку! Вот только как назвать, как объяснить те
минуты, когда москвич затянул унижение побежденного? Ведь не счеты же
сводил из-за девчонки. Дрался за другого, не рисковал, заранее знал: с
любым один на один справится хитрым японским способом. Тогда зачем
тянул позор Исабека, если Исабек не обидчик, не соперник, не враг -
никто? Потому тянул, что москвичу Исабек никто?
Чабанские сыновья, окружив победителя, двинулись в школу. Еркину
не хотелось идти с ними, он остался во дворе. Из окон зала падали
косые, желтые полосы света. У крыльца чернел автобус. Потягивало
запахом остывающего мотора. На крыльце показался лейтенант, поглядел
по сторонам: что-то дошло до него, вышел проверить.
Ушел лейтенант - Василий Петрович выглянул, повел носом:
Гавриловна выслала в дозор.
Еркин замерз - потянуло в школу. Встретить Машу он сейчас не
хотел. Заберет с вешалки тулуп, малахай и потопает домой. А завтра
прикатит машина с Жинишке-Кум, увезет интернатских на зимние каникулы.
Две недели у Еркина в запасе.
В школьном коридоре покуривал Рябов. Скоро даст солдатам команду
собираться.
С той стороны, где зал, шла по коридору Сауле, очень красивая. За
ней солдат-москвич, тот, что победил Исабека. Еркин разозлился на
Сауле: пусть бы кто другой! Но зачем именно этот!
- Ты где пропадал? - спросила Еркина Сауле.
Ему стало смешно: какой снисходительно-небрежный фальшивый тон.
Но собственный ответ прозвучал еще фальшивей:
- Все время здесь. Ты меня последнее время не замечаешь.
Она стояла перед узким высоким зеркалом, солдат принес ее пальто
из класса, ловко подал, слегка задержал руки на ее плечах - как бы
полуобнял Саулешку сзади и глядит в зеркало на нее и на себя...
Еркин понял: вот как делается. Подать пальто, задержать руки у
девчонки на плечах, встретиться глазами в зеркале.
Рябов взглянул на него сочувственно:
- Ты, Еркин, учись танцевать, пока молод. А то будешь как я...
В коридор выплыла Серафима Гавриловна.
- Геннадий Васильевич? Мы вас ищем!
На Еркина она поглядела изучающе.
- Что-то ты мне сегодня не нравишься!
- Сожалею, - сказал Еркин. - До свидания.
Нашаривая на вешалке в темном классе свой тулуп, он услышал
голоса Нурлана и Кольки.
- Если хочешь, как настоящий мужчина, залить свое горе, давай!
Пропащий человек сидел на подоконнике с бутылкой "Алма шарабы".
- Не-е-е... У меня дома сразу унюхают.
- Чаем зажуешь. Вот пачка цейлонского.
- У меня и сквозь чай разберутся.
- Что-то я тебя не пойму! Или ты переживаешь из-за Саулешки, или
думаешь о встрече с бабкой?
Нурлан, как истинный друг, стремился помочь Кольке поэффектнее
сыграть свою несчастную любовь к Саулешке, которая ушла с
Володей-солдатом. Колька, напротив, хотел, чтобы никто не догадывался
о его переживаниях. Ему казалось: Саулешке не может всерьез нравиться
Володя. Не может - и все. Кого-то она дразнит этим Володей. Колька и
не надеялся, что Сауле дразнит его.
- Я переживаю! - отбивался он от бурного сочувствия. - Но и дома
неохота выволочку заработать. Ты мою бабку знаешь!
- Бабка или Сауле? Выбирай!
Еркин, натягивая тулуп, подошел ближе:
- Эй, как бы вас тут Гавриловна не застукала.
- Глотнуть хочешь? - спросил Нурлан.
- Зачем?
- Пьют с горя, - снисходительно сообщил Нурлан. - Или для
храбрости. Девчонки любят храбрецов. Ты, Садвакасов, сегодня храбрый?
- Здесь, в темном углу, хватит и двух храбрецов. С Новым годом! Я
пошел.
После ему вспомнится Нурланова болтовня про храбрость. Отчего
многое серьезное сначала встречаешь в пустяковом виде?
Еркин направился к выходу и - так ведь не хотел! - увидел
встревоженную Машу.
- Ты уже уходишь? - удивилась она.
- Нет, не ухожу. - Маша показалась Еркину сейчас чем-то похожей
на Сауле. Не внешностью, а чем-то другим, неуловимым. - Я ждал тебя. -
Ему совралось легко. - Твой автобус скоро? Давай выйдем пока. Я тебе
должен сказать...
- Подожди, я сейчас! - Маша надела пальто. Еркин не успел подать.
Надела длинноухую чукотскую шапку - Еркин и не замечал прежде, до чего
милая ушастая шапка!
Они вышли на крыльцо.
- Что бы ты хотела переменить здесь, у нас? Что наколдовать под
Новый год?
- Я бы сюда речку привела, - сказала она. - Ласковую речку,
зеленый берег. И чтобы ветлы низко над водой. Но здесь речку неоткуда
взять, ветлы не из чего сделать. Нельзя даже на Новый год желать не по
правде. Если даже придумываешь, все равно надо по правде: что на самом
деле возможно...
Еркин взял обеими руками мягкие чукотские уши, завязал узлом у
нее под подбородком:
- Ты хорошо сказала, ты молодец. Нельзя желать неправду.
- Гляди, Еркин, как вызвездило сегодня!
- Тебе не холодно?
Они вышли из ворот. Показалось Еркину или на самом деле в степи
промелькнула черная фигура? Исабек бродит... Еркин не окликнул - ну
его, Исабека! Ветер давил все сильней. От поселка к школе катил
грузовик с фанерной будкой в кузове.
- Дядя Паша приехал. Повезет завтра интернатских на отгон, где
все ваши отары.
- Это далеко?
- Не очень. Километров двести.
- А мы, может быть, скоро уедем насовсем.
- Я знаю.
- Ничего ты не знаешь. Ни-че-го!
- Не знаю, - согласился Еркин.
- Я читала: есть проект повернуть сибирские реки в засушливые
степи Казахстана.
- Я тоже читал.
- Почему же ты согласился, что я желаю неправду? Здесь будет
река.
- Все будет. Река. Много людей, много света. А ты будешь?
Какой-то чудак в бушлате вышел из тьмы на свет фар, заслонил
глаза ладонью. Ручища, как лопата, прикрыла пол-лица.
Паша притормозил, открыл дверцу.
- Выпил? Иди проспись!
Чудак в бушлате пропал из света фар. Паша не слышал его шагов по
разбитой дороге - в таких-то корявых сапожищах и трезвый в темноте
запинается, а этого не слышно. Где он там застрял, чудак?
- Браток, подвези! - захрипел чудак рядом. Когда подскочить
успел?
- Ладно, садись!
Придется прокатить чудака двести метров до школы. Не мерзнуть же
ему на ветру, тем более, похоже, нездешний, степи не знает, уйдет -
заблудится. Паша потянул дверцу - захлопнуть, но чудак не отпустил.
- Не дури! Кому говорю?
Но дверца рывком ушла у Паши из-под локтя, железная ручища
схватила его за горло.
- Ты вот как!.. - Паша упирался, но бессильное, вялое тело ползло
с гладкого сиденья, валилось наружу.
"Ключ!" - вспомнил Паша. Он нашарил плоский ключик, выдернул и
тут же выронил его из пальцев.
Салман с облегчением подумал: "Ну, теперь мне!"
Он уже подкрался близко, стоял за спиной чужого, чуял над головой
саперную лопатку, прикрученную проволокой у борта грузовика, успел
прикинуть: "Лопатку? Долго откручивать! А надо бы! Нет, не успею!"
Салман ухватился рукой за низ борта, изо всех сил врезал сапогами
чужому под колено, перегнулся, перекинулся и всеми когтями впился в
горло, в ненавистный кадык.
Все успел - только весу в Салмане как в птице.
Месяц кувыркнулся - острым рогом ударил в бок.
После Салман очутился на теплом, на горячем. Лежал спокойно,
отдыхал. Все слышал - говорить не хотел.
Витькина сестра целовала его в лоб, в щеки:
- Сашка! Ты живой? Сашка, скажи! Сашка, откуда кровь? Ну,
пожалуйста, скажи хоть что-нибудь, не молчи. Я тебя очень люблю,
Сашка! Ты только не молчи, скажи...
Что-то теплое капнуло на щеку Салману, потекло по губам.
Рядом застонал дядя Паша. Сел, шарит по земле:
- Ключик я обронил. Девонька, поищи.
Все Салман слышал - глядеть и говорить не хотел. Лежал спокойно и
думал свое: "Жизнь у меня будет долгая, я еще много чего увижу, не
пропущу, потому что сегодня не пропустил, не прозевал, вовремя
подоспел..."
Еркин бежал за бандитом от слабых огней Чупчи в темноту степи.
Припоминал: что есть при себе в карманах? Авторучка, блокнот
пустячный, платок, зажигалка американская - подарок Кенжегали... Да,
зажигалка - дело. Не упуская из виду черную фигуру, Еркин присел,
нашарил ворох курая, чиркнул зажигалкой. Курай вспыхнул и тут же -
искры на ветер - перегорел. Еркин поднялся, припустил вдогонку за
черным человеком.
"О чем только что я говорил с Машей? О реке. Что хотел Маше
сказать?"
Еркин опять чиркнул зажигалкой, не сразу придавил фитиль.
Откуда-то взялся солдат-москвич.
- Ты что с огнем балуешь?
- Бандита ловить надо. Дядю Пашу убил.
- Здешний кто? - солдат бежал рядом.
- Нет, чужой...
- Ты чем поджигал траву?
- Зажигалка у меня.
- Еще разок полыхни.
Еркин еще раз поджег сухой курай, догнал солдата.
Чужой выдохся, остановился, повернулся к ним лицом, крепко
расставил ноги: кому жить надоело, подходи!
Володя слышал близко сбоку детское пошмыгивание. Мальчишка
слабак, не поддержка... Муромцев угадывал в приготовившемся к схватке
бандите силу, опыт и жестокость. Здесь не спортивный зал - дикая степь
кругом.
"Но почему именно я должен сейчас? Это же зверь!.. - Володе
казалось, что ледяной ветер продувает до сердца. - Какого черта?!..
Какого черта я сорвался в погоню, вместо того чтобы бежать в школу,
поднять тревогу? Никогда не надо поддаваться минутному порыву - ничего
полезного из порывов, самых прекрасных, не получается... Владимир
Муромцев, если хотите знать, не готовился работать на Петровке
тридцать восемь. Он метит в высотный дом на Смоленской площади.
Благодарю вас за внимание, дамы и господа! И не поминайте лихом!"
Володя попытался иронически усмехнуться, но пересохшие губы
склеились крепко.
Еркин опередил солдата на короткие секунды - бросился на бандита.
Чужой не успел ничего. Муромцев воспользовался единственным
мгновением, сработал молниеносно, как по команде тренера - раз! Хруст!
Вопль истошный! А теперь обмякшего в снег мордой, в камешки...
"Спасибо вам, Симамура-сан, ваш усердный ученик, кажется,
совершил то, что называется героическим поступком. Ни минуты не
раздумывая, солдат Муромцев кинулся и... Черта с два не раздумывая! Я
столько передумал - теперь и не вспомнишь, не соберешь! Да и надо ли?"
- Парень, у тебя ремень есть? Придется снять! - Володя помог
Еркину намертво стянуть тяжелые кулачищи. - Ну а теперь отдохнем,
подождем публику, перекурим. Не куришь? Хвалю. Где-то я тебя видел.
А-а... Ты был, когда дрались. Собери-ка травки побольше. Понял?
Действуй...
Еркин торопливо ломал курай, складывал в кучу.
- Столько хватит?
- Хватит! Пали! - Володя с наслаждением прикурил от зажигалки
Еркина. - Откуда у тебя такая шикарная?
- Брат подарил.
- А кто он?
- Научный работник.
- Хороша, но разовая... Израсходуешь газ - выбросишь.
- На бензиновую переделаю.
- Можно! - Володя курил, блаженствовал. - Приятно было с тобой
познакомиться. Ты молоток! - Почему-то Володя не сказал Еркину про ту
секунду, когда Еркин опередил его, бросился на руку с ножом, отвлек
бандита. Нарочно не сказал? Или на радостях забыл, как забыл все
быстрые мысли, промчавшиеся в голове перед броском?
Но разве так уж важно: узнал, не узнал? Важно - сделал.
- Здорово ты его! - У Еркина нет охоты подойти к бандиту,
разглядеть, понять, насколько он рисковал.
- Матерый! - похвастал Володя. - Наколочки на руках. Любопытные
уголовные сюжеты. Не удивлюсь, если выяснится, что этот тип бежал
из-под стражи. Я слышал, они, если бегут, машину на дороге захватят и
по-о-о-шел степью до Каспия. Кто встретится - покойник! - Володя
бросил окурок в костер. - Что-то наши не торопятся. А я-то еще
сомневался: зачем сдуру за ним кинулся, не сообразил ребят поднять.
Пока подымались бы - он далеко мог уйти. Ты как полагаешь?
- Далеко бы ушел.
Еркин пошел еще наломать курая. Вернулся с большой охапкой,
накрыл слабый кончающийся костерок. Пламя прогрызлось, выметнулось
высоко вверх, раскидало красные искры. Чужой перекатился на спину,
лежал с открытыми глазами - в глубине зрачков блеснули тусклые
медяшки. Еркину вспомнился волк: тот же блеск в глубине узких волчьих
зрачков.
- Прочухался? - бросил Володя.
Чужой равнодушно проехал взглядом по солдату - может, принял за
конвойного? - уперся в скуластого мальчишку, высвеченного диким
степным огнем: нет, другой, не мазитовский ублюдок.
- Ублюдку передай. С того света приду - сквитаюсь.
- Не передам! - усмехнулся скуластый. - Зачем пугать ребенка. Но
не забуду! С того света придешь - меня встретишь.
На свет костра мчал по степи солдатский автобус.
- Показывай, Муромцев, кого взял. Пашка в порядке. Повез пацана в
больницу.
Еркину теперь казалось: разговор с Машей был очень, очень давно.
И незачем было этот разговор затевать - обидные мысли, трудные слова.
К нему подошел лейтенант.
- У тебя все в порядке? Маша там напугалась - плачет.
- Еркин у нас молоток! - похвалил Володя и стал рассказывать
Рябову, каким приемом свалил бандита.
Еркин думал: много солдат рассказывает - это бывает, когда
перепугаешься. Он сам про волка много рассказывал, пока отец не
объяснил, по какой причине язык развязывается. Еркин тогда себе
приказал: про волка не болтать. Но Володю-москвича он не осуждал.
Конечно, хватили страху.
Еркин достал из кармана американскую зажигалку, протянул Володе.
- На! Возьми на память!
- И тебе от меня! - Москвич снял с руки часы.
Что-то сделали с Салманом слезы Витькиной сестры. От ее слез он
становился все старше и слабее.
Ехала, хрустела по мерзлой земле машина. Теплые губы трогали лоб
Салмана. Хотелось приоткрыть глаза, но Салман себе не разрешил: "Еще
успею, погляжу, не убили, долго проживу..."
Машину трясло, кидало. Мысли его путались. Не Салман он вовсе, а
другой мальчишка тех же лет, фашистами расстрелянный, да не до смерти.
Боевой комбат нашел его среди убитых, поднял на руки, понес: ты теперь
долго будешь жить, парень!
В больнице Салман открыл глаза - от врага своего Доспаева он
прятаться не станет.
Доспаев больно ковырял где-то под ребрами.
- Ты везучий. Несколько сантиметров в сторону - было бы, брат,
очень худо.
Салман глядел не моргая, ухмылялся.
Доспаев спросил:
- Ты не думал, что у бандита может оказаться нож?
- Про нож-то? Знал! Он мне его показывал. Большой нож.
- Вот как? Ты знал? - Доспаеву непонятен этот мальчишка,
преследовавший Сауле мелкими злыми пакостями. Дурная трава, но
здешняя. Не только сын своего отца, но и сын степи.
Только тут Салман заметил: по другую сторону стоит Витькина мать
в белом халате. Откуда взялась? Оттуда! Она здесь работает. Потерпи,
Салман! Тебе еще рано ум-память терять.
- Вы, Наталья Петровна, мне пока не нужны! - распорядился
Доспаев. - Пусть пришлют Мануру из хирургического.
- Она ушла домой.
- Не Манура - пусть кто-то еще. Поопытней!
Салман тужился поднять голову.
- Нет! Она не уйдет. Пусть она. - Он требовательно глядел
Доспаеву в глаза. - Пусть она!
Доспаев уступил:
- Оставайтесь, Наталья Петровна.
Он отошел, чем-то занялся, издали спросил Салмана:
- А ты не загордился сгоряча? Уже командуешь в больнице.
Салман понял: уважительно говорит с ним заносчивый Доспаев. Но
радости от победы не было. Откуда-то стыд пролез: кому мстил?
Девчонке!
Над самым ухом Витькина мать негромко проговорила:
- Спит. Ослабел. Бедный малыш. Пойду скажу Вите, Он прибежал.
Маша там, все ребята. Я им сейчас скажу. Что им сказать, Сакен
Мамутович? Девочки просятся по очереди дежурить.
- Очень похвально, однако нет необходимости. Дежурства, Наталья
Петровна, допускаются тогда, когда они нужны больному, а не тем, кто
рвется дежурить. Скажите им, чтобы шли по домам.
- Хорошо, я скажу. Там и Сауле.
- Тем более что там и Сауле.
Салман не спал, думать стало больно. "Не о чем мне больше думать,
тихо полежу - отдохну, думать не буду. Но из больницы выйду - стану
жить заново".
Доспаев сказал:
- Вот теперь он на самом деле спит. Спокойной ночи, Наталья
Петровна.
Еркин проснулся от запаха яичницы с салом. За столом, завесив
лампочку газетой, сидели дядя Паша и Ажанберген.
- Уже ехать? Я проспал?
- Какой там! Два часа ночи. Ты погляди, Еркин, вот сидит
счастливый человек, он только что стал отцом. - Дядя Паша еще что-то
говорил, а человек, который стал отцом, улыбался от уха до уха. - Если
тебе, Еркин, не спится, давай сюда, за стол. Поговорим про жизнь.
Ажанберген у нас самый старший, отцом стал, сыну два часа от роду, вес
три восемьсот. За Ажанбергеном по званию следующий я. В армии отслужил
- раз, женатый уже - два. А ты у нас самый молодой и пока что
холостой. Ночь нынче у нас, мужики, святая. Во-первых, выпивки нет и
не надо, мне завтра пацанов везти в Жинишке-Кум. Во-вторых, человек на
свет явился и выбирает, как говорится, свой жизненный путь: в чабаны
ему идти, в шоферы или - попроще - в академики. А в-третьих, у меня
лично свой праздник - чудотворное спасение Паши Колесникова... Между
прочим, когда у меня сын родится - хотя Тоня дочку хочет! - так вот
сына я непременно Сашкой назову, в честь своего спасителя.
Еркин вылез из-под одеяла, пересел к гостям за стол, ковырнул
яичницу.
- Что в жизни самое главное? - философствовал Паша. - В жизни как
на незнакомой дороге. Ты сумей каждый ухаб вовремя вблизи увидеть,
чтоб, значит, вовремя вправо-влево взять. В тот же момент успевай
замечать, что у тебя по сторонам. И главное - далеко вперед гляди. По
ближним кочкам дорогу не определяют, вперед глядеть надо - сколько
глаз достает. Ты туда через час доберешься, а глаз уже побывал,
примерился.
Ажанберген отрешенно улыбался.
Из второй комнаты, где Еркин не топил, вывалился заспанный
Исабек.
- В кошму закатался - и то закоченел! - Он сгреб ручищами кесешку
с чаем, прихлебывал с оттяжкой, отдувался, ни о чем не спрашивал,
потому что все проспал, забравшись с горя в садвакасовскую зимовку.
- Едешь завтра? - спросил Исабека Паша.
- Голова оставил на дополнительные. А то завалю на экзаменах и
казахский и русский. Гавриловна по алгебре сто задачек задала.
- Ты, Исабек, правильно держишь, - философствовал Паша. -
Аттестат любой ценой добыть надо, ну а после куда? На курсы
чабанов-механизаторов?
- В военное училище. На каникулах съезжу в военкомат, договорюсь.
- Ты? В училище? - не поверил Еркин.
Ажанберген слушал и улыбался блаженно: четвертый час идет его
сыну, малой зеленой почке сильного дерева, глубоко ушедшего корнями в
здешнюю землю.
- В пограничное хочу. В Алма-Ату. Мы для них лошадей поставляем.
Попрошусь после училища туда, где границу охраняют конные патрули. У
нас в горах буду служить или на Кавказе.
Он принес из холодной комнаты кошму: то ли по белому полю черный
узор, то ли по черному - белый.
Еркин снял гору одеял с сундука, гору подушек, разбросал по кошме
и лег со всеми.
Во сне он ехал на своем вездеходе по степи мимо отар, табунов,
красивых поселков. Видел: поднялся а степи саксауловый лес. Видел:
русла забытых высохших рек наполнила вода с русского севера. Видел:
ученый биолог Витя ставит какие-то электронные приборы у сусличьих
нор. "Синяя птица уже прилетела из Индии?" - "Нет еще, но скоро
прилетит". - "А где же твоя сестра?"
Исабек в фуражке с зеленым околышем скачет Еркину навстречу на
рыжем огнехвостом жеребце. "Ты куда, родич мой, Исабек?" В свой дом
вошел Еркин - там его ждал, сидя на полу, на кошме, старший брат
Кенжегали. "Ты думаешь, что те, кто уехал из Чупчи, не сделали ничего,
чтобы изменить степь? Наш Чупчи - часть великого целого, живущего
единой жизнью, не забывай, Еркин..."
От Чупчи до отгона летом домчишь всего за пять часов. Зимой,
отправляясь в дорогу, время не загадывают.
Темно еще было, когда Паша Колесников засигналил у интернатской
арки. Но тетя Наскет уже успела всех, кому в дорогу, разбудить и
накормила их не быстрым завтраком, а основательным обедом.
Нурлан, разбуженный со всеми, дочиста умял обед из трех блюд, а
ехать передумал: чего он там не видал, на отгоне? Культурного
обслуживания? Кинопередвижки? Лектора по международному положению? Он
вернулся в спальню и завалился в кровать. Малышам приказал снаружи
запереть спальню и разбудить его к часу! А там он решит, что делать: к
Кольке смотаться, в городок к Маше Степановой, рискнуть постучаться к
майору...
Фарида и предположить не могла, что Нурлан ее так подведет. Она
выпросилась погостить к тете Гуле на отгон. Из-за кого она затеяла
поездку к тетке? Из-за Нурлана! Все уже сидят в фанерной будке, а
Нурлан не идет. За ним бегали - не нашли, спальня заперта. Так и
уехали без Нурлана. Не выпрыгивать же Фариде из машины, себя на смех
выставлять.
В будке надышали, нагрели. Старшие ребята изо рта в рот передают
сигарету, младшие догрызают леденцы. Все едут по домам без поклажи.
Только к весне интернатские повезут валенки, шубы, меховые шапки на
укладку в домашние сундуки. Зимой у всех в дорогу руки пустые.
- Дударай-дудар, дударай-дудар... - девочки затянули тонехонько,
вплетали в песню голос за голосом, как шерстинки в пряжу, и песня не
грубела, она крепла, словно нить в умелых руках. Еркин не заметил, как
и сам вплел свой голос в общую песню.
Кто ее сложил? Мария, Марьям, Маша...
Дверца фанерной будки распахнута, Еркин видит убегающую вспять
черно-белую дорогу. Сидеть спиной к движению - все равно что видеть
мир в зеркале: все наоборот. Еркин встал и захлопнул дверцу.
В степи поземный ветер свивал снег в белые жгуты.
В больничной палате Салман проснулся, открыл глаза: против света
стоит кто-то. Салмана в жар кинуло: Витькина сестра. Отошла от окна,
повернулась - из Маши стала Саулешкой Доспаевой. Салман понял: пропало
у него прежнее острое чутье, другим стал, бестолковым. И не знал
теперь: что Саулешке надо, зачем пришла, что тут забыла?
- Ты чего? - настороженно спросил он.
- Проснулся! - Она подошла ближе.
Салман глядел на нее исподлобья. Мог бы, конечно, что-то сказать,
но не сказал - не признавал за словами никакой цены.
Дверь отворилась, в белых халатах вошли Витька и его сестра.
Салман разозлился: "Витька мне друг, он пускай остается, а девчонки -
обе! - пускай уходят, без них обойдемся".
После, кривясь от боли, он сел на кровати и поглядел в окно: вон
они обе идут к воротам...
Голова вышел на школьное крыльцо, поглядел в степь, зарисованную
снегом, как школьная доска мелом. Двое шли по степи, а он никак не мог
разглядеть или угадать: кто эти двое?
- Дряхлеешь, дряхлеешь ты, старый школьный козел! - недовольный
собою, ворчал Голова.
Ученикам он говорил:
- Когда чего-то добьешься, не забудь обругать себя. Ведь до этого
ты все время обиженно думал: "Ну почему у других все получается, а у
меня - такого умного, хорошего, талантливого! - ничегошеньки не
выходит?"
Но то ученики? А то он, старый школьный... ну, ладно, ладно, не
будем огорчать Серафиму Гавриловну... старый школьный директор по
прозвищу Голова.
Тем часом в городке перед строем читали приказ о мужественном
поступке рядового Муромцева, задержавшего опасного преступника. Володя
вышел вперед, подтянутый и молодцеватый...
В степи поземный ветер бросил вить тугие снежные жгуты, все
растрепал, развихрил - собрался забуранить. Грузовик с фанерной
будкой, разматывая за собой тонкую нитку песни, катил все дальше в
открытую степь. Еще многие километры будет кругом только степь -
большая неласковая земля, научившая живущих здесь людей привечать
любого незнакомого, кто придет к порогу, понимать друг друга и жить
разным народам в добром соседстве...
Еркин плотнее запахнул полы тулупа, откинулся назад. Слышнее
стало, как скрипит промерзшая фанера, летят из-под колес верткие
камешки, ровно тянет двигатель. Нет на свете ничего лучше, как встать
поутру и ехать, ехать навстречу новому дню...
Ирина Стрелкова
(повесть)
Журнал "Молодая гвардия" Э 11
1976 год
Художественный редактор В. Недогонов
Технический редактор Н. Строева
OCR - Андрей из Архангельска
Полковник Степанов приехал в Чупчи ранней весной. На русском
севере, откуда Степанова перевели на новое место службы, громоздились
сугробы, почернелые и ощетинившиеся, солнце окуналось в ледяные лужи.
А тут, в Чупчи, степь цвела всеми красками: по чистой зелени разлились
озера алого степного мака, в небе - высокая синь, горы на горизонте то
рыжие, то лиловые. И прибегал в городок ветер, всласть вывалявшись в
степных травах.
Но уже к маю, лучшему месяцу русской весны, степные краски стали
угасать. Небо вылиняло, трава превратилась в бурьян, степь с белыми
солонцовыми проплешинами сделалась похожей на старую, вытертую шубу.
- Человек тоже не всю жизнь молодой, - говорил полковнику чабан
Садвакасов. - Молодой - глаза горят, кожа как шелк. Состарился - глаза
плачут, кожа высохла, сморщилась.
К чабану Садвакасову полковника возили майор Коротун и лейтенант
Рябов. Майор дольше всех других офицеров служил в Чупчи, а Рябов
родился и вырос в станице под Алма-Атой, знает казахский язык.
Впрочем, толмач не понадобился. Старый чабан сразу заговорил с
гостем по-русски.
Сидели они в юрте. Толстая кошма не пропускала зноя, понизу край
был приподнят: сквозь решетчатые стенки потягивало ветерком.
Садвакасов угощал гостей кумысом, взбалтывая его черпаком в большом
эмалированном тазу, налитом до половины. Пришел хмурый, диковатый на
вид подросток. Рябов обрадовался:
- Еркин! Давай шахматы.
Подросток вытащил откуда-то из-под одеял шахматную доску, высыпал
на кошму фигуры.
- Сколько тебе лет? - спросил Степанов.
- Пятнадцать будет, - ответил за подростка чабан.
Степанов подумал: "Ровесник моей Маши, Красивое имя - Еркин".
Разговаривая с хозяином, полковник нет-нет да и поглядывал: что
там шахматисты? Рябову приходилось туго, он морщился, беспрестанно
снимал и протирал очки. Диковатый подросток оставался безразличным.
- Интеллигентные люди в таких ситуациях признают себя
побежденными, - советовал Коротун.
Рябов потянул еще пару ходов и сдался.
- Давай тогыз-кумалак! - приказал сыну старик.
Еркин перевернул шахматную доску. На обратной стороне были
выдолблены продолговатые лунки.
- Тогыз-кумалак означает девять катышков, - перевел полковнику
Рябов, раскладывая черные шарики по лункам. - Игра идет в чет-нечет.
Вся хитрость в математическом расчете. Самая подходящая игра для
военных.
Лейтенант и подросток сражались азартно, загребали друг у друга
шарики из лунок...
На обратном пути Степанов спросил:
- Этот парнишка внук Садвакасова?
- Нет, - сказал Рябов, - сын, самый младший. А старший сын в
Алма-Ате живет. Геолог, академик Садвакасов. Давно зовет отца в город,
но старик ни в какую.
- Садвакасов себе цену знает, - заметил Коротун. - Поглядишь,
чабан как чабан, а все начальство к нему ездит.
Летом Садвакасов со своей отарой откочевал на юг, к горам.
Просторная юрта старика набилась мальчишками всех возрастов: съехались
на каникулы городские внучата чабана. Скучавший по своей ребятне, по
Вите и Маше, Степанов подумал: отдать бы Витю на все лето в эту
компанию - вот бы славно!
В конце августа Степанов встречал семью. Мимо катили горячие
пыльные вагоны, полковник искал глазами своих. Поезд загремел,
напротив Степанова повисли ступени, стертые до блеска. Сверху прыгнула
ему на шею дочь в узких джинсах, с рюкзаком за спиной.
- Машка! - выдохнул он.
- Пап, ты такой черный, не узнать!
Следом за Машей из вагона поплыли на платформу чемоданы, коробки.
Пассажиры из тех, что быстро сходятся в дороге, складывали на бетон
поклажу, подбадривали приятельскими репликами:
- Полный порядок.
- Сейчас ваши выйдут, товарищ полковник.
И вот по ступенькам спускается Наталья Петровна: светлый немятый
костюм, лакированные туфли именно на том вошедшем в моду каблуке, по
которому сходят с ума все офицерские жены в Чупчи. За ней невозмутимый
Витя с клеткой: в клетке мечется мелкий рыжий зверек.
- С приездом! - полковник притиснул сына к себе: все косточки
прощупываются! А вырос на целый вершок! Осторожно поцеловал жену в
напудренную щеку.
- Пап, а пап! - Витя потянул отца за рукав. - Мы с Машкой в
вагоне поспорили. Здесь настоящая пустыня?
- Полупустыня.
- Пап, а что во-он там? - Витя показал на глинобитный домик с
круглым куполом. - Древнее жилище?
- Могила. Мазар.
В конце платформы, вдоль железной дороги, метров на двести
выстроились деревянные щиты. Витя спрыгнул с платформы. Щиты
накренились под тяжестью навалившегося песка.
- Обычное явление, - сказал полковник сыну. - Движущийся песок.
- Бархан? Как же он движется, если даже ноги в нем не вязнут? -
Витя присел, копнул песок рукой. Сквозь корку пробивался неказистый
кустарник: кривые ветки, узкие серые листики. - Тут что-то растет!
- Саксаул. Песок только саксаулом и остановишь.
- Что вы там нашли? - нетерпеливо окликнула Наталья Петровна.
Степь, пески, саксаул... Конечно, не Россия. Но чего уж
вспоминать? Есть места и похуже Чупчи!
- Пошли к машине! - Наталье Петровне хотелось поскорее увидеть
военный городок.
Салман притащился в военный городок спозаранку.
Летом он дома не ночует. Мало ли в степи мазаров? Чтобы не
мерзнуть, Салман спроворил ватное одеяло. Невелика ценность. Соседка
купит себе в универмаге новое - побогаче, крытое зеленым или малиновым
шелком. А у матери не попросишь. В универмаге продают школьную форму,
но и ее Салману не купят. Мать сказала: "Пойдешь в школу - там дадут.
У школы денег много. Хотят, чтобы ты ходил на уроки, - пускай
покупают". В прошлом году ему выдали форму шерстяную, ботинки, пальто,
шапку. В школе боятся, что он бросит учиться и тогда их всех будут
ругать. Отчего этим не попользоваться? Отец учит Салмана: глупые люди
для того и существуют, чтобы умные их обманывали. Себя отец считает
самым умным в Чупчи, хотя работает всего-навсего сторожем в больнице.
Когда главный врач Доспаев ругает его за беспорядок, отец презрительно
сплевывает: "Зачем кричишь? Зарплата! Что можно требовать за такую
зарплату?"
Про зарплату отец рассуждает смело, потому что Мазитовы не
бедные. У них нет хорошей одежды, в доме нет дорогих вещей, но они не
нищие, слава аллаху! - говорит отец. У нищих денег ни копейки, а у
Мазитовых деньги есть, много денег - Салман знает, где они спрятаны.
Но это не такие деньги, как у всех. Все носят деньги в магазины,
покупают одежду, еду. У Мазитовых только отцова зарплата уходит из
дома, а большие деньги остаются и живут тайно, шуршат, как мыши.
Оттого Салман не любит бывать у себя дома. Зимой приходится - зимой
никуда не денешься, а летом он живет на воле.
Вчера Салман соображал проскочить в ларек военторга, сидел на
ступеньках, приглядывался. Подошла машина, стали чемоданы выгружать,
вылез мальчишка с клеткой. В клетке рыжая крыса. Салман поглядел и
сплюнул: "Зачем крысу привез?" Мальчишка ответил: "Это не крыса, а
хомяк". Старшая сестра на него закричала: "Витя! Помоги чемодан
дотащить!" Мальчишка с сестрой чемодан в дом понес, Салману клетку
оставил. Потом выскочил: "Эй ты! Пойдем покажу!" Привел в дом, показал
рыбок в воде - красиво. Вместе сели есть. Полковник тихо подсказал:
"Колбаса свиная. Может, тебе дома не разрешают свинину? Тогда ешь
котлеты, они из баранины". Салман в ответ покрутил головой - пускай
свинина, лишь бы пожирней.
Сейчас Салман сидел на камешках под Витькиным балконом. Вчера они
сговорились пойти в степь за сусликом. Салман сдуру проболтался, что
добыть суслика очень просто: налить воды в нору до краев, и суслик
вылезет. Теперь он сидел и думал: полную нору налить не просто,
намаешься таскать. Прежде Салман никогда и шкурками не промышлял.
Подумаешь, деньги - копейки.
Не поднимаясь с земли, он исподлобья глядел на подбегавшего
Витьку. Сынок полковника не пара Салману: чистенькая светлая челочка
на лбу, сытый, в новеньких кедах, военная фляга на ремешке. На Алика
похож. Жил здесь, в городке, толстый Алик, мать ему в школу завтраки
возила. Все они Алики!
- На целый день пойдем! Пожрать я захватил! - Витька помахал
ведром, в ведре Салман увидел пакет вроде тех, какие привозили Алику.
- Не съедим, возле нор оставим. А сейчас на! - Витька вытащил из
кармана горсть конфет в бумажках. - Пососи - кисленькие. Должны
помогать от жажды, хотя я читал, что в пустыне перед походом надо
соленого наесться, а не сладкого.
- Зачем соленого? - Салман сунул конфету в рот. - Сладкое лучше.
Он гонял конфету языком и думал про Витю: какой-то непонятный.
Или, может, глупый?
В степи видно далеко, но арба появилась неожиданно, словно из-под
земли.
Старик в рваном пиджаке вел ишака. Лошадь, даже самая ленивая,
понимает, что везет, уважает хозяина. У ишака другой характер. На
суконной морде написано: плевать мне на вес. Ишак волок арбу,
груженную с верхом, волок без дороги, прямиком по степи. Увидел, как
два дурака льют воду в сусличью пору. Остановился, зубы оскалил.
Старик царапнул взглядом по Салману, по Витьке, прикрикнул на ишака и
вытянул его палкой по пыльному хребту.
За арбой, нарочно приотстав, плелся мальчишка в штанах с
заклепками, в рубашке навыпуск - рубашка расписная, как стенка в
детсаде: пальмы, обезьяны.
Витька простодушно загляделся на расписную рубашку, на
вздыбленные рыжие патлы мальчишки, из-за которых тот получил прозвище
Ржавый Гвоздь. Салман изготовился: Нурлан Акатов из восьмого "Б"
сейчас обязательно Витьку языком ткнет как шилом - такая уж у Ржавого
привычка. Однако Салману не пришлось огрызнуться - Нурлан молча прошел
мимо. "Ну дела..."
Сам он виду не подал, что старик с арбой его родной отец.
А Витька загляделся, как переваливались по неровной земле два
колеса арбы.
- Я теперь понял, почему древние делали у колесниц такие
высоченные колеса. Когда приходится ездить без дороги, то нужны либо
гусеницы, как у танка, либо всего два, а не четыре колеса. И чем
больше колеса в диаметре, тем лучше... Улавливаешь? Проходимость
повышается.
Салман на эти пустые слова ничего не ответил. Проходимость!
Ничего не понимает Витька. Колеса разглядел, а о тех, кто за арбой
тащится, - без всякого соображения. Куда же они ездили? Зачем?
Наверняка дело здесь нечисто. Для чего отец потянул с собой в степь
Ржавого Гвоздя? К чему приспосабливает? Ржавый, насколько Салман
знает, у отца кругом в долгу. А отец-то молчком проехал.
...Вода поднялась по край норы, но суслик еще не показывался. И
вдруг полез: крупнее и страшнее, чем он есть, - как старается показать
всякий зверь и даже человек в минуту опасности. Витька накрыл суслика
мешком, сунул в ведро.
Возле городка нагнали ползущую со степи отару. К ним верхом на
лошади, с палкой в руках подскакал Еркин.
- Зачем? - спросил он, показывая на ведро.
Витя стал обстоятельно рассказывать: будет держать суслика дома,
в клетке, изучать его повадки.
- Зачем дома? Суслика в степи смотреть надо. - Еркин толкнул
коленями лошадь, потрусил к своей отаре.
- Эй, пастух! - крикнул Витя. - Дай на лошади покататься!
Еркин оглянулся:
- На лошади не катаются. Не велосипед.
- Ты его знаешь? - спросил Витя Салмана.
- Еркина? У своего отца помощником работает. Хорошие деньги
получает. Богато живут. Да вон ихняя юрта!
Юрта Садвакасовых виднелась в степи меж военным городком и
поселком.
В юрте Садвакасовых праздник: из Алма-Аты приехал старший сын,
известный геолог, академик Кенжегали Мусабаевич Садвакасов. Чабан
зарезал двух баранов, позвал женщин варить бесбармак. Затрещал курай
под казаном, забурлила вода. Пока мясо варилось, подъезжали родичи и
соседи.
Прислуживал гостям Еркин.
Академик сидел на кошме, брад мясо с блюда руками и за едой
рассказывал, как в детстве пас овец.
Еркин видел: отцу не правится разговор, затеянный Кенжегали. Ну,
пас и пас. Все пасли. Из всех гостей только полковник не нас в детстве
овец. Так думал Еркин, хотя в казахских семьях младшим не положено
осуждать старших.
Кенжегали вспоминал, как в войну, когда отец был на фронте и он
за него оставался с отарой, ему довелось носить тулуп на голом теле. В
тулупе заводились насекомые, Кенжегали клал его на муравейник. Муравьи
быстро уничтожали всех паразитов.
- Вам знаком такой древний способ дезинсекции? - спросил
Кенжегали сидящего рядом председателя райисполкома.
- Я этого способа уже не застал, - засмеялся председатель. -
Думаю, что и старики о нем забыли. У вас, Кенжеке, замечательная
память.
- А вот я помню... - продолжал Кенжегали. - Зимой приходилось
бегать босиком по снегу. Ноги в коросте, руки тоже. Однако я имел
смелость влюбиться в девчонку, которая приходила на уроки в кружевном
воротничке, в кружевных манжетках.
- Вы, Кенжеке, были первым учеником, - вставил директор школы
Ахметов, имевший у ребят прозвище Голова. - Наш завуч Серафима
Гавриловна хорошо вас помнит и часто приводит в пример.
- Серафима Гавриловна! - Садвакасов улыбнулся. - Она приехала в
Чупчи, когда я кончал десятый класс. Молодая, но ужасно строгая!
Только и слышишь: "Садвакасов, не отвлекайся! Садвакасов, ты опять
загляделся на свою соседку!"
Все засмеялись, Еркин тоже. Но с кем же тогда сидел Кенжегали?
Кто та девочка в кружевном воротничке? Постойте...
Да это же Софья Казимировна, мать Саулешки! Ее отца, врача
Казимира Людвиговича, часто вспоминают старики. Значит, это в нее был
влюблен Кенжегали. Теперь понятно, почему однажды Саулешкина мать
сказала Еркину: "Ты похож на старшего брата. У всех Садвакасовых
способности к математике". Может быть, дочери врача все-таки нравился
Кенжегали, но он уехал из Чупчи, выбрал профессию, которая никогда не
приведет его домой. А Софья Казимировна вышла замуж за Доспаева - они
вместе учились в Москве, в медицинском институте - и привезла его в
Чупчи. Отец говорит: у нее в роду все привязаны к степи покрепче самих
казахов. Прадед Софьи Казимировны был сослан сюда царем. В Чупчи
ссыльный поляк построил первую в степи больничку. С тех пор в его роду
все врачи. Доспаев замечательный врач. В Чупчи его уважают, как
уважали отца Софьи Казимировны, погибшего на войне.
Академик Садвакасов давно не бывал в родных краях. У городских
Садвакасовых считалось, что Еркин закончит школу в Чупчи, а учиться
дальше приедет в Алма-Ату. Но гостившая летом у деда садвакасовская
ребятня привезла новость: Еркин собрался пойти в чабаны. Городские
Садвакасовы забеспокоились. Брат академика Мажит, начальник шахты в
Караганде, сказал так: время назад не поворачивает, уголь обратно в
пласт не укладывают. И на совете было решено: за Еркина пора взяться
всерьез.
Академик вышел с гостями из юрты.
- Мусеке, - обратился к хозяину на прощание председатель
райисполкома, - почему вы не подаете заявку на "Волгу"? Передовым
чабанам мы выделяем в первую очередь.
- Не нужна. - Кенжегали услышал в отцовском голосе знакомое
упрямство. - "Газик" везде пройдет, правильная машина. Ты мне "газик"
продашь?
- Чего не могу, того не могу. "Газики" продаем колхозам. Частным
лицам запрещено.
- Неправильно запретили. Я в Москву напишу. Пусть вынесут
постановление: чабанам продавать козел-машины. Государству перед
чабаном стыдно. Работает старик, а что ему надо - не продают. Мой
мальчишка мне сказку читал. Одному старику служила волшебная рыба.
Старик у нее ничего не просил! Ему надо - он заработает. Старуха дом
просила - рыба дала дом. Шубу просила - бери шубу. Нахальная старуха.
Совесть потеряла, приказывает: молодой меня сделай, дочерью хана.
Сказала нахальные слова - все у нее пропало. Дом развалился, шуба
развалилась, ковры, машина швейная - ничего не осталось у старухи.
- Значит, и швейная машина развалилась? - переспросил
председатель райисполкома. - Значит, так и написано в сказке Пушкина?
- Пошкин? Правильно. Сказки Пошкина. Мой мальчишка читал. Не
Еркин, нет, а вот он. - Старик показал на академика. - Я помню сказку,
не забыл.
- С вами не соскучишься, Мусеке! - проворчал председатель,
залезая в машину.
Академик тихо посмеивался: да, с отцом не соскучишься.
В знакомых алма-атинских семьях он видел неслышных, как тени,
стариков и старух, взятых из аула в город, чтобы дожили свои годы
ухоженными и присмотренными. Хотел ли он для отца такой же участи?
Нет. Кенжегали не мог считать себя плохим сыном. Он казах, а у казахов
нет плохих сыновей, как нет и брошенных стариков, бегающих по судам
насчет алиментов с родных детей. Кенжегали знал: его отец, давший
жизнь стольким удачливым и обеспеченным Садвакасовым, живущим в
городских комфортабельных квартирах, будет до конца дней жить в степи
и гонять свою отару с летних пастбищ на зимние, с зимних - на летние.
Но кто же заменит ему Еркина, которому надо учиться дальше?
Он перебирал в памяти аульную родню: кто?
В степи темнело, резче потянуло запахами сгрудившейся на ночь
отары. Вместе с Еркином, гонявшим на отцовской лошаденке в кино,
прискакал парень постарше на гнедом иноходце. Сразу видно, что не
чабан, а табунщик.
- Агай, это Исабек, - сказал Еркин.
Кенжегали с любопытством оглядел приземистого, широкого в плечах
родича.
- Рад тебя видеть, Исабек. Садись, поговорим.
Много лет назад, приехав в Чупчи, Кенжегали обратил внимание на
туповатого малыша, целыми днями копошившегося в одиночку возле юрты.
Года три было Исабеку, но он еще не научился говорить. Отец и мать -
оба молчаливые. Как научишься? Юрта в степи, рядом никакого жилья,
никаких соседей с детишками.
Сейчас, разговаривая с Исабеком, Кенжегали презрительно
посапывал, углы рта ползли вниз: очень неразвит, очень.
Исабек ежился под взглядом именитого родича, но, воспитанный
по-аульному, не смел подняться без разрешения. Наконец академик его
отпустил, Исабек мгновенно вскочил на своего иноходца и скрылся в
темноте.
"Вот и помощник отцу взамен Еркина", - подумал Кенжегали.
Разговор с младшим братом он начал издалека:
- В Нью-Йорке к нам подошел несчастный человек. Русский. Спросил,
нет ли у нас с собой горсти земли. Он хотел отнести родной земли на
могилу матери. Я тогда подумал, что кочевой народ не придавал земле
такого значения. Чтобы напомнить казаху о родине, ему послали емшан -
степную полынь. Сейчас люди все больше интересуются древними обычаями,
жизнью предков. Один мой институтский товарищ, он теперь большое
начальство, ездил к себе в аул, привез дедово седло, повесил в
кабинете. Финская мебель, африканские маски, чешский хрусталь, дедово
седло. Это уже не обычай. Это другое. Интерьер.
Кенжегали говорил медленно, словно не с Еркином, с самим собой.
- Мы с тобой давно не виделись, малыш. Ты вырос... Как отец? Не
болеет?
- Шишка весной распухла на ноге. Сакен Мамутович: вырезал.
- Почему не повезли в Алма-Ату?
- Доспаев сказал - не надо беспокоить.
- Ты тоже упрямый? Как и отец?
- Не знаю.
- А как вон та звезда называется, знаешь!
- Пастуший кол! Другое название: Полярная звезда. Пастуший кол,
по-моему, верней. Все звезды ходят по кругу, а Кол всегда на месте. К
нему привязаны две лошади.
В небе вызвездило по-степному: негусто, неярко.
- Смотрите, агай! - обрадовался Еркин. - Вон спутник летит.
Среди россыпи звезд пробиралась одна, ничем неотличимая от
остальных, кроме движения.
- Агай, вы бывали в Байконуре?
- Я знаю тот Байконур, где шахты. А космодром от старого
Байконура далеко.
- А-а... - протянул Еркин.
- Я вижу, отец водит дружбу с этими, из военного городка?
- Полковник Степанов часто приезжает. Он сказал отцу: дороги надо
строить в степи. Первое условие цивилизации.
- Еще что советовал?
- Не понимает, зачем нужен зимний отгон. Запаси кормов на всю
зиму - и не надо чабану гонять овец по снегу, мерзнуть на ветру.
- Что ответил отец? - Кенжегали неожиданно ощутил, что все это
задевает его за живое.
- Спасибо сказал за добрый совет. А как будет выполнять, сказал,
не знаю. Ученые зоотехники норму придумали такую - одна овца на
двадцать гектаров. Кто скажет - много, кто скажет - мало. Трава бывает
густая, бывает совсем плешивая, - в голосе Еркина старший брат услышал
отцовские интонации. - Овца ходит, траву щиплет. Густую, плешивую -
какая есть. Другой работы овца не делает. Утром щиплет, днем щиплет,
вечером щиплет - целый день. Отпуска у председателя не просит, зубы на
ремонт не ставит, запасных частей овце не надо. Сама не заметила -
двадцать гектаров за год выщипала. Кто за нее так сделает? Кто
двадцать гектаров плешивой травы машиной ощиплет? Кто овце в кошару
принесет? Так отец Степанову объяснил. Полковник смеялся: век живи -
век учись.
- Я вижу, ты и сам думаешь о том, как жить дальше чабанам?
- Все чабаны думают жить дальше. Ребята тоже думают. Ночью
соберемся, разговариваем. Спорим, красиво ли станет на земле, если
везде поля распашут, вырастят сады? Или, может быть, разная природа
нужна: степи, пески, озера горькие. Волк тоже нужен, каракурт. Сайгак
нужен. Заяц. Раньше у нас в степи только песчаный заяц водился, теперь
русак пришел. Он сюда с запада идет. Ученые подсчитали - за год
продвигается на сто километров.
- Интересуешься экологией? Перспективная наука. Будешь первым
Садвакасовым, который поступит на биофак.
Еркин мотнул головой:
- Я хочу остаться здесь.
- Несерьезный разговор! Выбрось из головы все эти традиции рода и
все прочее из старого сгнившего сундука. Твое поколение должно
выбирать свой путь. Думай о будущем, а не о прошлом.
- Скажите, агай, отчего так получается? Если говоришь - пойду в
чабаны, то думают, что ты идешь в прошлое, где бедность и темнота. Или
хвалят бесстыдно, будто ты герой и совершаешь разные подвиги. Я читал
- сейчас пишут про целинников: какие смелые - не побоялись поехать в
Казахстан! Если они смелые, то кто же тогда мы?
- Я тебя не понимаю... Чего же ты хочешь?
- Я хочу жить в Чупчи. Хочу, чтобы у нас в степи было много
людей, много света, много тепла.
- И что ты собираешься делать? - серьезно спросил старший брат.
- Я вот о чем думал, агай. Вы только не смейтесь. Сайгаки у нас в
степи обходятся без чабанов. Считалось, они вымирают, а взяли под
охрану - и сайгаки расплодились. Вот я и думал... Человек может
вернуть овце все, что у нее было, пока она не стала домашним животным.
Когда-то у человека никакого орудия не было, кроме палки. Вот он и
стал пастухом. Я читал: в Австралии овец сторожат автоматы. Но зачем
улучшать с помощью новой техники все ту же палку? Человек должен
отпустить некоторых домашних животных на свободу. И научиться, как
брать в степи сколько нужно мяса, шерсти...
- Брать в степи... А что ей давать - об этом ты думал?
- Надо улучшать пастбища. Садить саксаул. Рыть колодцы.
- Я вижу, ты много читаешь фантастики? - усмехнулся старший брат.
- Этот вопрос мне уже задавали! - Еркин надулся.
- Прости, Еркин, я не хотел тебя обидеть. Но век батыров прошел.
Мы живем в век науки. Все, о чем ты мечтаешь... Ты и твои товарищи,
когда вам не спится ночью... Чтобы все это осуществить, надо стать не
чабаном, а биологом или партийным работником. Что может сделать чабан
для изменения природы овцы?
- Сделает что может. Чего не может, того не сделает.
Старший брат снисходительно хмыкнул: детский максимализм!
Он подумал о своей голодной диковатой юности. Его ровесники
упрямо рвались из аула, пробивались наверх, как должное принимая все
скидки, которые делались молодым национальным кадрам в науке, в
промышленности. А Еркин с той же силой бьется в противоположном
направлении. И не отец уговорил его идти в чабаны, совсем нет, Еркин
сам решил.
С неба послышались металлические трубные звуки. Кенжегали поднял
голову и увидел, как высветлился Млечный Путь, по-казахски Птичья
дорога. Трубы пели наверху. Журавли летели на чужбину. Академику снова
вспомнился русский в Нью-Йорке и его просьба о горстке земли. А чего
бы попросил казах? Ведь есть и казахи, заброшенные на чужбину. Тоже
горсть земли с дорогих сердцу могил, соленой степной земли? Черных
заветренных камешков с холма? Глиняную корку такыра? Ломкий пучок
степной полыни? Серый колобок курта со следами слепивших его женских
пальцев, с прилипшими полосками овечьей шерсти? Он слишком подолгу не
бывал дома, в своем родном Чупчи. Занятый работой, он вспоминал о нем
лишь в те минуты, когда вместе с делегациями гостей приезжал в те
места под Алма-Атой, где в декорированных юртах угощают кониной,
кумысом, бесбармаком, не забывая в то же время и о коньяке, лимонах,
боржоми. И все же он увезет отсюда и младшего брата, отнюдь не для
городских развлечений. Еркина ожидал труд не менее тяжелый, чем
вековечный дедовский труд здесь, в степи, - вот о чем надо с ним
говорить, настраивать мальчишку. Скоро ему пятнадцать. По степному
счету - возраст совершеннолетия. А по городскому?.. Кенжегали вспомнил
своих ребят, их особую школу с английским языком. По-городскому
пятнадцать лет - самый трудный возраст.
- Ты, наверное, спать хочешь?
- Нет, я люблю вот так сидеть. Мы с ребятами до света досиживаем.
- Все казахи полуночники. У нас это в крови. Слушай, Еркин... -
Кенжегали тихо засмеялся, - но ведь по ночам вы с ребятами не только
думаете о будущем. О девчонках, видимо, тоже. Я-то помню. В городах
мальчишки теряют голову весной, а в аулах - летом, на джайляу. Ваше
поколение не забыло ак-суек*? (* Ак-суек - белая кость, национальная
игра (казах.).)
- Играем иногда. Но больше в футбол.
- Чудак. Футбол - это спорт. Ак-суек - это... В общем, кто-то
ищет ак-суек, а кто-то ищет девчонку. Эх, мне бы сейчас твои годы! -
Кенжегали помолчал. - Слушай, Еркин, ты ведь знаешь Софью Казимировну?
У нее должна быть дочка твоих примерно лет. Как ее зовут?
- Сауле.
- Почему не дали русского имени?
- Не знаю, - сказал Еркин. - А разве плохое имя Сауле?
- Да нет, хорошее. Слушай, Еркин, а она что... красивая?
- Очень, - серьезно ответил Еркин.
- Самая красивая в Чупчи?
Кенжегали собирался посоветовать младшему брату влюбиться в дочь
Софьи Казимировны, в дочь Сони. Однако что-то в настроении мальчишки
удержало его от обычных в ауле вольностей насчет девчонок.
- Пойду-ка я спать, - зевнул он. - Я ведь рано ложусь, рано
встаю.
Еркин слышал: льется вода в стакан, брат запивает таблетки, затем
поудобнее укладывается на кошме. Однако нет - поворочался и снова
вышел из юрты:
- Ты напрасно думаешь, Еркин, что судьба Чупчи решается только
здесь. Ты же сам видишь. Электричество, радио. А оставайся мы на
месте, в своих аулах, ничего бы здесь не было. Так что ко всем этим
переменам приложили свою руку и мы.
- Я понимаю, агай, - сказал Еркин. - Только отец наш так говорит.
Когда казах в своем ауле живет - он все хорошие обычаи других себе
берет. Но когда в город едет - тащит все старые аульные привычки,
боится лицо потерять.
На школьном крыльце стоит женщина в строгом синем костюме. Седые
волосы туго зачесаны назад. Рядом с ней - высокий грузный человек с
огромной головой, пегие волосы ежиком. Головастый глянул на Машу,
глянул на Витю - морщины вдоль щек раздвинулись, складки на лбу пошли
вверх: новенькие.
Головастый стоял там, где рядом с завучами всегда стоят
директора, и он, конечно, был директором школы: длинной, одноэтажной,
огороженной низким глиняным забором, отрезавшим от полупустыни
вытянутый прямоугольник. Есть места, где можно не тратиться на асфальт
для двора: все гладко и каменно от природы.
- Степанова Маша - восьмой "Б", - протрубила завуч густым басом.
- Степанов Витя - пятый "Б".
В класс Маша не торопилась. В длинном коридоре, как во всех
школах, пахло непросохшей масляной краской. Пробивался и еще какой-то
тяжеловатый дух. Маша не знала: так пахнут все постройки из самана. На
забеленных стенах висели плакаты и монтажи. На одном кумаче написано:
"Кош кельдыныз", и тут же рядом - "Добро пожаловать". Отец заранее
предупредил: здесь в одних классах преподают на казахском языке, в
других - на русском. Для детей военнослужащих уроки казахского языка
необязательны, но отец советовал Маше и Вите учесть: никакое знание не
бывает лишним.
По дороге в класс Маша замечала: вот учительская, вот пионерская,
вот канцелярия, вот кабинет физики. Новичку первым делом приходится
изучить школьную географию, где что размещается.
- А ты, оказывается, не из бойких. - Маша ощутила у себя на плече
тяжелую руку, увидела синий рукав костюма завуча. - Пойдем, у меня
первый урок в твоем классе... Ну, понравилась наша школа?
- Да! - Сколько раз ей приходилось лгать, отвечая на такой
вопрос.
Их обогнал рыжий мальчишка:
- Здрасссте, Серафффима Гавриловна!
Будь на месте Маши Витя, он узнал бы Ржавого Гвоздя, что
встретился ему и Салману в степи, за арбой старика.
Входя в класс, Серафима Гавриловна подтолкнула Машу на лобное
место между дверью и доской:
- Я привела к вам новую ученицу, Степанову Машу. Она приехала в
Чупчи издалека...
- ...и живет в военном городке! - выскочила девочка с первой
парты в правом ряду. Что это у нее на лице? Веснушки? Нет, мелкие
черные родинки.
- Да, Маша Степанова дочь офицера и живет в городке, -
подтвердила Серафима Гавриловна.
- В той квартире, где жил Алик! - добавила всезнайка с пестрым
лицом.
- Фарида-а-а!.. Когда говорят старшие...
- То дети должны молчать! - тонким голоском подхватил рыжий. Он
сидел позади Фариды.
За третьей партой сидела коротко стриженная девочка с густой
блестящей челкой, брови тонкие, стрелками разлетающиеся к вискам.
Откуда взялась здесь такая? И почему сидит одна?
Серафима Гавриловна словно угадала Машины мысли:
- Доспаева, рядом с тобой место свободно?
- Нет! Нет! Со мной сидит Шолпан.
- Где она?
- Приедет.
- Почему опоздала? Это непохоже на Байжанову.
- У них приданое шьют! Шолпашку мать не отпустила! Шолпашкина
сестра замуж выходит! - Самое большое удовольствие для Фариды -
сообщать новости.
- Вот кто у нас всегда в курсе, - проворчала Серафима Гавриловна.
Старшая сестра Шолпан Байжановой тоже училась в этой школе. После
шестого класса родители оставили ее дома. Люди, живущие по старым
степным обычаям, отчего-то считают пределом девичьего образования
шестой класс. Но Шолпан, слава богу, уже в восьмом. Серафима
Гавриловна знает: если на шестом не остановили - значит, девочка
чего-то добилась, настояла на своем. Но мало ли какие бывают
неожиданности!
- Где же мы посадим новенькую? - спросила Серафима Гавриловна.
- Со мной! - крикнул рыжий с голубыми глазами.
- Акатов, ты лучше помолчи. У тебя есть сосед - Кудайбергенов.
- Да я его сейчас вышвырну! - Рыжий обеими руками уперся в
соседа, но тот двинул плечом, и Акатов плюхнулся на пол.
- Ах ты так!
- Акатов! - повысила голос Серафима Гавриловна.
- Если вы не возражаете, - сказала Маша, - я сяду за последнюю
парту.
- Садись! - кивнула Серафима Гавриловна.
Маша прошла мимо Сауле Доспаевой, надменно опустившей глаза, мимо
рыжего Нурлана.
- Ну, восьмой "Б"! - принялась распекать Серафима Гавриловна. -
Неважно вы подготовились к новому учебному году. Настроение, я вижу,
нерабочее. Не все явились к началу занятий. Допустим, у Байжановой
семейные обстоятельства. А где Садвакасов?
- Во-о-о-н бежит Садвакасов, - спокойно сообщил чернявый
Кудайбергенов и показал рукой в окно.
Все повернулись.
- Ух и жмет!
С последней парты Маша увидела, как по плоской степи бежит
мальчишка в школьной серой форме.
Скоро бегун распахнул дверь класса:
- Разрешите войти?
- Явился, не запылился! - добродушно приветствовала его Серафима
Гавриловна. - Садись.
Тяжело дыша, опоздавший прошел к последней парте, недоуменно
взглянул на Машу: откуда вдруг взялась? Сел рядом, достал из-за пазухи
потрепанную тетрадку, из кармана достал новенькую заграничную ручку.
- Расписание сказали?
- Нет еще, - ответила Маша.
От него исходил еле слышный запах дыма, горький, знакомый запах.
Маше вспомнился город, где они жили давным-давно, пестрый удод над
очагом, горьковатый, щекочущий ноздри дым.
Раскрыв тетрадку, сосед пробовал свою шикарную ручку, вывел
крупно: "Еркин Садвакасов" - и залюбовался, склонив голову набок.
- Садвакасов! - вызвала Серафима Гавриловна. - Что-то ты
загляделся на новую соседку. К доске.
Учебный год начался.
Из школы за Машей увязался рыжий Акатов.
- Понимаешь, тебе одной идти опасно. Пустыня! Тут хищные верблюды
водятся. Могут напасть.
- Отстань!
- Польщен вашему вниманию! - продолжал кривляться Акатов. - Нет,
не так... Польщен вашего внимания. Скажи, пожалуйста, какой тут нужен
падеж?
- Отстань!
Они миновали переезд. Показались дома военного городка.
За спиной взвизгнули тормоза. Зеленый военный "газик", дверцу
распахивает лейтенант Рябов.
- Маша, домой?
- Здравия желаем! - Рыжий нахально откозырнул Рябову. - Разрешите
доложить? Назначен сопровождать. Несу, так сказать, конвойную службу.
Замечания будут?
- Вольно! - засмеялся Рябов.
- Иными словами: можете убираться?
Рябов пропустил Машу на заднее сиденье.
- Бойкий парнишка, - сказал он о рыжем. - Ребята прозвали его
Ржавым Гвоздем. Наверное, не только за цвет волос.
Местных ребят Рябов знает хорошо. В части он считается вроде
ответственного за шефство над школой. Под его начальством приезжают
солдаты на школьные вечера, на матчи со старшеклассниками.
По пути, в автобусе, Рябов напоминает Муромцеву:
- Только без происшествий. Понятно?
Володя Муромцев - москвич, из интеллигентной семьи - слушает
наставления с корректной улыбкой, отвечает туманно:
- Наши первыми не начнут. Но навряд ли обойдется.
Рябов и сам понимает: навряд ли. Часть многое делает для школы,
но все налаженные шефские отношения летят к чертям, стоит на школьном
вечере кому-то из солдат неосторожно поглядеть на красивую ученицу.
Майор Коротун возмущается: "Ненормальные отношения с местным
населением". Зато директор школы Ахметов посмеивается: "Почему
ненормальные? Молодость!"
Рябову симпатичен грузный, медлительный директор школы по
прозвищу Голова.
В этот день директор пригласил шефа из городка по делу
малоприятному.
- Милиция беспокоится, - отпыхиваясь, выкладывал Канапия
Ахметович. - Участковый Букашев, вы его знаете. Через Чупчи уплывает
краденый каракуль. Кто-то провозит, но кто - пока неизвестно. Букашев
считает, что тут замешаны наши ученики. Ему известно, что у жуликов за
посыльного какой-то мальчишка.
- Каракуль? - Рябов покрутил головой. - Дело серьезное. Жаль,
если кто-то из ребят попал в такую компанию. Там умеют держать за
горло. Букашев про кого-нибудь конкретно спрашивал?
- Как всегда, про Мазитова из пятого "Б". Про Акатова из восьмого
"Б"...
- Насчет Акатова - чепуха. Он талантливый мальчик.
- Я помню его деда, акына Садыка. Не первой руки акын, но
случалось, выступал на больших айтысах вместе с Джамбулом, с
Байганиным. Они - орлы, а он - крикливая лягушка. По-нынешнему
сказать: не стеснялся подхалтурить. По пирам с домброй таскался. -
Директор говорил все медленнее, неохотнее. - Вы, наверное, осудите
меня, но я, вопреки своим учительским обязанностям, не беспристрастен
к своим ученикам, не даю каждому в своем сердце места поровну. В уме -
да, но в сердце - нет. Вы знаете младшего сына Садвакасова?
- Еркина? В шахматы не раз сражались. Умный парень.
- У казахов есть такая похвала человеку: "журекты", "львиное
сердце". Львиное сердце мы противопоставляем волчьему, ненасытному.
Журекты! Такой человек не идет, как собака за чужим караваном. Он сам
поворачивает коня на истинный путь. А ваш Акатов, что о нем сказать?
Легкий человек. Все, что он делает, несерьезно. Если добивается успеха
- легкий успех.
Во время разговора пришла Серафима Гавриловна.
- Мы с лейтенантом о каракуле говорим, - сообщил ей Голова. -
Кое-что проясняется.
- Мазитов? - спросила она.
- Возможно. Однако Геннадий Васильевич считает, что надо поискать
кого-нибудь потрусливей, помягче...
Лейтенант удивился: разве он это говорил?
До Чупчи Маша переменила четыре школы. Ей ли не знать, что на
новом месте надо себя поставить в первый же день. Но в первый день
любой новичок действует словно впотьмах, обычаи класса и школы ему
неизвестны.
Последние два года Степановы жили в большом городе на Волге. Маша
занималась греблей и плаваньем, на детских соревнованиях брала первые
места. Но в Чупчи все это ни к чему. Здесь нужно что-то другое, а что
- Маше неизвестно, и некого спросить. Отец ее предупредил: в Чупчи
учатся ребята из аулов, они ничего не видели, не знают, кроме своей
степи. Стыдно считать себя лучше и умнее других только потому, что они
прожили всю жизнь в степи, а ты объехала всю страну, летала на
самолете, плавала на океанском теплоходе. Ладно, Маша не стала
задирать нос. Но почему Сауле Доспаева так враждебно встретила ее и не
пустила к себе на парту? Обидно!
Многое бывает обидно в первый день и после сказывается.
Недели через две комсомольский секретарь класса Доспаева подошла
к новенькой из городка.
- Степанова, какую ты можешь вести общественную работу?
- Тренером по плаванию! - Маша не ответила бы так ни Кольке, ни
Акатову, ни Еркину.
- А еще? - снисходительно улыбнулась Сауле.
- Зимой - по конькам!
Разговора не получилось.
Через неделю Сауле предложила ей пойти вожатой к
третьеклассникам.
- Ой, что ты! - вырвалось у Маши. - Я не справлюсь!
Заметила ли Сауле ее растерянность? Наверное. Они даже не
поссорились - ссорятся друзья. Они поговорили вежливо и разошлись.
Оставшись в одиночестве, Маша принялась учить казахский язык.
Голова поручил Еркину помогать новенькой.
В казахском алфавите к букве "к" привязан снизу хлыстик. Не
"калоши", не "кукла" - совсем другое "к". В нем звучит клекот степной
птицы: "ккказаккк". Буква "о" перепоясана ремешком, она выкатывается
из горла не круглая, ее надо в горле как бы сжать с боков, сделать
чуть похожей на "е" и на "у" - сразу на оба эти звука.
Маша догнала Голову в коридоре:
- Канапия Ахметович, пожалуйста, не ставьте мне пятерок.
Он недовольно подвигал морщинами:
- Ты думаешь, я ставлю тебе пятерки за то, что ты дочь
полковника? Я ставлю отметки за успехи. Для человека, который не знал
ни одного казахского слова, у тебя очень большие успехи. Например,
сегодня ответила все падежные окончания. Наверное, сосед тебе хорошо
помогает. - Морщины мягко расплылись. - Я заметил: писали русский
диктант, ты держала тетрадь, чтобы глядел. Он не стал списывать.
Характер. У него по русскому четверка. У тебя за первый диктант тоже
четверка. Я, наверное, диктую для тебя непривычно?
- У меня и в той школе была четверка.
- Очень уважаемая отметка. Пятерка по русскому - редкая птица
даже в России. У нас в восьмом "Б" пятерка только у Сауле Доспаевой. У
Акатова тройки по казахскому, по русскому - без всякого различия.
Болтает бойко, грамотности нет. У Кудайбергенова честная четверка - по
казахскому, по русскому. У твоего соседа четверка. У наших учеников
могут быть разные отметки по истории и по геометрии, но по русскому
языку и по казахскому всегда отметка одна.
Голова шел по коридору, Маша за ним.
- У меня, Степанова, с детства два родных языка. Два - равновесие
моей жизни. Я учился в Ленинграде, в институте имени Герцена, на
факультете русского языка и литературы. - Голова остановился перед
фотографией старой женщины: темное скуластое лицо, белый головной
убор, как у сагатских старух. - Вот погляди. Знаменитая Марьям
Жагор-кыз. На фотографии она уже старая. Когда была молодая, ее не так
звали. Она русская - Мария, дочь Егора, тезка твоя - Маша. Полюбила
парня-казаха, сложила о своей любви песню "Дударай". Вся степь теперь
поет... В нашей степи, Марьям, издавна живут в тесном соседстве
казахи, русские, украинцы. Такую нам судьбу подарила история. Люди,
выросшие здесь, не пили воду из разных колодцев. Ты приглядывайся,
тебе все должно быть особенно приметно.
Старая песельница глядела с фотографии мудрыми зоркими глазами:
"Ну что, Марьям?"
Как-то полковник подвез из райцентра директора школы. По дороге
разговор шел о степных контрастах: радиосвязь с чабанами современная,
а дорог нет, до сих пор держатся за кочевое скотоводство, а корма
подвозит вертолет.
- Прибавьте еще одно противоречие, - заметил Голова. - Такое
достижение ума, как ваша техника, и такой поселок, как Чупчи, с
саманной школой. - Морщины на лицо директора раздвинулись в усмешке. -
У нашего Абая есть восьмистишие-загадка:
"Их восемь доблестных богатырей,
что меряются силой своей.
Верх то один берет, а то другой,
но кто из них окажется сильней?
Такая вот загадка, Николай Сергеевич. Сразу скажу ответ:
Раздумье нас к разгадке привело:
то лето и зима, добро и зло.
Сверх этих четырех - то день и ночь,
нечетное и четное число.
Полковник задумался.
- Странный список богатырей. Неравные понятия. Добро и зло, день
и ночь, чет и нечет...
- Узор мысли! Восток любит символику. Поглядите на орнамент
казахской кошмы!
- Орнамент? Да-а... Я видел у Мусеке великолепную кошму.
- Жена Садвакасова была художница, - с печалью отозвался Голова.
- Я надеялся, что кто-нибудь из их детей станет поэтом. Но все
занялись точными науками.
Некоторое время ехали молча, потом Канапия Ахметович заговорил:
- Из русских поэтов я люблю Кольцова. Он степняк, понимал
простор. Я воевал в кольцовских местах, под Воронежем... Вы, Николай
Сергеевич, откуда родом?
- Брянский.
- Лесной человек. А Садвакасов рассказывал вам, где он воевал?
- Да, под Москвой.
- Ему до сих пор часто снится, будто заплутал в лесу. Шел по
дороге, не понравилось: чего петляет? Решил, что лучше прямо. Пошел
напрямик, полсуток ходил. А выбрался на дорогу и - петля за петлей -
быстро дошел.
- Ваша речь - очень извилистая дорога! - смеясь, заметил
Степанов. - Оттого, что едем по прямой?
- Такой уж я хитрый! - простовато признался Голова. - Вы ведь
меня собирались о дочери спросить, о сыне. Я угадал? Однако мы уже
въезжаем. Скажу пока одно: у вашего сына опасный товарищ.
- Мне уже говорили. Но Витя своих друзей выбирает сам.
- Наша Серафима Гавриловна очень надеется на Витю. Он хорошо
влияет на Салмана Мазитова... Ну, благодарю, что подвезли.
Выбираясь из "газика", директор накренил своей тяжестью машину.
В последний момент Голова решил ничего не говорить полковнику о
подозрениях завуча, будто Мазитов причастен к хищению каракуля. Нет,
не Мазитов здесь замешан.
А Мазитов легок на помине: встретился директору на школьном
дворе.
- Как живешь? Какие новости? - Морщины на большом лице выразили
живейшее ожидание, будто Мазитов только и делал, что радовал директора
школы интересными новостями.
Салман прикинулся дураком и молчал.
На самом-то деле он был вовсе не дурак. Учителям давно бы
следовало догадаться: дурак и лодырь при такой жизни, как у Салмана,
давно бы пропал, а ему ничего не делается. Знание - сила. Это Салман
давно понял. Он знает, сколько баранов привезли на воскресный базар и
кто перекупщик. Знает, что в бане, в пивном ларьке, из-под прилавка
торгуют водкой, что в универмаге у продавщицы Райки есть черный ход и
отец Салмана часто пользуется этим ходом. Знает он, что Амина
встречается с черным Левкой из городка (встречаются они в Мазаре
Садыка и запирают железную дверь), а "Ф + Н = Л" пишет на стенках сама
Фарида...
Многое знает Салман, но молчит. Участковый Букашев с ног сбился:
кто провозит через Чупчи краденый каракуль? А Салман, встречая
Букашева, злорадно скалится: что ты умеешь, милиция? Только и дел у
тебя, что жаловаться Гавриловне, носить ей бумажки в синюю папку,
чтобы засадить Мазитова в колонию. Но придется подождать, милиция!
Салман своими ушами слышал: на педсовете говорилось, что сейчас вся
надежда на дружбу Мазитова с Витей Степановым.
Витя учится без двоек, даже без троек, а по ботанике и зоологии
знает в сто раз больше, чем сама учительница. Ящериц, птиц и мышей для
чучел убивает Салман - Витька при этом закрывает глаза, затыкает уши.
Но что правда, то правда: снять скальпелем мышиную шкуру или птичьи
перья с кожей может только Витя. Скальпель ему подарила Софья
Казимировна. Чтобы Витька его не потерял, Салман эту замечательную
вещь всегда прячет себе в карман.
Чучел они за осень сделали много. Но вот беда - если умеючи
взяться, можно их продать и хорошо заработать, а Витька отдает
задаром. За один почет отдает, за надпись: "Работа учеников 5-го "Б"
Мазитова С. и Степанова В". Хотя что Витьке! В доме у него полно всего
- и еда, и одежда, все есть.
Отец у Витьки добрый, мать не жадная, его сестра Салмана по
голове гладит: "Очень жесткие у тебя волосы. Разве ты злой?" Салман ее
боится немножко. Вообще он ничего не боится, ни Головы, ни Гавриловны,
ни участкового, а перед Витькиной сестрой трусит.
Недавно вечером сидели у аквариума. Люстру погасили, зажгли в
зеленой воде свет, рыбки медленно плавали - красиво! Пришла Витькина
сестра, села рядом на диване, стала рассказывать, как поймала птицу
руками. Они тогда не здесь жили. Кипел казан с бельем, птица села на
деревянную крышку, чуть не свалилась в огонь. Потом вспомнил Витька,
как заблудился в высокой траве. Маша сказала: "Я помню, ты не в траве,
ты в кукурузе заблудился, тебя полдня искали". Потом стали вспоминать,
что отец в войну мальчишкой был, двенадцати лет. Фашисты его
расстреляли вместе с родителями, а один наш офицер нашел его живого в
яме, сыном полка назвал, отвез в суворовское училище.
Вспоминали Витька с сестрой, а после поссорились. Какое море
синей - Берингово или Черное. Витька ей сказал: "Ну и дура!"
Салман не хотел, чтобы Витькина сестра дружила с Сауле. В доме у
Мазитовых не любили всю доспаевскую семью. "Я бы на месте Доспаева..."
- презрительно сплевывал отец. Был бы он не сторожем, а главным
врачом, умные порядки завел бы в больнице. И у матери Салмана свои
счеты с больницей: год назад в детской палате умерла одна из
Салмановых сестренок. "У Доспаевой в палате лежала, по ее вине
умерла", - клялась мать.
Салман не ленился, если видел, что есть возможность напакостить
Сауле. Он был изобретателен на самые дурацкие мелочи и с мальчишеской
мстительностью понимал, как может унизить Сауле, заставив ее думать о
копеечных обидах. Как-то раз он заметил: она на него поглядела
подозрительно, и был рад, словно нашел десятку: прежде Сауле Доспаева
будто и не знала, что есть в Чупчи такой человек - Салман Мазитов.
Маша простудилась, сидит дома. В прежней школе к ней бы в первый
день прибежали друзья, а тут никто не идет.
С утра пораньше Степановым привезли сайгачатину, Маша выглянула в
коридор. На полу валялись две стылые туши в пятнах запекшейся крови.
Разрешение на отстрел выхлопотал Коротун. Вчера он звал Степанова
ехать за сайгаками, но Степанов отказался: отстрел - это не охота.
На кухне мама гремит кастрюлями - собирается варить консервы из
сайгачатипы. На всех кухнях городка сегодня будут варить консервы,
потому что в городках все делается коллективно.
Маша тоскливо глядит в окно. Дым из труб, словно дома разводят
пары, собираясь в плавание.
"Скорее бы нас перевели отсюда", - думает Маша.
Кто-то нетерпеливо давит на кнопку дверного звонка. Мама из кухни
бежит открывать.
- Проходите, проходите! - слышит Маша. - Наконец-то! Она уж
заждалась!
Маша спешно наводит порядок. Расправляет одеяло, смахивает в ящик
тумбочки скуноженные горчичники, взбивает волосы расческой.
Входит мама, за ней сияющая родинками Фарида. Всего лишь Фарида.
- Ты подумай, какая радость, - сообщает мама, - Фарида говорит,
что здешней больнице нужна медсестра.
Это на самом деле большая радость. Маша знает: всюду мама с
трудом находит хоть какую-нибудь работу.
Фарида без стеснения разглядывает Машину комнату. Еще никто из
ребят тут не бывал. Только Салман - Сашка, но он не считается. Первая
у Маши гостья - Фарида.
- Я тебе уроки принесла. Доспаева говорит: кто хочет пойти к
новенькой? Все молчат. А я и раньше тут бывала. Алику носила
новогодний подарок. Это давно было - в четвертом классе. С Аликом тоже
никто не дружил, он трус! Я и сама презираю, если мальчишка не
храбрый. У нас самый смелый в классе, по-твоему, кто? Акатов! В
прошлом году на спор с крыши прыгнул. Я Еркину сказала! "Теперь ты!" А
Еркин прыгать не захотел. Конечно, ему-то зачем, его и так все
уважают. У него на отару волки напали, а отца не было. Отбился сам. За
волка премия полагается - пятьдесят рублей.
Лицо Фариды сияет. Если уж рассказывать - так рассказывать все, и
про себя тоже.
- Мне Акатов просто жуть как нравится. Он самый остроумный в
классе. Я замечаю, он на меня иногда та-а-ак глядит! А тебе уже
кто-нибудь понравился из наших мальчишек?
- Ни... никто.
- Садвакасов, конечно, умный, брат у него академик, все
Садвакасовы в ученые вышли. Ты у Еркина ручку видела? Американская!
Ему старший брат все заграничное присылает, но Еркин никем из девчонок
не интересуется. Я в пятом классе в него влюби-и-илась! - Фарида
округляет глаза. - А сейчас в него Шолпашка по уши, а он ей - ни одной
записки. Я Нурлану каждый вечер пишу, анонимные, пусть поволнуется...
Мы теперь подруги с тобой? Ты в Нурлана не влюбляйся. Ладно? Ты в
Кольку! Он по Саулешке страдает. Колька русский - ты не знала? Его дед
еще давно, когда с басмачами воевали, фамилией поменялся с одним
узбеком. Он этого узбека от смерти спас, вот и поменялись. Такая
замечательная героическая история! Мы Колькиного деда на пионерский
сбор хотели пригласить - Гавриловна отсоветовала. У Кольки дед
необразованный. Ты сама Кольку спроси про узбека, я завтра к тебе
приду, Кольку с собой позову и Нурлана... Ладно?.. Можем в домино
сыграть, как раз четверо будет. Колька любит играть в "морского
козла", а ты умеешь?..
Маша еле успела вставить: "Умею". Да, недаром Колька
Кудайбергенов называет Фариду сорокой. Однако сам-то он не догадался
прийти к Маше. И Доспаева не пошла.
- Обязательно приходи завтра! - просит Маша. - И Нурлану скажи, и
Кольке.
- Мы теперь подруги! Конечно, приду!
За два часа Маша узнала о Чупчи столько, сколько не узнаешь и за
два месяца. Кто бы мог подумать, что у Кольки Кудайбергенова в семье
такая удивительная история! И Еркин... Все мальчишки хвастуны. А этот
хоть бы вспомнил про волка!
Под вечер Маша одна в квартире. Мама ушла, Витька с приятелем у
Рябова. Папа с утра предупредил, что поздно вернется. Тихо кругом -
слышишь, как в батареях переливается вода. Но вот кто-то ключом
поскребся в замочную скважину, отворил дверь, топает в прихожей...
Витька? Маша босиком бежит через комнату, выглядывает в коридор. На
полу сидит Сашка, разувается, оглянулся волчонком:
- Меня Витька прислал... Рыбок кормить.
Странный он какой-то - Сашка. У Витьки всегда приятели странные.
Там, где жили раньше, Толик ходил, никто от него слова не добился,
кроме: "Витя дома?" - и то шепотом.
- Сашка!
Он нехотя является.
- Ну!
- Возьми там, на сковородке, для вас с Витькой котлеты.
- Не! Мы у лейтенанта печенку сайгачью жарили. - И шмыгает носом.
- У меня сейчас девочка из нашего класса была.
- Ну, знаю, - Сашка ухмыляется. - Фарида.
- Что ты нашел в ней смешного? - строго осаживает Маша.
- На стенках пишет: фы плюс ны.
- Ты видел?
Сашка мотает головой.
- Не видел - зачем наговаривать?
Сашка молчит. В это время легонечко затренькал звонок.
- Не слышишь? - говорит Маша. - Иди открой!
Сашка усмехнулся, пошел. С кем-то там у двери: бу-бу-бу.
Коридором протащил в кухню что-то тяжелое? Мешок?
Маша устраивается поудобнее, поближе придвигает лампу и открывает
"Мушкетеров".
Сколько времени прошло? Уже отец дома, Витя шляется по квартире в
мамином халате, Сашки нет - домой ушел. Мама вернулась от Марии
Семеновны.
- Как дела? - отец берет у нее и захлопывает "Мушкетеров". -
Температуру мерила? Забыла... И ладно, кому она нужна! Давай-ка
попросим маму. Ты носки теплые наденешь, кофту, с нами посидишь, чаю
попьешь.
В кавказских колючих носках Маша с удовольствием выбирается на
кухню. Под всеми широтами у Степановых была и будет привычка вечерами
сходиться на кухне. Тут всегда у них уютней, домашней, чем в других
комнатах.
Маша замечает в углу возле холодильника черно-пестрый мешок. Тот
самый, что Сашка, сгибаясь, волок по коридору.
- Откуда? - спросила Маша.
- Помнишь, старичок у нас был в гостях? - говорит мама. - Здешний
чабан, очень симпатичный. Он прислал папе казы. Полуфабрикат конской
колбасы.
- Полуфабрикат! - фыркает младший братец. - Ты, мам, скажешь!
- Конечно, полуфабрикат. Тот мальчик велел передать - в сыром
виде есть нельзя, два часа варить.
- Тот мальчик? Кто?
- Еркин приходил, младший сын Мусеке, - говорит Маше отец. - Он,
кажется, в твоем классе?
Ну Сашка, ну вредный тип! Значит, открыл Еркину, и нет чтобы Машу
позвать, хотя бы крикнуть ей, кто пришел. Бу-бу-бу...
- Что же ты к Еркину не вышла? - упрекает отец. - Выздоровеешь -
непременно извинись. Он славный парень, собирается стать чабаном, как
и отец.
- Что, слабо учится? - спрашивает мама.
- Вовсе не слабо, - обижается за Еркина Маша, - по математике
самый способный.
- Алгебру арабы придумали, я читал, - встревает Витя, - а
геометрию греки.
Маша вылезает из-за стола, идет к себе.
- Не засыпай! - наказывает мама. - Я сейчас приду, горчичники
поставлю.
Маша, уткнувшись в подушку, ревет в три ручья.
- Господи, да что с тобой?
Приходит папа, гасит свет.
- Спи, Машка! Утро вечера мудренее.
Фарида привела в городок Кольку и Нурлана. Нурлан принес с собой
гитару.
Как он ею обзавелся - целая история.
Старый черт Мазитов настойчиво подталкивал Нурлана: знакомься с
солдатами какие побойчей и с деньгами. В универмаге Нурлан приметил
уверенного парня из городка, купившего китайскую вазочку. Продавщица
Рая, Фаридкина молодая тетка, хихикала и стреляла глазами; другой бы
сомлел, а солдат интеллигентно расписывал, какую перегородчатую эмаль
делали в древней Византии, какую в Китае.
Вышли вместе. Нурлан показал солдату из-под полы золотистую
шкурку.
- Очень интересно! - Володя Муромцев погладил завитки. - Но у
меня другой вкус.
- Ты, я вижу, человек деловой, - продолжал Володя в тоне доброго
покровительства, ставящем Нурлана в положение услужливое: он это
чувствовал, внутренне протестовал, но отделаться уже не мог. - Не
поможешь ли мне раздобыть что-нибудь из старинных вещиц, из творений
здешних умельцев?..
Нурлан вспомнил: домбра деда Садыка висит без дела на стенке у
дяди Отарбека в Тельмане.
- Продай! - предложил Володя. - А то махнем? У меня гитара есть,
самый модный сейчас инструмент.
Нурлану за дедову домбру Володя в придачу к гитаре напел весь
модный репертуар. Рыжий мальчишка оказался на удивление переимчив:
суть схватил, саму манеру шепотного московско-переулочного исполнения.
Хотя под казахскую домбру - рыжий Володе показывал - поют
высоко-пронзительно, в долгий крик. Но всего удивительней вот что
оказалось для Володи: мальчишка пел дешевку, ширпотреб, а слушаешь -
за сердце берет.
Послушать Нурлана к ребятам в комнату пришли отец Маши и лысый
майор. Майор послушал, послушал, не вытерпел и протянул руку.
- Дай-ка!
Он долго настраивал гитару, потом страдальчески вскинул брови и
начал:
- "Синенький скромный платочек..."
Он пел, подражая модной когда-то певице, ее жеманной манере.
Песенка фронтовых лет увела его в далекие годы, когда был лейтенантом
с задорными усиками, в щегольской бекеше, в сапогах со шпорами.
Маше было жаль Коротуна: неужели он не замечает, что смешон?
Майор домучил "Синий платочек" и собирался петь еще, но бойкая
Фарида перебила:
- Маш, а Маш... Ты хотела у Кольки узнать про деда. Коль, а
Коль... Расскажи!
- Да чего там... - смутился Колька.
- Ну, не буду вас стеснять! - Коротун поднялся.
- А может, и нам пора? - спросила Фарида. - Надоели больному
человеку.
- Ничего не надоели, - запротестовала Маша. - Скучно целый день
одной.
- А я, бы пожил один, - позавидовал ей Колька. Он сидит за
письменным столом, разбирает поломанный будильник. - Дома минуты покоя
нет, малышня лезет. Вчера только отвернулся - уволокли паяльник и
комод разделали.
Нурлан побренчал струнами.
- Ты не крути, ты про деда рассказывай.
Колькиного деда каждый раз надо было подолгу упрашивать, чтобы
поведал свою историю. Дед вздыхал, хмурился, сосал сигарету и нехотя
начинал:
- Я уже, значит, демобилизовался, а он в кавбригаде служил у
Карпенки. В тридцатом году опять басмачи объявились. Карпенко их угнал
за Чу, в киргизские горы. В тех горах и попал в плен к басмачам боец
Фетисов. Ему допрос, как водится у басмачей. Курбаши спрашивает: "Кто
такой? Как зовут? Какие планы у командования?" Известно, чего им,
басмачам, надо. А друг мой язык на замок - молчит. Курбаши к нему с
подходом: "Ты же наш. Ты мусульманин". А дружок ему в ответ: "Я боец
красной конницы Фетисов". Уже после один пленный басмач показывал, как
все было. Курбаши налетает: "Врешь! Ты не русский! Ты мусульманин!" А
он на своем стоит: "У тебя, бандит, мой документ в руках! Разуй глаза!
Написано: Фетисов!" Басмачи его ножами, а он им: "Нет и не будет у
меня другого имени. Фетисов я, и точка"... - Дед поникал головой,
смахивал слезу. - Так и погиб Фетисов. Нашли его конники истерзанного:
грудь истыкана, глаза выколоты, язык отрезан. Там, в киргизских горах,
и похоронили. Написали на камне: "Красноармеец Фетисов. Зверски убит
басмачами. Спи спокойно, товарищ, мы за тебя отомстим". До сих пор,
сказывают, камень при дороге лежит. Люди читают и думают: "Эк занесло
тебя, русского мужика, помирать в такую даль". Иной раз ночью не спишь
- камень могильный на грудь давит...
Историю Колькиного деда рассказывал Нурлан, а Колька тем временем
ладил и ладил будильник. Кончил и заулыбался.
- Сейчас проверим, ходит или нет. - Поднес будильник к уху. -
Тикает! А ну-ка звон проверим! Без звона будильнику грош цена. -
Колька перевел стрелки, будильник залился оглушительной трелью. -
Голосистый! С таким не проспишь.
- Что я говорила? - подхватилась Фарида. - У Кольки выдающийся
технический талант... А у Нурлана музыкальный, - не забыла она
вставить.
Нурлан Фаридку терпеть не может, но обрадовался похвале,
забренчал на гитаре.
- А что, ребята? Не сочинить ли мне песню про Колькиного деда?
- Да ну тебя! - отмахнулся Колька.
Зато Фарида так и захлопала крыльями: конечно, напиши! У тебя
замечательно получится!
Когда Маша пришла в школу после болезни, у нее уже была своя
дружная компания, и это - без всяких ее трудов - поставило Машу в
школе на то место, какое ей теперь полагалось по сложившимся между
ребятами отношениям.
Майор Коротун как-то встретил Нурлана возле дома, зазвал к себе.
Жена майора, шумливая Мария Семеновна, рассказывала всему женскому
населению городка:
- Мой-то с мальчишкой песни поет по вечерам. С ума спятил.
Нурлану понравилось ходить к майору. Мария Семеновна откроет
дверь, крикнет в глубину квартиры: "Коротун! Твой кунак пришел!"
Сколько раз ей говорил Нурлан: нет кунаков в степи, тамыры есть, но
Марию Семеновну не переучишь. Нурлан с ней не пререкается, идет к
майору, садится рядышком на диван - и пошло... "Ты теперь далеко,
далеко. Между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до
смер-ртя четыре шага..." Нурлан знает: солдаты Коротуна не любят,
прозвали "уставчином", но ему, Ржавому Гвоздю, плевать на прозвища,
если человек плачет от хорошей песни. Нурлан еще придет, посидит с
майором на диване, споет ему "Соловьи, соловьи, не тревожьте
солдат...".
У Маши в комнате слышно: весь вечер напролет бренчит внизу
гитара, поют два голоса. Фарида приходит и начинает возмущаться:
- Взрослый человек, а не понимает, что Нурлану еще надо физику
выучить. Его завтра непременно спросят.
Но вот наконец гитара смолкла. Фарида выскакивает в коридор,
торопливо натягивает модное красное пальто. Она успевает столкнуться с
Нурланом на лестнице, ему некуда деваться, он идет из городка в
поселок вместе с Фаридой, а назавтра в классе все об этом знают, хотя
Маша ни разу не проболталась.
- Уж такое место наш Чупчи! - Фарида закатывает глаза. - Здесь
всегда все известно.
Стук в дверь, отцовские босые прыжки - от двери к окну, от окна к
печи, истошные крики матери. Вошли четверо, два казаха, русский и
татарин, все не местные, но откуда-то они знали, что и где им искать в
хибаре больничного сторожа. Они отыскивали и выкладывали на стол пачки
денег, пересчитывали, записывали. Салман раньше отца догадался:
милицию навел на их дом Ржавый Гвоздь. Зря отец доверил Акатову
рисковое дело. Старый способ пересылки товара был верней. Проводник
вагона привозил отцу ящик с яблоками и забирал туго зашитый мешок.
Отец в больнице открыто приторговывал яблоками из посылок,
участковый Букашев придирался: мелкая спекуляция. Простой и умный был
способ у отца, но зачем-то понадобилось старому черту связаться с
Ржавым Гвоздем, поехавшим с классом на экскурсию в Алма-Ату. Видно,
хотел покрепче запутать Акатова, а вышло наоборот. Влип, значит,
Ржавый Гвоздь в Алма-Ате.
"Трус Акатов. Трус и предатель", - думал Салман, а голая лампочка
под провисшим прокопченным потолком светила все ярче. Вечером она
горит вполнакала, потому что весь Чупчи жжет электричество, а тут
поселковая трансформаторная будка работала на один мазитовский дом,
где чужие люди считали деньги, много денег. Салман заметил: не отец
стыдится, что при таком богатстве жил как нищий, а чужие чувствуют
себя неловко, считая деньги в мазитовском голом доме, где с ломаных
кроватей поднялись, глядят на них разбуженные ребятишки, у которых
сейчас, посреди ночи, уведут в тюрьму отца. Салман уже понимал: отца
уведут. Понял сразу, едва милицейские вошли. А младшие догадались,
заревели на все голоса, только когда за отцом захлопнулась низкая
набухшая дверь. Мать выбежала следом, сыпала проклятиями в спины тем,
кто увел из дома хозяина, унес кровные денежки, грозила каждому из
четырех: "Проклятие твоему отцу и матери!" - и обоим казахам, и
русскому, и татарину. Вернувшись в дом, повалилась на постель и начала
кататься по ней, хватая зубами то руки свои, то в блин умятую, сальную
подушку. Салман спрыгнул со своей лежанки, погасил свет. У него в
кулаке размякла плитка шоколада, из жалости подсунутая милицейским.
Салман в темноте нашаривал зареванные рты малышей, вталкивал сладкие
обломки. Малышня зачмокала, стала утихать, а он наскоро собрался и
выкатился на улицу.
Сухой заморозок ожег воспаленные от ночного яркого света глаза.
Некуда Салману пойти в тепло, кроме как в школу. Портфель с книжками
он решил спрятать на школьном чердаке.
По железной лестнице Салман забрался на чердак, зарыл свой
портфель в груду разного хлама и через люк спустился в коридор. В
уборной он напился из-под крана, поплескал водой в лицо, вытерся
рукавом. Ему пришла мстительная мысль написать на стенке про Акатова:
пускай все узнают правду. Салман вытащил из кармана красный карандаш,
Витькин подарок, вывел печатными буквами: "Акатов предатель".
В коридоре послышались громкие женские голоса. Салман осторожно
выглянул. Гавриловна уже заявилась, распекает за что-то уборщицу. Чего
доброго, сунется сейчас и в мальчишечью заповедную. Днем-то ей сюда
ходу нет, гонять курильщиков она посылает Василия Петровича, учителя
физкультуры.
Еле успел Салман перебежать в закуток за железной круглой печкой.
Гавриловна распахнула дверь уборной и увидела надпись на стенке. "Это
что за безобразие!" Салман в закутке злорадно хихикнул. Гавриловна и
уборщица пошли дальше, зажигая по пути свет в коридоре и в классах.
Наконец их громкие голоса захлопнулись в учительской. И тут Салман
услышал за дверьми школы скрип притормозившей легковушки. Выстрелила
закрытая сгоряча дверца. Салман знал, кто в Чупчи так хлопает дверцей
машины. Приехал Доспаев. Но откуда ему уже все известно?
Доспаев шел по коридору в белом халате под пальто, накинутом па
плечи. Значит, едет куда-то к больному, а в школу завернул по дороге.
Салман подкрался к учительской, куда вошел Доспаев.
Нет, главный врач еще ничего не знал об аресте больничного
сторожа Мазитова. Он заехал в школу по другому делу. Доспаев недавно
узнал, что в школе какие-то хулиганы за что-то мстят Сауле.
- Мазитов? - сразу же спросила Гавриловна.
- Вряд ли он один. Вдвоем с мальчишкой из городка. У Сауле что-то
вроде ссоры с его сестрой. Думаю, что она натравила брата, а он своего
приятеля.
- Ишак безмозглый! - Салман, притаившийся за дверью, выругался
шепотом себе в кулак.
Доспаев продолжал рассказывать Гавриловне, что Софья Казимировна
однажды подарила мальчишке из городка скальпель. Эту улику обнаружили
там, где в Саулешку швыряли мокрой известкой.
- Мешок дерьма! Свиной ублюдок! - обозвал себя Салман, но душа
его не облегчилась бранью, заныла и затосковала. - Дурак я! Дурак! -
Он двинул себя кулаком в зубы. То, с чем Доспаев спозаранку примчался
к Гавриловне, оказалось тяжеленным довеском к ночной беде. Не зря отец
говорил: когда враг берет за ворот, собака хватает за полы.
Салман убрался в закуток за печью и чувствовал себя жалким
сусликом. Некуда деваться: нора залита ледяной водой. Вода подымается
все выше, выталкивает суслика в руки врагам. Даже самый трусливый
зверь - суслик или заяц - кусается, пускает в ход когти, когда
приходит безвыходный час. Салману хотелось царапаться, драться. Не
оброни он, растяпа, тот скальпель, мог бы сейчас броситься на
ненавистного Доспаева. Все равно теперь колонии не миновать:
заведенная Гавриловной папка полна до краев.
Он упустил время, когда мог незаметно уйти из школы. И вот
получилось: Салман, хотя и без книжек, запрятанных на чердаке, сидит
за своей партой в пятом "Б", рядом с ничего не знающим Витой.
Измученный бессонной ночью, он угрелся и вздремнул за партой. Учителя
не трогали Салмана: ни вопроса, ни замечания. Пришел, сидит - и на том
спасибо. Так прошли два урока, третьим была физкультура, но Василий
Петрович не повел пятый "Б" в зал - объявил классный час.
Салман вздрогнул и проснулся: "Конец! Попался! И Витьку не успел
предупредить!"
- Позор всему пятому "Б"! - гремел над классом голос, привыкший
подавать команды. - Совершен отвратительный поступок!
Салман краем глаза глянул на соседа по парте, увидел испуг на
чистеньком лице с аккуратной светлой челочкой.
Еще никто из самых трусливых подлиз не ткнул пальцем в Салмана
Мазитова, а единственный друг Витя Степанов струсил. Вот когда ударила
Салмана предательски в спину Витькина слабость, которую он раньше
всегда прощал.
Салман бросил в чистенькое испуганное лицо: "Суслик! Предатель!"
- и пошел из класса. От злости он будто оглох. Не слышал: кричат ему
вслед или нет. Он уходил, не унижаясь трусливым бегством, но и не
медлил, а то подумают, что Мазитов еще надеется на прощение. Вот он
уже во дворе школы - виден из всех окон. Многие сейчас видят: навсегда
уходит из этой проклятой школы самый ненавидимый ею ученик. И пускай
книжки-тетрадки, купленные не за его - за школьные деньги, сгниют на
чердаке. Салман Мазитов никогда не вернется сюда.
- Сашка! Погоди! - услышал Салман.
Витя бежал через двор, натягивая пальтишко.
- Сашка! Постой!
Салман нагнулся, схватил с земли промерзлый кизяк.
- Ну! Ты! Суслик! Не лезь. Пришибу!
- Да ты что? - Витя остановился.
- Не лезь! - Салман погрозил промерзлым увесистым комком,
повернулся и пошел. Сначала куда глаза глядят - подальше от поселка,
от школы. Потом сообразил - пешком далеко не уйдешь, повернул к
станции.
Оглянувшись, Салман увидел: Витя упрямо идет за ним.
Витя знал: его дело теперь идти за Сашкой, не отставать. Книжник
и в практических вопросах неумеха, Витя не только поспел выскочить из
класса за Салманом, но, словно подтолкнутый под руку кем-то неведомым,
догадался сдернуть с вешалки у дверей свое пальтишко и шапку. Будто с
самого начала предвидел: им предстоит долгий путь.
Они сделали круг по степи, и теперь Витя видел впереди станцию.
Салман шел прямиком к ней, не оглядываясь.
За семафором, в километре от станционных построек, стоял длинный
товарный состав. Салман нырнул под платформу - Витя за ним, весь дрожа
от страха: вот поезд тронется, огромные тяжелые колеса раздавят его в
лепешку. Но состав терпеливо стоял. Вынырнув по другую сторону, Витя
увидел быстро убегавшего Салмана. Он тоже побежал, жалобно выкрикивая:
- Сашка! Постой!
Салман заметил: чуть отодвинута дверь товарного вагона -
сантиметров на сорок, не больше. Он подпрыгнул, цепко повис и
протиснулся в щель. Вскочил на ноги и приналег изо всех сил - закрыть
щель. Но тяжелая дверь не поддавалась.
Витя с первого раза сорвался, но со второго подтянулся на руках и
лег животом на пазы, по которым ходят такие двери - ноги его болтались
в воздухе, лицом он уткнулся в пол вагона, замусоренный чем-то едким.
И тут состав дернулся, резкий толчок стронул тяжелую пластину двери,
не поддававшуюся мальчишеским усилиям... Салман еле успел схватить
Витю за шиворот, втащить в вагон - дверь задвинулась, и стало темно.
Прогремели под колесами стрелки, поезд убыстрял ход.
- Попались! - сказал Витя. - Теперь не спрыгнешь.
- А мне и не надо спрыгивать! - Салман сплюнул набежавшую слюну.
- Я далеко уеду.
- Куда далеко?
- Во Владивосток! - с ходу придумал Салман.
Витя тоже сплюнул, чувствуя кислоту на губах.
- Во Владивосток надо ехать через Новосибирск. А этот поезд идет
на юг, в Ташкент.
- Ты откуда знаешь? На юг, на север? Сам в кукурузе заблудился.
- Я тогда маленький был. Чудак ты, Сашка. Сейчас часов
одиннадцать. Солнце было от нас слева. Значит, едем на юго-запад...
Слушай, что за порошок тут в вагоне рассыпан? Все время плеваться
хочется. Химия какая-то! Выбираться надо отсюда. И вообще еще
неизвестно, исключат тебя из школы или нет. Хочешь, я с отцом
поговорю?..
- Вот этого не хочешь? - Салман сложил кукиш. - Сегодня ночью
моего отца в тюрьму забрали.
- В тюрьму? За что?
- За хорошие дела! - Салман подошел к двери, налег плечом. -
Сейчас я тебе, Витька, открою. - Он тужился изо всех сил, но впустую.
- Открою, и катись отсюда на первой же станции. Я тебе больше не друг.
Мой отец вор, хуже вора. Ну, чего стоишь? Помоги, суслик несчастный!
Сколько лет живешь на свете, ничего в жизни не понимаешь. Сын вора я!
Понял?
- Понял... Отца посадили, но ты же не виноват. Ты честный!
- Ничего ты не знаешь! - заорал Салман. - Я тоже вор! На базаре
воровал? Воровал! Одеяло украл? Украл! Что? Испугался? Не бойся, у вас
дома я ничего не украл. Хватит разговаривать - толкай дверь!
- Вместе слезем! - упрямо повторял Витя. - Вместе!
Сколько они ни толкали, дверь не открывалась. Поезд получил
зеленую улицу и все дальше увозил их от Чупчи.
- Сдохнем мы тут от дуста, как клопы! - сплюнул Салман.
- Нет, это не дуст. На фосфор похоже, - Витя облизнул палец,
макнул в порошок. - Жжется немного. - Он посопел нерешительно и все же
спросил: - Ты зачем известкой в ту девчонку бросал?
"Ничего не понимает! - горестно удивился про себя Салман. -
Откуда только берутся такие беспонятные люди? "
Вечером Колькин братишка-третьеклассник ходил в интернат на кино
про Тарзана. Притопав домой, братишка шепнул Кольке: "Ржавый Гвоздь
сбежал. Воспитатели еще не знают, но среди ребят ходит такой
разговор".
Не теряя времени, Колька подался в интернат. В учебной комнате
подремывал на клеенчатом диване дежурный воспитатель Дюсупбек
Жунусович, по-школьному Дюк. Спальня старших ребят пустовала. Колька
полез в Нурланову тумбочку и понял: Ржавый Гвоздь на самом деле
смылся. Дюку Колька, конечно, ничего говорить не стал, а Дюк - лодырь,
перед сном поверок не устраивает, ночью спален не обходит - дрыхнет в
учебной комнате.
Из интерната Колька припустил не домой, а на садвакасовскую
зимовку. Дома ему сейчас делать нечего. Если деду сказать: "Нурлан
попал в беду", дед протянет ехидненько: "А-а-а... Внук старого Садыка?
Помню я Садыка. Тоже был артист. За рубль заставишь, за тысячу не
остановишь". Послушать деда, так от Садыка никакого доброго семени
пойти не могло: и отец Нурлана не работник, и отцов брат, Отарбек из
Тельмана, вовсе балалаечка без струн - ни к какому делу не пристал, и
теперь определили его заведовать клубом. А какой там клуб на
отделении? Мазанка небеленая, раз в неделю заезжает кинопередвижка. Но
Отарбек и веника в руки не возьмет. "Я заведующий. Руковожу
культурно-массовой программой. Для подметания прошу выделить штатную
единицу".
Так уж выходило: встревожившись за друга, Колька сразу вспомнил
про Отарбека. И прежде при всех передрягах Нурлан имел обыкновение
подаваться за помощью и советом не к толковым людям, а к балаболке
Отарбеку.
Что с Нурланом теперь-то?
Кольке и в голову не пришло, что побег Нурлана был связан с
передрягой, приключившейся летом в Алма-Ате. Нурлан имел тайное
поручение от Мазитова и адрес. По этому адресу он налетел на милицию,
арестовавшую перекупщиков и караулившую, кто еще придет за товаром.
Нурлана допросили и отпустили, приказав помалкивать.
Мазитова он настолько боялся, что даже Кольке ничего не
рассказал. И после ни о чем не вспоминал. Поэтому Колька начисто
забыл, как однажды в Алма-Ате притопал Нурлан откуда-то очень поздно и
клацал зубами.
У Еркина Колька застал родича Садвакасовых, десятиклассника
Исабека. Всегда тугодум, а тут оказался самым шустрым. Пока приятели
решали, где и как искать Нурлана, Исабек ненадолго исчез и привел пару
лошадей.
Еркин и Колька выехали на другой день спозаранку и потому ничего
не знали ни про арест сторожа Мазитова, ни про побег двух
пятиклассников.
От Чупчи до Тельмана было по степному счету километров двадцать.
Название аула - Тельман - произносится с ударением на последнем
слоге, как все казахские слова. Здесь когда-то организовался один из
первых в степи колхозов, взявший имя немецкого коммуниста Эрнста
Тельмана. Сначала говорили: "имени Эрнста Тельмана", потом упростили:
"Мы из Тельмана...", а с годами укатали на степной лад: "Где живешь?"
- "В Тельмане".
У крайних домов Еркин придержал коня, перевел на медленный шаг.
Не любят в аулах дуралеев, скачущих к жилью во весь опор, будто с
вестью о вражеском нашествии.
Они ехали единственной улицей, В Тельмане казахи, украинцы и
немцы жили в тесном соседстве, но на отличку. Украинец белил хату и
расписывал наличники. Немец не тратил деньги на архитектурные
излишества, весь хозяйственный пыл вкладывал в надворные крепчайшие
постройки. Казах убирал дом коврами и держал двор голым, как ладонь:
пускай степь расстилается до самого порога.
Из всех казахских дворов самым открытым стоял двор Отарбека.
Еркин огляделся: негде и лошадей привязать. Выручила посыпавшая из
дверей мелюзга - приняла поводья. Вместе с ней плеснул на улицу звон
струн и высокий рыдающий голос.
- Здесь наш друг-приятель! - Еркин толкнул покосившуюся на одной
петле дверь.
В единственной комнате духота, не прибрано. Посередке, на кошме,
лист газеты, миска с вареным мясом, зеленая бутылка, два захватанных
стакана. Колька оторопел от такого пьяного безобразия, а Еркин чинным
гостем подсел к газетине-дастархану.
- Ты пой, пой... Извини, если помешали.
Нурлан ударил по струнам:
- ...На поленьях смола как слеза. И поет мне в зем-ля-а-а-нке
гармонь при улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в
белоснежных полях под Москвой... Я хочу, чтоб услы-ы-ышала ты, как
тоскует мой голос живой...
Отарбек всхлипнул, выкатил откуда-то еще два грязных стакана.
Бритая голова Нурланова родича белела пролысинами. Он тазша - плешивый
после болезни, перенесенной в детстве.
Еркин будто не замечал, что ему наливают из зеленой бутылки.
- Еще спой.
- Русскую? - Нурлан держался задирчиво. - Романс старинный. Тебе
посвящаю! Гори, гори, моя звезда...
Колька молча злился: "Ладно! Ори, ори, моя звезда! Покажу после,
как всякие штучки выкамаривать".
- Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда... - Нурлан
пел без пижонства, нараспашку - с казахской и с русской удалью.
Старинный романс он перенял у Коротуиа. Только майор, когда пел,
изламывался весь от грустных чувств, а Нурлан откуда-то знал: это
поется со строгим лицом и не в тоске, а светло, счастливо.
У Еркина против воли горячо стало в груди, тревожные токи
побежали по крови. Думал про Нурлана: бесстыдный он, что ли? Сам
открылся напоказ. Думал про себя: "Я так никогда не смогу, не
вывернусь наружу - сдержусь, поводья не отпущу".
Еркин знал: Нурлан вовсе не сердцем живет, болтовней. Но
позавидовал Нурлановой открытости, осудил свою неизменную выдержку.
Всегда Еркин словно перепоясан тугим ремнем, всегда словно с удилами в
зубах: грызи - не перегрызешь за всю жизнь, не выплеснешь горя, не
разбросаешься радостью, как бросаются сластями на аульных свадьбах.
Нурлан последний раз ударил по струнам и пропел:
- Че-го при-е-ха-ли?
Колька выпалил:
- Тебя, дурака, проведать!
- Совет держать, - сказал Еркин. - Один ум хорошо, два лучше.
Отарбек тут же придрался:
- Ты, выходит, умный? А я, по-твоему, не советчик сыну моего
любимого брата?
- Простите, агай! Мы ждем вашего совета.
Отарбек важно выпятил нижнюю губу, сплюнул жвачку на выщербленный
пол и закатил торжественную речь. Нурлан талант. Нурлану не нужна
вонючая чупчинская школа. Вы хотите, чтобы он пас овец или в конторе
щелкал на счетах? Никогда! Таланту необходима вольная жизнь. Нурлан
внук Садыка. В любом доме ждет Нурлана заслуженный почет, еда и
ночлег. Пора вернуть в степь добрые традиции, когда певца кормила
домбра и он ни перед кем не ломал шапку.
Отарбек разглагольствовал напыщенно, крикливо. Однако, начав про
Нурлана, вскоре забыл обо всех талантах и несчастьях любимого
племянника и взахлеб заговорил о себе. Он, Отарбек, выдающийся сын
народа, загубленный злодейкой жизнью и завистниками одноаульцами. Если
бы не жена - ей каждый день давай еду! Если бы не председатель - ему
каждый день выходи на работу! Разве стал бы Отарбек в других условиях
заведующим каким-то клубом? Он бы высоко вознесся!..
Еркин насмешливо посапывал. В народе считается: все тазша -
большие хитрецы и ловкачи. А этот? Мешок дырявый, вся глупость наружу.
Колька наконец взорвался:
- Нурлан! Какого лешего ты молчишь!
Ржавый Гвоздь словно ждал, чтобы ему подали в спектакле нужную
реплику: голову скорбно уронил на грудь, пятерней вцепился в рыжие
патлы.
- Мне, Колян, теперь все равно! Саданут под сердце финский нож -
и точка. Отпел свою песню Акатов!
- Ты что? Сдурел?
- Нет! - Нурлан искусно дрогнул голосом. - Нет, Колька, друг ты
мой единственный! Мне теперь не найти спасения. Сам видишь: вынужден
скрываться. Но они меня и под землей достанут.
- Кто они?
- Тебе знать не надо. - Нурлан тяжело вздохнул. - Тебе, Колян,
жить да жить, а я человек конченый.
- Иди ты к лешему! - обозлился Колька.
- Прощай, - кротко поглядел Нурлан. - Ты меня не знаешь, я тебя
не знаю. Месть банды не только мне грозит, но и всем моим друзьям.
- Какая банда? - насторожился Отарбек.
Тут Ржавый Гвоздь развернулся! В красках расписал, будто бы
однажды помог милиции напасть на след крупной банды, окружить тайную
квартиру в Алма-Ате. Бандиты яростно сопротивлялись. Двое из них
перескочили дувал, оглушили милиционера и скрылись в неизвестном
направлении. Полковник, весь седой, много раз тяжело раненный в таких
схватках, мужественно сказал Нурлану: "Не буду от тебя скрывать - тебе
теперь надо остерегаться их кровавой мести". Полковник предложил
Нурлану: "Под чужим именем устроим тебя жить где-нибудь подальше, в
Сибири или на Кавказе". Но Нурлан решил: не буду трусом - и вернулся в
Чупчи...
- Однако здесь... - На этих словах голос Нурлана трагически
оборвался: пусть поработает фантазия слушателей!
- Не ожидал от тебя такой подлости! - Отарбек вскочил, заметался.
- Ты хочешь навести беду на мой дом? - Он кинул племяннику плащ, шарф.
- Я не трус, но у меня жена, дети!
Еркин встал, подмигнул Кольке: готово, спекся! Нурлану сказал
озабоченно:
- Твой дядя прав. Ты не должен прятаться у него в доме. Поедем.
- Поедем, - мрачно согласился Нурлан, берясь за чемоданишко.
- По стаканчику! На дорогу! - захлопотал Отарбек.
- Спасибо, агай! - отказался Еркин. - Нам нельзя туманить голову.
Думать будем, как Нурлану помочь. До свидания.
- Не поминайте лихом! - подыграл Еркину Колька.: Он давился от
смеха, до чего все лихо получилось! Другого бы пришлось уговаривать,
спорить до хрипоты, а Нурлан сам себя выставил из дома Отарбека. Сам!
Собственной своей бессовестной брехней!
Во дворе мелюзга слегка передралась, кому выполнить почетную
службу, и подвела нерасседланых лошадей.
- Ко мне за спину сядешь! - сказал Колька Нурлану.
- Счастливой дороги! - Отарбек вышел спровадить мальчишек и
убедиться, что соседи не очень-то любопытничают. - Лишнего не
болтайте. Где были, у кого. Длинный подол ноги опутывает, длинный язык
- шею.
Нурлан глянул на дядю изумленно: от него ли слышит?
Колька клятвенно стукнул кулаком в грудь:
- Могила!
Со двора взяли вскачь.
Крыши Тельмана остались далеко, приплюснулись к земле. Нурлан
завозился у Кольки за спиной, забарабанил кулаками по ватнику:
- Стой! Дальше не поеду!
Еркин, скакавший чуть впереди, остановился.
- Что там у вас?
- Думаете, связали, как барана, и повезли? - Нурлан скатился на
землю, глядел на ребят снизу вверх. - Думаете, и разговаривать с
Акатовым нечего? Хитрецы нашлись - выманили от дяди Отарбека. Я бы и
сам от него ушел!
- Куда? - Колька возмущенно завертелся в седло. - Куда ушел? Под
чужим именем на Кавказ?
Еркин высвободил ногу из стремени.
- Нурлан прав. Поговорим.
Неподалеку увидели развалины зимовки, отпустили лошадей, сели в
затишке, по-степному, на корточки. Нурлан охлопал карманы: закурить
бы. Поглядел на Кольку. Тот сроду не дымил, у Кудайбергеновых на этот
счет строго, но вытащил из-за пазухи пачку "Севера". У Нурлана нос
благодарно взмок: что ни говори, а есть на свете верная дружба.
- Поговорим! - Нурлан, старый курильщик, затянулся жадно. - Врал
я вам. Нет никакой банды, но все равно я кругом в дерьме. Люди
пальцами показывать будут: "Акатов - мазитовский хвост", "С Акатовым
не связывайся - продаст". Некуда мне деваться.
Еркин вытянул камчой по сапогу.
- Если долго преследовать труса, он храбрецом станет!
- Тебе, Садвакасов, не чабаном быть! Тебе зубы дергать в
больнице. Или хирургом. Возьмешь ножик и - чик! - отхватишь у человека
полсердца. Вы, Садвакасовы, жалости не знаете.
Еркин занялся рукоятью камчи.
- Вернешься в Чупчи - заставишь всех себя уважать. Много сил
уйдет, много времени. Но постараешься - заставишь. А убежишь? - Еркин
поцокал языком. - Убежишь - дурная слава твоя еще долго проживет в
Чупчи, по всем аулам разлетится. Сколько человеку не прожить на земле,
сколько у нас в степи помнят нечестные дела.
Колька кивнул солидно:
- Он нрав. Вернешься - снимешь вину. Не сразу. Однако снимешь.
- Что снимешь? Всю шкуру снимешь, - заныл Нурлан. - И девчонки
задразнят. У них не языки, а жала каракуртов! - Рыжий артист картинно
схватился за голову и повалился на землю.
- Больно много ты о девчонках стал думать! - рассудительно
заметил Колька. - И вообще кончай свои спектакли. Думай, что будем в
школе говорить.
Нурлан лежа приоткрыл хитрый глаз:
- Что ни придумай, Голову не обдуришь.
- А его нет в школе. Через неделю вернется.
- Значит, для Гавриловны придумать! - обрадовано поднялся Нурлан.
- Так бы и сказал, а то тянешь. Для Гавриловны легче.
- Много придумаешь, много вопросов задавать будут. Мало
придумаешь, мало спросят. Скажешь, как было, - вовсе никакого
разговора, - рассуждал неспешно Еркин. - У тебя была причина в Тельман
податься? Была. У нас с Колькой была причина за тобой поехать? Была, О
чем говорить?
- Слушай, а он здорово придумал! - обрадовался Колька. - Коротко
и ясно. Поехали - приехали.
- Ладно! - Нурлан встал. - Темные вы люди. Не знаете: чем проще
роль, тем артисту труднее.
Что-то возникло вдали, где небо, сгустившись серо, сходилось со
степью.
- Летит! - вскочил Колька. - Вертолет. Военный.
Вертолет тянул низко над степью, покачивал округлым брюхом. Еркин
вспомнил: летом на джайляу неподалеку от садвакасовской юрты садился
такой же. Овцы повалили на его стрекот, окружили небесного гостя.
Привычка у них кидаться к вертолету, потому что зимой, когда буран
погуляет или когда вся степь в ледяной непробиваемой корке, на отгон
везут сено и тракторами и вертолетами. Рев мотора для современной овцы
- сладкая песня.
- Ищут кого-то, - определил Колька, когда винтокрылый на миг
завис над зимовкой.
- Меня? - трухнул Нурлан.
- Ну с чего, дурья башка, стали бы тебя с таким форсом искать?
Может, из солдат кто заплутал.
Вертолет удалился в сторону Жинишке-Кум.
- К чабанам полетел.
Оттуда, где скрылся вертолет, вскоре вынырнула машина "газик".
Колька присвистнул:
- А "газик"-то... К нам!
"Газик" не рыскал, бежал нацеленно, словно собака, учуявшая след.
- Солдат за рулем, - разглядел глазастый Колька. - Сейчас узнаем,
что тут армия ищет.
- Искусственный спутник ищут. Здесь у нас упал! А что? Вполне
возможно! - Нурлан стянул с шеи красный шарф, замахал, как флагом:
"Сюда! Спасите наши души! Идем ко дну!"
Метров за десять до мазара "газик" развернулся полукругом,
подкатил правым боком. В переднем оконце - майор знакомый. Спрыгнул на
землю:
- Послушайте, ребята. Вы сегодня не встречали в степи двоих из
вашей школы? Степанова и Мазитова.
- Они так далеко не ходят, - сказал Еркин.
- Сегодня могли и дальше забраться.
- Случилось что-нибудь?
- Да так... Ничего особенного. - Коротун не собирался вдаваться в
подробности. Он оглядел всех троих, словно на выбор, и остановил
взгляд на Нурлане.
- Вот что, парень. Поедешь со мной. Довезем до Чупчи, по дороге
покажешь, где еще можно пошарить. - Майор откинул переднее сиденье,
подтолкнул своего "кунака" вглубь.
"Газик" по-собачьи рванул песок задними колесами, умчал в сторону
поселка.
- Найдутся, никуда не денутся, - говорил солдат-шофер. - Я
пацаном сколько раз из дому бегал. Батя мой умер, он с войны инвалидом
пришел, на пять мирных лет только и хватило. Ну а мать больно скоро
замуж вышла. Отчим что? Неплохой мужик, я с ним сейчас вполне, а
пацаном в двенадцать лет злился: то на чердаке ночую, то поездом
укачу. Милиция поймает, вернет - я опять в бега... Три месяца в
психичке пролежал с такими же бегунами, как я. Оказывается,
заболевание есть психическое детское: из дому бегать... Обследовали
меня, расспрашивали, я чуть вправду умом не тронулся. Спасибо, отчим
приехал, забрал меня из дурдома под свою ответственность. Еще разок я
его подвел, до Одессы добрался. После как отрезало, не тянет.
Переболел и выздоровел. Может, и с ребятами в таком роде случилось.
Как вы считаете, товарищ майор?
- Разговорчики! - У майора, роняющего слезу над песней, имелся
для подчиненных другой, заскорузлый голос. - Не забывайте, произошло
неприятнейшее чепе в семье офицера. Лишняя болтовня дает пищу
обывательским слухам.
Нурлана словно мордой протащили по колючкам: так, так,
беспокоимся о чести мундира, боимся лишней болтовни!..
- Слушай, парень! - Коротун, кажется, забыл, что у Нурлана есть
имя. - Слушай, парень, что за тип у вас в поселке - Мазитов?
- Мазитов? - дурашливо переспросил Нурлан. - Отрицательный тип.
Могу охарактеризовать. Хотите? Устное сочинение на тему "Образ
Мазитова".
- Можешь не сочинять, - разрешил майор. - Вашего Мазитова сегодня
ночью арестовали. Мы получим о нем достаточные сведения из официальных
источников. Меня сейчас больше интересует его сын. Я к нему уже давно
присматривался.
- К Сашке? Думали, иностранный шпион?
Солдат за рулем фыркнул.
- Острить будешь в другом месте! - отрезал Коротун. - Сейчас
отвечай на вопросы. Давно ли сын Мазитова занимается темными делами?
- Вас понял! - Нурлан как бы со стороны удивился совершенному
своему спокойствию. - Ученик пятого класса Салман Мазитов... Запишите:
его настоящее имя Салман. Так вот, Салман Мазитов уже давно никакими
темными делами не занимается. Салман Мазитов послал ко всем чертям
своего дорогого папашу. Прошу занести эти мои показания в протокол. А
также ответить на мой вопрос: послал бы кто-нибудь военный вертолет
персонально за Сашкой Мазитовым? За ним одним?
- Ты брось выламываться! - прикрикнул Коротун. - Говори
нормальным языком.
- Есть говорить нормально! - отчеканил Нурлан. - Мой нормальный
язык - казахский. А вы по-казахски понимэ? Сколько лет здесь служите?
Почему до сих пор не изучили?
- Меня, парень, на такой крючок не поймаешь. Понял?
- Я вас прекрасно понял! - ухмыльнулся Нурлан. - Так вот насчет
каракуля. Мазитову помогал я.
- Врешь!
Нурлан набрал побольше воздуха и захохотал, как хохочут негодяи в
американских фильмах: ха! ха! ха!
- Да брось ты выламываться! - попросил Коротун обыкновенным
голосом. - Дело-то ведь серьезное. Уголовное дело. Ты мне, Нурлан,
толком объясни.
Нурлана заело: "Вспомнили наконец мое имя?"
Коротун заговорил вроде бы даже ласково:
- Давай, Нурлан, выкладывай все по правде. Я ж тебе друг.
Скучно стало, как барану, которому горло перерезали. Почему же вы
раньше доброго слова сказать не могли? Теперь что? Какая может быть
теперь правда?
- По правде, товарищ майор, ничего не получится.
- Ну смотри. - Коротун вроде бы даже обиделся. - Тебе же хуже.
- Вы меня но пугайте! - взорвался Нурлан. - Я пуганый.
- Вот ты как заговорил?
Нурлапа понесло, как легкое семечко степным ветром. Он выложил
Коротуну про все свои делишки с Мазитовым.
Майор слушал и все больше мрачнел. Обманулся он, оказывается, в
этом мальчишке. Думал, душа у него светлая, сердце отзывчивое. А на
поверку дрянной человечишка, мозгляк и трус.
Коротун так и сказал Нурлану.
У Нурлана враз заныли все зубы: "Скука зеленая! Чего я с ним в
откровенность полез? Какая мне нужда Сашку защищать?"
- С таким, как ты, на фронте, - пилил майор, - с таким пропадешь.
Я бы с таким в разведку не пошел.
Нурлан подскочил, ударился башкой в брезент.
- Надоело! Выпустите меня!
Но из "газика" с заднего сиденья сам не уйдешь - надо, чтобы
вылез сидящий впереди.
- Ты старшего выслушай. Для пользы твоей говорится. Можешь не
беспокоиться, в городок к себе не увезу. Высадим в поселке.
- Да плевал я!
Он в самом деле дурак с длинным языком: нашел у кого искать
поддержки, сочувствия, хотя бы желания выслушать, понять!
На краю поселка шофер притормозил. Майор не шевельнулся на
переднем сиденье. Шофер вылез:
- Давай, парень, вытряхивайся!
- Чао! - Нурлан решительно пошагал в интернат.
Ух и порасскажет же он сейчас - у всех глаза на лоб повылазят!
На какой-то большой станции Салману удалось приоткрыть дверь.
Сразу налетели люди, Витьку положили на носилки, куда-то понесли.
Салмана крепко держал за руку парень с повязкой дружинника. Так Салман
очутился в детском приемнике, в компании очень толковых ребят. Он у
них и куревом разжился, и поднабрался кое-чего полезного. Народ был
опытный, со всех концов страны.
Один пацан постарше Салмана года на три. "В седьмом классе учусь.
Надо бы в восьмом, да на второй год оставался. И все из-за того, что к
отцу бегаю. Отец у меня морской адмирал во Владивостоке. Я к нему
бегаю".
Салман удивился: "Зачем много раз бегать? Надо один раз". Пацан
улыбнулся печально: "Это кажется - просто. Ты сам попробуй".
Салман про отца-вора не сказал, только про Витю: что в вагоне
случилось. "Хана твоему корешу. В прошлом году на Алма-Ате-первой
распечатали вагон, а там покойники, пацаны местные. И уехать никуда не
уехали. На одну ночь закрылись от милиции - и кранты". У Салмана чуть
не отнялись руки-ноги, но он свой подлый страх усмирил: "Я-то живой.
Отчего же Витьке кранты? Ну, слабже он меня. В котельной не ночевал, в
мазарах не жил. Непривычный к плохому. Понятное дело, сомлел. Но ведь
теплый был. Не мог он. Я-то живой, не сдох!"
Воспитатель нудил: "Когда вспомнишь, как тебя зовут, откуда
прибыл - приди и скажи". После снова заглянул, напомнил: "Ну как?
Думаешь?" Салман сказал правду: "Думаю". Он очень сильно думал: как из
приемника убежать?
Утром ели за длинным столом котлеты с кашей. Салман шепнул сыну
адмирала:
- Давай вместе убегать.
- Отсюда не убежишь. Милиционер у ворот. И вообще... Я не могу
сейчас во Владивосток ехать. Отцовская эскадра вчера ушла в плавание.
Придет через полгода. У меня самые точные сведения. А откуда -
объяснить не могу. Военная тайна.
- Полгода... - Салман от души посочувствовал. - Чего же ты
полгода делать будешь?
- Подожду. Мать за мной приедет. Ей телеграмму дали. Поживу дома.
А через полгода сбегу, отец меня возьмет юнгой.
- Лучше сразу во Владивосток, - сказал Салман. - Чего тянуть?
- Мать жалко... - Сын адмирала отвернулся, зашмыгал носом.
Милиционер открыл ворота грузовику. Воспитатель вышел на крыльцо:
- Не надоело вам, голуби, лодырничать? Все дети учатся, а вы от
ученья бегаете. Идите потрудитесь немного. Матрацы на дезинфекцию пора
свозить.
И вот тут-то Салман все шустро сообразил, но виду не подал, даже
с лавочки не стронулся.
- Адмирал, иди матрацы таскать! - орали из кладовки. - Адмирал,
поднимай паруса, плыви сюда!
Беглый народ волок матрацы, кидал в кузов, плясал на мягком.
- Тебе, Иван Непомнящий, особое приглашение требуется? - ехидно
спросил воспитатель.
Салман встал с лавочки будто нехотя, но все жилки в нем
натянулись: не упустить бы случай! Сын адмирала матрацем Салмана
прихлопнул - никто и не заметил. Верный парень.
С грузовика он изловчился смыться в тихом месте. Шофер зашел в
дом, а позади, в проулке, никого. Салман выполз из-под матрацев,
перевалился через борт - и бежать.
...Табличка на заборе: "Больница". Проходная. Тетки с узелками.
Салман остерегся лезть в проходную - к теткам пристроился разузнать.
Они его надежд не обманули. У них как раз беседа шла - ах! ах! - про
мальчика из седьмой палаты. Там у одной из теток сын лежит: рыбой
отравился. Так вот, в ту самую седьмую палату, где после промывания
желудка вполне поправляется теткин сын, вчера привезли со станции
мальчика. Лежит, в себя не приходит, а кто такой и откуда -
неизвестно.
- Помрет, а мать, бедняжка, и на могилку не придет.
- Раскаркались! - прикрикнул на теток Салман.
Там Витька - в седьмой палате!
Скрип, скрип - открылась больничная проходная, выглянул дяденька
в синем халате, больничный сторож. Барыга, сразу видно.
- Вы бы, девушки, шли по домам. Нечего тут дожидаться.
Салман жалобно заскулил:
- Дяденька! Мне в седьмую палату. Мальчик там отравленный, вчера
со станции привезли.
- А ты ему кто?
- Брат!
- Интересно... - сторож оглядел его. - Значит, брат? - Синий
халат раздулся от смеха. - Обмануть хочешь? Нехорошо, нехорошо. Тоже
еще брат нашелся. Блондинчик он, а ты копченый. Разная у вас нация.
Так что уходи отсюдова, чтобы я тебя больше не видел. Ну, скажи по
совести, какая ты ему родня?
Салман оскалил острые зубы.
- Брат!
- Ты, я гляжу, вредный! Чего тут крутишься? Воровать пришел?
Из проходной вышел дяденька с портфелем.
- Можно на минуточку? - окликнул его сторож. - Как там у вас,
доктор, мальчик отравленный? Помер? - И глазом поводит на Салмана.
- Мальчик? Пока в тяжелом состоянии. - Доктор посмотрел на
Салмана. - А это что за явление?
- Крутится у ворот и брешет, будто отравленный ему родной брат.
Так я и поверил! Нация совсем другая.
- Но почему так уже сразу и не верить? - засомневался доктор. -
Ты, говоришь, брат?
- Папка нас бросил, мамка замуж вышла, - радостно зачастил
Салман, - мы к бабушке едем...
- Что ж, пойдем к брату. - Он взял Салмана за плечо, подтолкнул в
проходную. - Плохо твоему брату. Надо бы мать телеграммой вызвать.
Если мать не хочешь - бабушку. Адрес скажешь?
- Не скажу. Брата вылечить - он скажет.
- Такой, значит, выдвигаешь ультиматум?
Салман вопроса не понял, промолчал.
- Так это ты сегодня из приемника утек?
- Ну, я! - буркнул Салман.
- Если не возражаешь, я в приемник позвоню, скажу им, чтобы тебя
не искали.
В тесной комнатушке молодой врач надел халат, нарядил Салмана в
больничную пижаму. На белой тумбочке - белый телефон. Салману слышно,
как наговаривают из приемника:
- Вы этот народ не знаете, а мы знаем. Все он врет. И убежит он
от вас. Знаем мы этих бегунов не первый год. Все говорят, что папка
бросил, мамка замуж вышла. Да, поголовно. Да, все едут к добрым
бабушкам. Есть у нас один, к отцу-адмиралу бегает, но он, поверьте,
исключение.
На эти наговоры молодой врач возражает твердо:
- Я за него отвечаю! Никуда он от своего брата не уйдет! Адрес?
Нет, адреса он пока не сообщил. Как зовут? - прикрыл ладонью трубку,
вопросительно поглядел на Салмана.
- Сашка, - выдавил Салман.
- Его зовут Саша. Он мне сейчас очень нужен. С тем, с другим?
Плохо пока. Его фамилия? - Он опять прикрыл ладонью трубку. - Фамилию
брата скажешь?
- Вылечи - он скажет! - уперся Салман.
Он рассчитал наверняка: Витю в больнице пусть вылечат, Внтя сам
все расскажет. Салмана хоть бей, хоть пытай - не дознаетесь. Витин
отец - полковник, командир части. Его фамилию, адрес нельзя говорить.
У Витькиного отца на груди шрам от фашистской пули, ему плохие вести
опасны. Салманово дело молчать. Витю пускай лечат. Витя скажет. Люди
разберутся: Витя не вор. Мазитов пускай вор, фамилия испорченная,
можно сказать, а сейчас он с Витькой как брат с братом - не Мазитов,
неизвестно кто. Сашкой зовут - на том и хватит.
Витя лежал за стеклянной загородкой, лицо на подушке синее.
Салман руками в спинку кровати впился - никуда он отсюда не уйдет. Его
и не гнали. Табурет под колени двинули: сиди. Он сидел, смотрел: течет
кровь по стеклянным трубкам, длинная игла входит в Витькину руку,
светлая жидкость мелеет в стеклянном пузырьке.
Ночью он вышел в коридор, разбудил дежурную сестру, задремавшую
за столиком:
- Адрес пиши! Матери телеграмму!
- Какой адрес? - отмахнулась она. - Спят все. Иди ложись. Тебе
постелили вон там на диване.
Утром, заглянув за стеклянную ширму, молодой врач увидел: Салман
сидит на табуретке, не спит.
"Ну характер у стервеца!"
Салман не пропустил минуты, как начало теплеть лицо на подушке,
щелочкой глянул Витькин глаз и тихо, радостно прояснился:
- Сашка... живой...
По щекам Салмана побежали слезы, и он засмеялся.
- Дайте ему валерьянки! - приказал врач.
Степановы всю ночь не спали. У Натальи Петровны начался сердечный
приступ, прибегала Мария Семеновна, делала уколы, ругательски ругала
этого мерзавца Сашку Мазитова. Пунктуально каждый, час звонил Коротун:
пока ничего нового, никаких известий.
Витин портфель Маша спрятала у себя в комнате, чтобы никому не
попадался на глаза, не расстраивал. Маша вынула из портфеля книжки,
тетради - все аккуратное, чистенькое. Ничего не нашлось в Витином
портфеле такого, что могло бы объяснить: почему он вместе с Сашкой
удрал из Чупчи.
Ночью пошел снег. Он летал над степью и словно боялся касаться
земли.
Утром у школьных ворот Машу ждал Еркин в длинном косматом тулупе.
Было еще темно.
- Если бы ты не приехала, - сказал Еркин, - я бы не пошел в
школу, я бы пошел к тебе.
Еркину казалось: из одной жизни он переместился в другую. Сам
остался тот же, но вокруг все стало другое, непривычное. И степь, куда
он после уроков брел вместе с Машей, стала другой; они шли без дороги
но черно-белой земле, как по другой, неизвестной Еркину планете.
Далеко отсюда до весны, до зеленой степи, до озер алого мака, в
которые кидаешься с седла. И Маша там никогда не бывала - в сагатской
весне.
- Знаешь, мама говорит: все дети как дети; а ты с Витей как кошка
с собакой. Я больше всех виновата: сестра, а не знала, не
догадывалась... Знаешь, ты тогда пришел, я звонок слышала, но не
подумала... На Сашку разозлилась, что меня не позвал, но он ведь не
нарочно... Знаешь, мы все время ездим, я в поезде родилась, это всегда
со мной, в характере осталось.
Она рассказывала ему обо всем.
Еркин тоже рассказывал свое, все, что само всплывало в памяти.
Никого нет, они вдвоем в степи, но Еркин все время чувствовал
чей-то настороженный взгляд. Переменившаяся сегодня степь глядела на
них во все глаза: кто вы такие? Зачем складываете вместе свою память?
В какую дальнюю дорогу снаряжаетесь?
На пути из поселка в городок стоит мазар, сложенный, как и в
старину, из саманного необожженного кирпича, но с дверцей из железного
прута, - заказ райисполкома, искусно выполненный местным кузнецом,
отцом Кольки Кудайбергенова. Здесь похоронен член Союза писателей акын
Садык, Нурланов дед.
- Я внутрь уже заглядывала, - сказала Маша. - А войти можно? Не
запрещается?
- Можно.
Железная дверца, крашенная голубой краской, скрипнула сварливо.
Они вдохнули мерзлую глиняную пыль, перемешанную с сухим снегом. На
стенке низко - слишком низко! - нацарапано: "Амина".
Разве Еркин не знал, кого частенько прячут разбросанные в степи
полуразваленные и новые мазары? Знал. Он отвел глаза от имени,
нацарапанного слишком близко к земле.
Амина... Этим летом на джайляу он ее возненавидел. Идет, бедрами
качает - мужчины, отцы взрослых сыновей, поворачивают бороды ей вслед.
Кенжегали ее встретил - городской человек, ученый! - и тоже закосил
глазами. Наверное, и раньше такое происходило при Еркине, но он умел
понимающе отворачиваться. Натыкался, ночью в траве на парня с девушкой
и молча уматывал куда подальше, держал язык на привязи: что он,
маленький, что ли? Все живое живет законами жизни. Но нынешним летом
возмущался: проходит Амина, и отцы взрослых сыновей теряют
достоинство. Чего уж спрашивать с Исабека. Когда видит Амину, кровью
наливается лицо. А она тут с солдатом...
- Ты о чем задумался? - спросила Маша. - В мазаре еще холоднее,
чем на ветру. Пошли!
У Степановых спрашивают Машу: что же ты не пригласишь в гости
сына Мусеке? Фарида ходит, Коля и Нурлан ходят, а сын Мусеке нет.
Еркин не ходит в гости к Степановым потому, что каждый вечер
бродит по степи около городка и ждет: вот Маша зажгла-погасила зеленую
лампу у себя на столе с тетрадками - значит, она сейчас выбежит к
нему.
Еркин и Маша впервые поняли: четырнадцать лет - очень много. Они
прожили по четырнадцать лет, не зная ничего друг о друге. Если
сложить: получается расстояние в двадцать восемь лет. Половину пройти
степью, путем, знакомым Еркину. Половину поездить-полетать от Чукотки
до Волги - путем, знакомым Маше.
В степи он знал все. А Маша спросила: "Нурлан тоже пас овец?" Он
сказал: "Нет, у них теперь валухи". Маша подумала: он говорит про
какую-то особую породу. Краснея, Еркин стал объяснять, для какой
хозяйственной пользы баранчиков делают валухами.
Когда Маша не понимала самых простых вещей, ему казалось: он
возвращается на уже пройденный путь, и она опять от него далеко.
На школьные вечера Маша приезжает в военном автобусе, лейтенант
Рябов подает ей руку, помогает сойти по ступенькам. Лейтенанту
двадцать пять лет. Еркину иногда кажется: между Рябовым и Машей
разница в годах меньше, всего одиннадцать лет, а со мной - целых
двадцать восемь.
У Степановых все по-старому, никаких перемен. Только появился в
доме тревожный сквознячок. Его не слышно, не видно - однако придешь с
улицы, и непонятно каким путем догадаешься: только что он, сквознячок,
тут прогулялся.
Раньше люди в приметы верили: воет в печной трубе - к переезду.
Печных труб теперь нет. Можно ли верить в ночные всхлипы батарей
парового отопления?
Еще нет никакого приказа. Даже приказа подготовить приказ. Может
быть, всего лишь где-то и кто-то сказал: "А что, если поедет полковник
Степанов?" Еще неизвестно: как, с какой интонацией прозвучала фамилия
"Степанов". Сказал, что ли, кто: у Степанова были какие-то осложнения
с сыном, помните, вертолет посылали на поиски? Сказал, что ли, кто: у
Степанова дочь кончает восьмой, конечно, он рад будет, чтобы она
последние два года доучилась в большом городе. И вообще Чупчи не такое
место, с которым трудно расставаться.
Такой вот поселился в доме тревожный сквознячок.
Когда отца переводят на новое место службы, они не едут сразу с
ним. Иногда они ждут вызова полгода. По разным причинам. Чаще всего
потому, что кто-то там, на новом месте, еще не выехал и выехать не
может: из-за того, что еще кто-то и где-то не освободил жилье.
Спрашивать не полагается - военная тайна.
В дом ведет дверь, обитая драной кошмой. Ни крыльца, ни сеней, ни
коридорчика. Прямо с улицы входят в комнату. Маша захлопнула за собой
дверь, и что-то несправедливое и никогда прежде не известное ударило
ее больно и обидно: неправда, не могут в наше время люди так несчастно
жить!
Печка приготовилась развалиться по кирпичику. На печке
скособоченный чайник с проволочной ручкой и сковорода с чем-то
засохшим. Кровать продавленная, на ней полураздетые ребятишки. Маша
услыхала, как на улице заработали лопаты, зашаркали по днищу
грузовика, зашуршало что-то под стенкой дома. Солдаты сгружали уголь,
выхлопотанный женсоветом городка.
Мазитиха встала перед Марией Семеновной - руки в бока, кофта не
сходится на животе.
Мария Семеновна без стеснения разглядывает мазитовское
бесприютное жилье. Узел с вещами, собранными женсоветом, кладет на
стол.
Хорошо, что Сашка не видит: он гордый.
Маша не знала: сообразительный Салман с утра почуял угрозу, и в
ту минуту, когда Мария Семеновна усаживалась в "газик", направился
ближней дорогой в укромное место, в котельную сагатской бани. Там он
теперь и сидел в тепле, думал две важные думы.
Первую: как Вите дальше быть, если после побега с Мазитовым над
ним посмеивается вся школа. Над Мазитовым никто не смеется: чего с
Мазитова взять? Над Витей Степановым и в пятом "Б", и в других классах
рады позубоскалить: ему-то, пятерочнику, зачем было бегать? Витя
краснеет, смущается. Хотя ни в чем не виноват. Ржавый Гвоздь плохие
дела делал, Ржавый Гвоздь предатель, а ходит - не смущается. Даже хуже
на себя наговаривает, чем было по правде: такой испорченный, такой
пропащий, даже жизнь не мила. Чем хуже на себя наговаривает - тем
больше к нему внимания: ах, бедный Нурлан! Даже Гавриловна с ним
обращается, будто Акатов вот-вот у нее на глазах разлетится вдребезги
от своих несчастий. А Вите строго сказала: "Поменьше, Степанов,
хвастайся своими похождениями". Витя ответил: "Не было похождений.
Сели в вагон - и все". Такой уж человек Витя. Теперь Салману надо за
него думать: как быть?
А вторая забота о самом себе: как дальше жить?
Салман знал: Витин отец ездил к Голове, уговорил не исключать
Мазитова из школы. Витин отец объяснил Салману: сын вора может найти
честную дорогу. Но от честной дороги не шло пока никакого заработка, а
жрать надо: и Салману, и младшим, и матери. Салман как мог
подрабатывал. Солдат записку дал для Амины, пачку сигарет - Салман
курево раньше брал, теперь обратно сунул: гони пятьдесят копеек. Пошел
в магазин, купил хлеба и сахарного песку.
Салман знал: попрятанные деньги не все разысканы милицейскими, но
мать не пустит их в расход, не истратит на еду. Ни деньги уцелевшие,
ни золотишко зарытое - Салман подглядел - со двора под степной хибары.
Не тронет мать этого до самого возвращения отца из тюрьмы. А других
бумажек, на какие можно купить хлеба, сахара, бараньего сала, муки,
костей мясных, в доме сейчас не водилось.
Мазитиха знала: Салман догадливый. Только парнишка за собою дверь
- бух! - она схватилась прибирать. Что было в доме целое, неизношенное
- побросала в сундук.
Однако из военного городка прикатила хитрющая баба в зловредном
возрасте: много чего в жизни повидавшая, ей глаза ни на каком базаре
не задурят, ее не обвесят, не обсчитают - она всему свою цену назовет
и не отступится, где хочешь наведет свой порядок. Даже растерялась
Мазитиха, когда хитрая баба к ней в дом вошла: такую голыми руками не
возьмешь, сообразить еще надо, что к чему. И опять же девчонка
полковничья здесь зачем?
Так они и стояли друг против друга: Мазитиха и Мария Семеновна.
Маша никак не решалась шагнуть от порога.
Мария Семеновна завершила осмотр запущенного жилья.
- Грязно живете, голубушка!
- Вам-то что за дело?
- Приехала - значит есть дело! - Мария Семеновна каждое слово
веско припечатывала.
Мазитиха смолчала, свела губы в жесткий узелок. Мария Семеновна
скинула военную меховую куртку и огляделась: куда повесить?
- Ну-ка! Подержи! - Мария Семеновна наконец сыскала чистую и
надежную вешалку - Машины руки. Маша ухватилась за куртку, как за
спасательный круг.
Постыдную гадливость в Маше вызывали детишки, сидевшие в тряпье
непонятного цвета. С бритой синей головенкой - Сашкин братишка. С
тряпичками в кое-как разобранных косицах - сестренки. Что-то девчонки
понимают о себе - косички заплели. Но даже когда стоишь у самой двери,
чувствуешь: от детишек пахнет нехорошо. Нет, не хватит у Маши сил
подойти к Сашкиным младшим, погладить по головам, слово ласковое
сказать.
Мария Семеновна развязывает на столе узел. Мазитиха всем видом
показывает: мне на это плевать. Однако в глазах жадность: много ли
принесено и какая всему цена?
Узел развалился по столу: рубашонки, штанишки, чулки, ботинки,
шапчонки. Все не новое, ношеное, но выстирано, выглажено - не стыдно
дарить.
Мария Семеновна все добро раскладывает и перетряхивает. Вынула
вафельное полотенце - кинула через плечо. Мыла пачку нашарила -
распечатала. Баночку с какой-то мазью открыла. К печке подошла,
качнула чайник: есть ли вода? Пошла с чайником к рукомойнику у порога,
налила туда теплой воды.
Маша слышит: на улице кончили сбрасывать с машины уголь,
бибикнули и укатили, громыхнув на колдобине так, что весь дом
затрясся. Ребятишки перепугались и заревели.
- Гулиньки, гулиньки... - Мария Семеновна зыбким шагом подплыла к
ребятишкам. - Кто хочет умыться теплой водичкой?
Вытащила из троицы самую младшую, самую замурзанную и понесла к
умывальнику.
Толстые наманикюренные пальцы с неожиданной ловкостью и нежностью
принялись полоскать ручонки затихшей от удивления девочки. Забитый нос
вычистили-высморкали, личико сполоснули, вытерли полотенцем до розовой
чистоты. С веселой сноровкой Мария Семеновна перекинула девочку с руки
на руку и плеснула из рукомойника на верткий задок.
- А теперь мы старое платьице снимем. Фу, какое платьице! Мы его
на пол, на пол. А новое наденем, наденем. Эту ручку сюда. Эту сюда.
Ах, какие мы красивые! А тут у нас что? Тут у нас бобо... Мы губки
смажем, чтобы не болели. И на ушке бобо смажем.
Маше казалось: огромная толстая девочка возится с куклой. Есть
такие куклы-голыши, их для того и дарят, чтобы сколько душе угодно
мыть и переодевать. Сашкина сестренка и впрямь словно кукла двигала
послушно ручонками и ножонками. Девочка сомлела в добрых женских
руках, стосковавшихся по самой дорогой женской заботе. Двое других
малышей следили зверовато, но в их настороженном любопытстве уже
проглядывало смелое нетерпение.
Дошел черед и до них. Растерянная Мазитиха сходила за водой,
подтопила печку. Маша только поворачивалась, давая дорогу то Мазитихе,
то Марии Семеновне с дитенком на руках.
Мария Семеновна скомандовала, двигая ногой по полу кучу всего
снятого с малышей:
- Маша, выкинь подальше эти ремки!
И глянула выразительно: по-даль-ше! Опасалась: как бы после
Мазитиха не запрятала в сундуки все дареное и не вырядила снова свою
малышню в рванье.
Маша первый раз услышала слово ремки. Деревенское слово. Ремки -
значит рванье. Ремки валялись на полу, нагнись и подними. Куртка в
левой руке, ремкн в правой - она плечом толкнула дверь и вспомнила:
дверь открывается внутрь, на себя.
К ней подскочил мальчишка с синей бритой головенкой - Сашкин
братишка, на Сашку похожий. Обеими руками-палочками цапнул за ручку
двери, пузо выкатил, ногой в косяк, поднатужился - дверь отворилась.
Маша задохнулась от морозного воздуха - дневного, яркого,
резкого. До чего хорошо на белом свете! Небо ясное, лишь по закраинам
остатки облаков. Степь просторная, ничем не заслоненная, ветер гонится
по ней сильный и чистый, продувает насквозь.
Маша подставила ветру ремки, быстро пошла от мазитовского дома
через выбитый, загаженный двор.
Не хотелось ей возвращаться обратно. Да кто-то в спину толкает:
надо, иди, если не пойдешь, не схватишься за все своими руками, то
зачем там была, зачем бездельно глядела на беду?
Перед домом в проулке "газик" ждет, пофыркивает. Она быстро
подошла к "газику", положила кожан Коротуна на переднее сиденье,
пальто свое туда же и, не думая ни о чем, даже дыхание придержала,
толкнулась в низкую дверь.
Мария Семеновна домывала мальчишечку.
- А я уж беспокоюсь, куда девка сбежала! Принимай готовенького.
Нет, прежде ихнюю постель разбери.
Маша разобрала сырую постель, вынесла на улицу, постелила чистое.
Помыла чашки, протерла тряпкой стол, вынесла из-под рукомойника ушат с
водой, налила горячей, из ведра на плите, и начала мыть пол. Раз пять
воду меняла. Пальцы разбухли, ладони саднит от грубой тряпки. Зато
куда-то девалась постыдная брезгливость, горячо и весело стало.
Запущенный Сашкин дом отмывался, рождался заново.
Сели в "газик", поехали. Мария Семеновна тяжело повернулась на
сиденье:
- Я в твои годы в госпитале раненым горшки подавала. Другой
работы мне по возрасту не полагалось. А подросла - взяли в санитарный
поезд. Под бомбежками побывала. Вот когда страшно-то было! И не
убежишь - полон вагон лежачих. Я своего Коротуна, если хочешь знать,
встретила не на танцах в офицерском собрании, я его своими руками... -
она повертела перед Машей растопыренными пальчиками-сосисками, -
своими руками в свой вагон на носилках втаскивала. Боялась - не
довезем. В живот его ранило осколком. Можно сказать, чудом в живых
остался.
Она уселась прямей, и Маша теперь не видела ее лица.
- Иной раз живет человек и счастья своего не видит. Возьми хоть
женщину эту. Говорят, у нее дети пополам с богом. Который выживет,
который помрет. А детишки-то какие славные - ласковые, глазастенькие.
Показалось Маше или на самом деле Мария Семеновна всхлипывает?
Тихий вечер, а Салмана знобит. Худо дело.
Салман поглядывал на разметенное дочиста небо, на зимние слабые
звезды, на тонкий месяц, повалившийся кверху рогами: не к добру.
Подходя к своему дому, он увидел в оконце цветастый, сквозь
тряпицу, свет. Толкнулся в дверь и сразу понял, зачем свет, почему на
оконце материна кофта. За столом сидел и жадно жрал чужой человек.
Недавно заявился - на полу под сапогами черная лужа. Вот, значит,
отчего месяц кверху рогами валяется и озноб отчего: гость пришел не
случаем, не от кого-нибудь - пришел от старого черта, от Салманова
отца!
Салман у порога стянул с ног сапоги, скинул пальто, боком
протерся по беленой стене к кровати, влез к младшим под одеяло. Тут
подкопилось тепло: нагрела мелюзга.
Не шевелясь, будто сразу уснувший крепким детским сном, он чуть
приподнял край одеяла и следил: чужой жует, кадык ходит, ворочаются
челюсти. Такому что барана прирезать, что человека. Оттуда заявился,
где теперь отец. И адрес родного дома с детишками сам отец ему дал. Не
задаром, видно. Салман отца знает. И можно догадаться, зачем
понадобился чужому чупчинский адрес. Отсидеться надо, спрятаться - вот
зачем!
Ночной гость покончил с едой, хмурый сидел за столом, оглядывал
доставшееся прибежище. Он не взял бы сагатского адресочка, да случай
выпал редкий здесь уйти из вагона. Отсидеться надо, пока идет ближний
розыск, а там будет видно.
Ночной гость дергался все время, оборачивался.
Салман вылез из-под одеяла, протопал к ведру с водой, черпнул
сушеной тыквиной, напился. Все сделал медленно, с расчетом.
- А ну, кыш! - приказал чужой. - Спать!
Салман оскалился:
- Не хочу.
- Я два раза повторять не привык!
- Ложись, сынок! - допросила мать из своего угла жалко и
трусливо.
- Сейчас лягу. Он уйдет - лягу...
- Тетка, уйми своего щенка!
Мать захныкала:
- Салман, гость пришел от отца.
- Не надо нам ничего от отца. - Салман не сводил глаз с чужого.
Струйки пота потекли по его спине.
У человека бывает три пота: пот от слабости, пот от боли, пот от
работы. Салман не чувствовал себя слабым и больным. То, чего он сейчас
хотел, чего добивался, много сил требовало, как гору угля перекидать.
Он в мыслях кидал, кидал, кидал...
- А если не уйду! - спросил отцовский посланный. - В милицию
донесешь?
- Боишься?
Чужой встал, сунул руку в карман. Салман увидел острый рог
месяца. Весь от пота мокрый, кидал и кидал он уголь, делал самую
тяжелую работу, какая есть на земле: спасал дом, малышей, мать. Чужой
дернул кадыком, всадил нож в буханку на столе, отвалил половину, сунул
за пазуху. С порога погрозил:
- Вернусь скоро. Погуляю на свежем воздухе.
Дверь бухнула, мать захныкала в подушку. Салман пошел погасить
свет. Выключатель чернел у двери справа. Салман щелкнул и в темной
тишине прислушался: чужой стоит в тамбуре, пристроенном солдатами, не
ушел, дышит, скребет ногами. Не отрывая уха от мерзлых, чутких на все
звуки досок, Салман толкал задвижку в гнездо. Затолкал до отказа.
Босые ноги застыли, Салман влез в сапоги. Стоит чужой за дверью?
Стоит. Нет, пошел. Хрустнула щепка, отлетел камень.
"Куда же он теперь? - Салман чуть не завыл с досады. - Дурак!
Упустил бандита без присмотра ходить по Чупчи!"
Салман - задвижку долой! - сгреб пальто, шапку и выскочил на
улицу. Спина чужого покачивалась за низким дувалом.
Чужой не то чтобы сильно испугался мазитовского сопляка. Он знал:
не мешает побродить, часок по Чупчи, приглядеться, что тут у них есть,
чего нету, и вернуться, когда сопляк будет дрыхнуть. Но не очень-то
ему хотелось возвращаться. Надул старик. Не такое уж верное место его
развалюха, да и поселок головат. И нет пользы, что при железной
дороге. По всем станциям добрые дяди только и ждут, когда появится
человек с протелеграфированными приметами. Глядят за пассажирскими,
глядят за товарными. Задача нехитрая, не магистраль крупная - рельсы
всего в одну колею. Зато других дорожек тут в степи понакатано - дай
боже! На авто за ночь полтыщи сделаешь, в другую республику заскочишь
- есть шанс. Дело только за машиной - где ее взять? Хорошо бы
тепленькую перехватить, с ключиком - шофера на дороге не кидать, в
кузов его - и поехал, пока там хватятся. Да, тепленькая нужна. От дома
не взять без шума...
Чужой откачнулся от дувала, пошел. Салман за ним. На улицах ни
души. Но Салман-то знал, а чужой нет: на эту ночь Гавриловна назначила
в Чупчи встречу Нового года.
У кого власть, тот и командует календарем. В Чупчинской школе
календарем владела Серафима Гавриловна, и она своей властью назначила
встречать Новый год не в ночь с тридцать первого декабря на первое
января, а двадцать девятого, часиков в десять, не позже.
У дверей школы Колька Кудайбергенов отражал все попытки
недоростков-семиклассников прошмыгнуть в зал. Колька - человек
исключительно надежный: его не обманут, не припугнут. Нурлан
прикалывал входящим бумажные номерки.
Накануне молодая учительница английского языка пыталась
втолковать Серафиме Гавриловне: уже давно нигде на школьных вечерах не
играют в воздушную почту, это провинциально и старомодно - пошло,
наконец! Но Серафиму Гавриловну не переубедишь.
- Разумеется, нам с вами некому и не о чем писать. Ну, о чем бы я
стала вам записки строчить? Чтобы вы сдали вовремя поурочные планы? А
вы бы в ответ просили еще недельку? Кстати, план я все-таки жду от вас
после бала, то есть завтра. А ребятам не мешайте играть. Поймите, в их
годы очень интересно переписываться, Да еще солдаты на вечер придут.
Пусть пишут! Главное, чтобы все у нас на глазах!
Англичанка не разрешила нахальному Акатову приколоть к ее платью
бумажный номерок. Однако едва она вошла в зал, к ней подлетела Фарида
в синей картонной фуражке, с синей картонной сумкой на боку:
- Вам письмо!
Учительница развернула пакетик, сложенный по-аптечному: "Вы
сегодня очень интересны".
В другом углу зала Фарида совала аптечный пакетик лейтенанту:
"Почему вы не танцуете?
Из своего угла Серафима Гавриловна мысленно одобрила действия
Фариды. Кроме лейтенанта, не найти в Чупчи подходящего жениха для
молодой англичанки.
Воздушная почта попала в верные руки. Фарида запаслась из дому
записками на все случаи жизни, несколько вечеров сочиняла: "Вы сегодня
очень интересны", "Почему вы не танцуете?", "О ком вы грустите?",
"Кто-то здесь следит за вами" и еще разное, позагадочней.
Домашний запас у Фариды скоро иссяк, однако сумка не пустует,
полна записок: в каждом деле главное - энергично начать, а там пойдет.
Раздвинулся занавес, на сцене Сауле в синем платье с белым
кружевным воротничком.
- Выступает ученик восьмого класса "Б" Акатов Нурлан!
Жидкие хлопки, ехидный смешок...
Нурлан заносчиво откинул рыжую голову:
- Я спою вам песню собственного сочинения. Посвящается моему
лучшему другу Николаю Кудайбергенову.
Колька покраснел до ушей, заерзал: не предупредил его ни о чем
чертов Ржавый Гвоздь.
- Песня о двух красных бойцах! - Нурлан ударил горстью по
струнам, бросил в зал домбровую россыпь, домбровый скач по степи,
перебор копыт.
Рядом мчатся два бойца, русский и казах, ведут разговор. Шинелями
бы сменяться, да рост разный. Сапогами бы, да одному малы станут,
другому велики. Чем поменяться? Именами нельзя - матери дали. Копыта
звенят по родной земле... Фамилиями поменяемся? Тебе мою, мне твою,
одна другой не хуже. Судьбой поменяемся? Тебе мою, мне твою, обе равны
и пока неизвестны. Но час пришел, и убит один, скачет дальше другой.
Кто скачет? Ты знаешь? Я не знаю, не разглядел лица. Скачет красный
боец по степи, по родной земле. Смолкает вдали перебор копыт.
Нурлан опустил гитару, рыжие лохмы уронил на глаза: все!
Грохнули аплодисментами солдатские ряды. Володя Муромцев с места
подмигнул: молодец, старик! Лейтенант наклонился к директору: что
скажете? Талантливый мальчишка! Голова всеми морщинами изобразил:
ошибка природы - вложила талант столь непредусмотрительно, ненадежно.
Зануды-майора в зале нет. Не слышал Коротун, какую душевную песню
сложил его бывший "кунак" Нурлан Акатов. Обидно, что не слышал -
единственный в мире человек, который Акатова всерьез осудил, с
Акатовым в разведку не пойдет. Для остальных, что ни случись с
Акатовым, - пустяк. А майор понял бы, слезу уронил...
Кто бы подумал: Нурлан Акатов, Ржавый Гвоздь вдруг затоскует -
Коротуна нет в школьном зале! Об этом не догадывается даже Фарида. Она
сидит в зале рядом с Машей и сторожит минуту, чтобы поменяться местом
с Еркином, сидящим позади.
- Еркин, пересядь! Что тебе, трудно?
Еркину не по душе, что Маша дружит с Фаридой, но спорить не стал,
пересел.
Нурлан со сцены поглядел на него, ухмыльнулся.
Из-за кулис к певцу идет Сауле в синем платье с кружевным
воротничком - сейчас объявит следующий номер. Но Нурлан ее не
дождался, сам объявил:
- Старинный русский романс, музыка Булахова! - Фамилию выговорил
как казахскую: не через "у", через перепоясанное арканом "о".
Сауле осталась рядом с певцом. А он запел будто не залу, а ей
одной: Сауле, в старинном кружеве, стала прекрасной и гордой, как
никогда, похожей на девушку в бальном платье, над которой склонялся
прапрадед Саулешкин в черном фраке или в офицерском мундире.
Эх, жаль, нет в зале лысого майора!
Чужой до сих пор не чуял Салмана за собой: ходил - не
оглядывался. Так вдвоем на одной нитке они прошивали улицы и пустыри
поселка. То дверь отворится, бросит полосу света. То послышатся шаги в
потемках по ухабистой сагатской улице. То радио откуда-то вырвется и
грянет... Салман и чужой шли сквозь вечернюю, хотя и стихающую, но все
же полную забот жизнь поселка и ни разу ни с кем не столкнулись, не
попались ни на чьи глаза. Даже вырывающиеся вдруг полосы света как бы
обегали их обоих.
Салман тащился за неясной тенью, а в памяти всплывало: жуют
крепкие челюсти, ходит острый кадык. Салман себе самому орал неслышно:
"Теперь, Сашка, не упусти! Не упусти! Не прозевай! Недолго теперь
осталось..."
Чужой забирал от поселка в степь, скрадывался. Двое близко прошли
- не заметили. Амина со своим солдатом гуляет - друг на дружку не
наглядятся. "Привет Исабеку!" - скривился Салман: не забыл, как
схлопотал от него по шее за то, что носил Амине записки от Левки.
В прогремевшем мимо грузовике Салман разглядел за рулем дядю Пашу
из Тельмана. С ним в кабине женщина укутанная. Из кузова, из фанерной
будки, кто-то стучит-кричит: тише! Не гони! Такое, значит,
беспокойство. Теперь попятно, почему дядя Паша всегда подвозит, а
сейчас не остановился. В больницу везет укутанную тетку - больше
некуда поспешать в такую ночь.
Чужой все время шел осторожно, обходил свет и голоса, а тут вдруг
рванул навстречу машине, однако в последний момент что-то
засомневался. Оробел, передумал?.. Да уж! Сробеет такой, дожидайся!
Видно, услыхал стук из фанерной будки: кто знает, сколько там людей?
Машина дяди Паши направлялась к больнице. Чужой двинул туда же,
наперерез, степью. Салман за ним.
У больничной проходной на кругу стоит грузовик дяди Паши, мотор
постукивает - не выключен. Чужой на свет не сунулся - остановился за
углом. Ударила дверь проходной, вышел кто-то. Салман ближе подобрался,
узнал Ажанбергена, тельмановского чабана.
- Не пустили! - Ажанберген закинул в будку мягкий узел.
Паша вылез аз кабины:
- Ну и чего? Скоро?
- Ты бы сам с ней поговорил!
- С кем? С Катей?
- С акушеркой. Она Катю при мне выспросила: как мать зовут? Как
бабку? Обнадежила: у Кати в семье, оказывается, все женщины легко
рожали. На Катю при мне напустилась: "Терпеть будешь или орать?"
Русские бабы орут. Казашки молчат, им так привычней. Спрашивает
Катьку: "Ты кто? Екатерина или Хадича?" Такой вот грубый разговор. А
меня - за дверь.
- Ну и что будем делать?
- Посижу подожду. Может, скоро?
Салман видит: Ажанберген достал сигареты, предложил Паше,
закурили оба.
- Рассказывают, - продолжал Ажанберген, - будто в старину муж
вокруг юрты обязан был ходить, когда жена рожала.
- Давай покатаю вокруг больницы! - засмеялся Паша.
- Ладно уж. Езжай спать. Ты где ночуешь?
- У Садвакасова. Правда, неловко ехать, пока хозяина нет. В школе
у них вечер, значит, и Еркин в школе. - Паша вылез из кабины, обошел
грузовик, попинал колеса сапогом. - Давай прокатимся в школу,
поглядим, что там у них.
- Нет, я уж здесь свое отдежурю.
- А я, пожалуй, скатаю в школу. Погляжу, как веселится молодое
поколение. Ребят знакомых встречу, потреплемся. Я, конечно, по
солдатской лямке не печалюсь, но техника в армии - высший класс, это
тебе не колхоз Тельмана. Мне бы прокладочкой у ребят разжиться.
Паша полез в кабину, дал газ.
- Счастливо оставаться. Хадича родит - от меня поздравь.
Салман откуда-то знал: чужой пойдет за машиной, значит, к школе.
Вот как нацелился смыться из Чупчи: на машине! Но кто же его добром
повезет - чужого, в ночь? Выходит, он не добром машину возьмет. Ну и
гад...
За школой, в затишке, вспыхнула спичка, пошли по рукам сигареты.
Но не для того собрались старшеклассники, чтобы подымить без опаски -
ожидалось важное дело.
Какое дело, Еркин догадывался: за школу его позвал с собой
Исабек. Парень горяч, но медлителен - долго распаляется. С малых лет
при отцовском табуне объезжает самых строптивых лошадей. Возвращается
к табуну на присмиревшем, в белых хлопьях скакуне, пыжится от
гордости. Спроси Исабека: что вчера видел в кино? Уже забыл - не
вспомнит. Спроси: как кобылица первый раз выводит в табун своего
жеребенка? Исабек покажет: вот кобылица идет гордо, сторожко, идет как
воплощение нежности, а вот жеребенок поспешает неловко. Исабек
приглядчив и чуток ко всему живому.
В Чупчи он считается чемпионом по казахской национальной борьбе
казахша-курес. Исабека не оторвать от земли, не свалить. По всему
сложенью - потомок кочевников, наездников. Туловище длинное, а ноги
короткие, колесом, Сидит на коне - картина. Пеший низкозад, но тем
упористей стоит на земле. И рукастый: далеко достает, хватает крепко.
Не раз видел Еркин: Исабек легко кидал соперников. Летом кидал на
мягкую траву, зимой - на грязные маты спортивного зала. Еркин учился у
родича всем хитростям казахша-курес, но самолюбивый Исабек ни разу не
поддался младшему - всегда прижимал его к земле. Исабеку нет выше
радости, как показать свою силищу. Сила есть - ума не надо! Но в
борьбе бывает минута - нет, доля минуты! - когда видишь, какое сердце
у человека. Бросил противника, а дальше что? Придержал противника в
позоре, поверженным, продлил свое торжество - чье-то унижение или
сразу же победитель закончил схватку, отпустил лежачего: не враги мы,
силами померились - и точка.
Еркин знает: Исабек ни разу не затянул свое торжество, не
придержал поверженного в унижении, сразу же отпускал. Отойдет,
расплывется глуповато: сам удивляюсь своей силе!
Чупчинский первый силач топтался за школой в кругу
одноклассников, чабанских сыновей из казахского десятого "А".
- Солдат-то не идет. Струсил, - хорохорился Кабиш, самый малый
ростом, самый хилый и потому самый охочий до чужих драк. Кабиш
вертелся на углу, посматривал на школьное крыльцо. Наконец
затрепыхался: - Идут, идут! Один идет! Ну, Исабек! Сейчас ты ему
врежешь! - Кабиш вытянул шею, вглядываясь в темноту, и разочарованно
протянул: - Не Левка! Другой идет. Струсил долгоносый!
В солдате, пришедшем к десятиклассникам за школу, Еркин узнал
белобрысого самоуверенного москвича, старшего по команде, приехавшей
на вечер.
Зачем пришел? К москвичу ни у кого счетов нет, хотя он и ходит к
Саулешке. Левку звали, Исабек звал, отправлял письменное приглашение с
быстрой Фаридой по летучей почте.
Муромцев оглядел собравшихся, насколько позволяла зимняя серая
темнота:
- Рад всех приветствовать. И вынужден тут же огорчить. Кто-то
пригласил для серьезного разговора моего товарища Левона. К сожалению,
он не может прийти...
Несколько дней назад, вызванный Рябовым, Володя в обычной своей
дипломатической манере доложил обо всем, что полагал необходимым
лейтенанту знать, а все, что, на взгляд Муромцева, деликатному
лейтенанту лучше не знать, дипломат оставил при себе.
- Ребята кипят! - свободно излагал Муромцев, усевшись напротив
Рябова. - Общее мнение такое: Левкина мать - женщина старая, ей
положено иметь соответствующие пережитки. Но он сам обязан, конечно,
мыслить по-современному. Ребята считают - у Кочаряна такая задача:
дождаться демобилизации, расписаться с девчонкой и ехать к матери -
пусть поглядит... - Здесь Муромцев мог продолжить: "на невестку и
внука", поскольку солдаты разбирались, как далеко зашли дела у Левки с
Аминой, но такими лишними сведениями он обременять лейтенанта не
намеревался. - Пусть поглядит на молодую семью. Не сойдутся со
стариками - уедут. У нас есть для них надежные адреса: жилье будет,
работа будет. - Здесь Муромцев мог добавить, что и бабки намечены:
приглядеть за новорожденным, пока родители на работе, но удержался. -
Одним словом, мнение у ребят сложилось единое, но Кочарян колеблется.
- Двухэтажный дом? - спросил Рябов. - Своими руками строил?
О доме ему откровенно рассказал сам Левон: столько труда вложил,
столько денег, а теперь бросать!
- Дом, - подтвердил Муромцев. - Однако я не спешил бы Левку
судить за собственнические мысли о доме. До армии он работал в бригаде
шабашников. Вы про такие бригады читали? Одни пишут: грабеж колхозной
кассы. Другие: благо для колхоза, потому что в деревне еще нет своей
строительной базы. Такая вот дискуссия в печати. А по Левкиным
рассказам - старинный промысел, народная традиция. Работают от зари до
зари, на полную катушку. Лодырь у армян-шабашников и дня не
продержится - вышвырнут. И профсоюз не заступится. Любопытная
ситуация, не правда ли? Свои плюсы и минусы. Вам ведь нравится, что
Левка такой умелец и безотказный работяга?
Рябов подумал: "Ну трепач..."
- По Левкиным рассказам, - с удовольствием развивал свои
соображения Володя, - он за сезон тысячи греб. И все деньги вкладывал
в дом: один раз его строишь, на всю жизнь, чтоб и детям остался... Не
отсуживать же Левке свою долю у отца с матерью - этого он не сделает,
а ведь есть прохиндеи, что и судятся с родителями... Так ведь?
- Все-то вы, Муромцев, понимаете, все-то вы можете разложить по
порядку, - нехотя сказал Рябов. - И товарищи вас за это, кажется,
уважают. Но я бы на вашем месте попридержал свою рассудительность.
- Почему?
- Посмотрите у Пушкина в заметках. Пушкин считал, что тонкость
еще не показывает ума. Что глупцы и даже сумасшедшие бывают
удивительно тонки. Я это говорю не в обиду вам...
- Понимаю! И хотел бы почаще слышать такие замечания. Мне это
необходимо. Я ради этого в армию пришел. Скажите, считаете ли вы меня
самодовольным пижоном?
- Нет, - ответил Рябов. - Самодовольным - нет. Вы скорее человек
практический, здраво оцениваете свои возможности. Но... Сказали бы
иногда словечко в простоте!
- В простоте так в простоте! - охотно согласился Муромцев. - Дело
в том, что уже не Левка артачится, а она. Левка ей записку посылал.
Мальчишка тут есть для таких поручений - Сашкой зовут. Услужливый,
если не задаром. Он с Левкиным посланием обратно притопал - не
приняла. Обиделась, что ли... Кому-то из ребят все же придется
вмешаться, я так думаю. - Он встал. - Можно идти?
- Еще один вопрос. Синяк Кочаряну под глазом кто поставил?
- Никаких стычек с представителями местного населения не было, -
успокоил Муромцев начальство. - Синяк получен на территории части.
После дипломатических переговоров с лейтенантом Муромцев решил:
позиция его в общем была правильной. Синяком дело не кончится, ребята
непременно припрут Левку к стенке: женись, и точка. Требование
несколько примитивное, но в чем-то совпадающее с убеждениями
Муромцева: допуская в иных прочих случаях какие-то отклонения от
истины и нравственных правил, человек в отношениях с женщиной всегда
обязан оставаться порядочным. И дело тут вовсе не в совести. Есть
инстинкт самосохранения личности.
Надо все это Левке попроще растолковать, вколотить в его башку.
Родная мать, хотя она сейчас и шлет ему свои восточные проклятья, сама
же первая не простит сыну, если он смалодушничает, уронит мужскую
честь. Такой довод на Левку подействует сильнее кулаков. И начальство
будет довольно, если история с Левкой и его девчонкой не перерастет в
ЧП, подрывающее дружбу воинской части с местным населением.
Возвращаясь от лейтенанта, Муромцев думал: что можно извлечь для
себя полезного на будущее из такого забавного эпизода солдатской
службы? Можно извлечь важное правило: если все время демонстрировать
свой ум и проницательность - станешь неинтересным.
Окрик Коротуна вернул Володю на обсаженную кирпичиками дорожку
военного городка.
- Почему не приветствуете? Уставчик подучить, подучить! -
отечески рекомендует краснолицый майор.
Внутри Коротун весь кипит от Володиной манеры глядеть на старшего
по званию свысока. По какому такому праву свысока? Да что у него есть,
у щенка? Только рост. Современная молодежь! Образованные, с
десятилеткой! Амбиции хоть отбавляй, а простых вещей усвоить не могут.
Прежние, с четырьмя классами, за месяц овладевали. С этими год бейся -
службу не понимают.
Эту сцену наблюдал из окна полковник Степанов, и ему она
чрезвычайно не нравилась.
- Ваше мнение о Муромцеве? - спросил он лейтенанта Рябова.
- Умен, быстр, деловит... - перечисляет Рябов.
- Вы не назвали очень важные качества: честность, отвага.
- Трусости он себе не позволит никогда.
- Какие-то новые обороты речи. Что значит: он себе не позволит?
- Честолюбие.
Рябов смотрит в окно. На плацу Коротун продолжает воспитывать
Муромцева. У будущего дипломата на лице ретивая готовность: немедленно
пойду, сяду зубрить устав.
- Несмотря на все вопли о грехах цивилизации, я верю, что
образование делает человека лучше, то есть образует и его нравственный
мир...
- Допустим. А как вы считаете, этот - по вашему наблюдению,
деловитый честолюбец - вас, своего командира, уважает?
- Трудный вопрос, - замялся Рябов. - Современному солдату мало
почтения внушают должность и чин. Ему еще надо доказать, что ты знаешь
и умеешь больше, чем он. Что ты в военном деле настоящий специалист.
Муромцев признает мой авторитет военного специалиста. Признает
необходимость беспрекословного выполнения приказа. К военной службе
относится сознательно, ищет в ней пользы для своего развития.
- Допустим. А случись настоящие боевые действия?
- Я думаю, война всех заставляет поворачиваться неожиданной
стороной. Я, конечно, на войне не был. Помню, мальчишкой хотел понять:
какая она, война. Смотрел на фронтовиков. Но ничего не понял.
Кончилась для человека война, и он опять переменился, стал другим...
- Очень хорошо, что вы сами об этом заговорили, - сказал
Степанов. - Мы с вами на войне не были, а вот майор Коротун был.
Идя за Левку на драчливый вызов Исабека, Володя Муромцев в
точности знал: рискует, но не слишком.
- К сожалению, Кочарян не сможет прийти, - Володя подмешивал в
вежливость гомеопатическую дозу пренебрежения. - У него есть более
важное дело, чем то, для которого кто-то из вас, аксакалы, пригласил
его сюда. Левон пошел провожать одну девушку из вашей школы.
Володе нравилась собственная речь и то, как он ловко переиначил
на местный лад принятое в Москве среди юнцов обращение "старик",
"старики".
Исабек тяжело переминался с ноги на ногу:
- Слушай, ты! Зачем пришел?
Володя снисходительно усмехнулся:
- Я, видите ли, пришел засвидетельствовать, что мой друг не
струсил. Можно сказать, он рвался посчитаться с кем-то из вас,
аксакалы, но я, как старший, ему отсоветовал. Понятно? - Он задрал
рукав, поглядел на светящиеся часы.
- Обманули они тебя! - бросил Исабеку раздосадованный Кабиш.
Еркин подумал: когда чужой входит в аул, ему надо остерегаться не
матерых псов, а самой никчемной собачонки. Пока она не зальется -
свора не вскочит.
- Не-е, ты погоди-и-и... - медленно тянул Исабек. - Не пойму я,
ты-то зачем пришел?
Володя еще раз демонстративно взглянул на светящийся циферблат.
- Если у кого-то здесь чешутся кулаки, могу предложить свои
услуги. Так сказать, заменить в программе вечера моего товарища
Левона.
Кабиш подскочил к Исабеку.
- Да всыпь ты ему! Он над нами издевается! - Кабиш говорил
по-казахски, но смысл сказанного был любому ясен по азартной
жестикуляции.
Еркин сказал по-русски, не одному Исабеку, но и пижону
московскому:
- Не валяйте дурака! Пошли!
- Нет, ты погоди... - мучился тугодум.
- Аксакал, у меня десять минут! - бросил москвич.
- Нет, ты погоди... Не пойму я, кто тебя-то звал сюда?
Москвич не производил на чабанских сыновей впечатления противника
сильного и ловкого. Левка, тот - да, здоров, как зверь, вся грудь в
густом волосе. А москвич? Слабак он и городской стиляга. Исабек - не
сравнить - куда сильней. Только смысл какой первому в Чупчи силачу
взять верх над тщедушным солдатом? Разве что для порядка. Поставить на
место этих из городка, чтобы нос не задирали, к сагатскпм девчонкам не
лезли.
- Зачем стоим? Пошли, - сказал Еркин Исабеку, опять по-русски,
чтобы солдат понял.
Парни из десятого "А" не возражали, вид имели самый мирный, но
вопреки мирному виду расступались все шире, очищали место. Еркин
видел: Исабек не хочет драться, солдату-москвичу драка тоже ни к чему,
но теперь от нее не уйдешь. Люди не хотят - драка иной раз сама свое
дело правит. И самый трусливый выходит тогда в судьи над храбрецами.
- Уж не испугался ли здесь кто? - подстрекал Кабиш.
Еркин понял: нет, не остановишь.
Кабиш захлебывался:
- Врежь ему! Врежь!
Что случилось - никто не понял, не разглядел. Исабек пошел на
противника и вдруг рухнул на утоптанную глину школьного двора.
Вскочил, бросился на солдата - опять тяжелым мешком брякнулся оземь.
Москвич весело покрикивал:
- Осторожней, аксакал!
Вот почему смело пришел, разговаривал вызывающе: знает какие-то
тайные приемы! Сильную ручищу Исабека вывернул, встал над ним:
- Ну как? Поиграли? Хватит?
Исабек взревел: пусти!
- Нет, ты скажи. Хватит?
Все притихли и услышали снизу, от земли:
- Хватит...
Еркин чувствовал - будто он сам прижат к земле, будто его рука
выворочена больно, зверски больно! - солдат медлит, наслаждается
победой, тянет унижение противника.
- Пусти! - Еркин подскочил к солдату.
Тот отпустил Исабека и похлопал Еркина по плечу.
- Старик, порядок!
Исабек поднялся, пошел прочь, не разбирая дороги.
Еркин с трудом вспоминал: что-то очень дорогое он поставил на
Исабека. Поставил и, значит, потерял. Зачем он допустил родича своего
до неравной схватки? Пускай не шибко умен Исабек, но всегда верил в
свою силу. Теперь же его сила перечеркнута, высмеяна, уничтожена. Ты
слабейший из слабых, Исабек!
Парни из десятого "А" выспрашивали москвича о хитрых приемах
борьбы.
- Нет, не самбо. Это дзюдо. В Японии каждый мальчишка владеет
такими приемами. Вообще-то, аксакалы, я бы мог с вами позаниматься. Но
только с разрешения вашего учителя физкультуры. Учить буду не каждого.
Дзюдоист не имеет права передавать свое умение ненадежным ребятам.
Короче говоря, ставьте вопрос перед своим начальством, а оно пускай
топает к моему. Понятно, аксакалы?
Володя был доволен: и не думал прежде о кружке в школе, а ведь
это прекрасная идея, возможность уйти из части вечером или в
воскресенье!
Еркин практических размышлений Володи знать не мог. Он видел:
победитель держится достойно, без похвальбы. Ловкий парень и умен.
Куда против него Исабеку! Вот только как назвать, как объяснить те
минуты, когда москвич затянул унижение побежденного? Ведь не счеты же
сводил из-за девчонки. Дрался за другого, не рисковал, заранее знал: с
любым один на один справится хитрым японским способом. Тогда зачем
тянул позор Исабека, если Исабек не обидчик, не соперник, не враг -
никто? Потому тянул, что москвичу Исабек никто?
Чабанские сыновья, окружив победителя, двинулись в школу. Еркину
не хотелось идти с ними, он остался во дворе. Из окон зала падали
косые, желтые полосы света. У крыльца чернел автобус. Потягивало
запахом остывающего мотора. На крыльце показался лейтенант, поглядел
по сторонам: что-то дошло до него, вышел проверить.
Ушел лейтенант - Василий Петрович выглянул, повел носом:
Гавриловна выслала в дозор.
Еркин замерз - потянуло в школу. Встретить Машу он сейчас не
хотел. Заберет с вешалки тулуп, малахай и потопает домой. А завтра
прикатит машина с Жинишке-Кум, увезет интернатских на зимние каникулы.
Две недели у Еркина в запасе.
В школьном коридоре покуривал Рябов. Скоро даст солдатам команду
собираться.
С той стороны, где зал, шла по коридору Сауле, очень красивая. За
ней солдат-москвич, тот, что победил Исабека. Еркин разозлился на
Сауле: пусть бы кто другой! Но зачем именно этот!
- Ты где пропадал? - спросила Еркина Сауле.
Ему стало смешно: какой снисходительно-небрежный фальшивый тон.
Но собственный ответ прозвучал еще фальшивей:
- Все время здесь. Ты меня последнее время не замечаешь.
Она стояла перед узким высоким зеркалом, солдат принес ее пальто
из класса, ловко подал, слегка задержал руки на ее плечах - как бы
полуобнял Саулешку сзади и глядит в зеркало на нее и на себя...
Еркин понял: вот как делается. Подать пальто, задержать руки у
девчонки на плечах, встретиться глазами в зеркале.
Рябов взглянул на него сочувственно:
- Ты, Еркин, учись танцевать, пока молод. А то будешь как я...
В коридор выплыла Серафима Гавриловна.
- Геннадий Васильевич? Мы вас ищем!
На Еркина она поглядела изучающе.
- Что-то ты мне сегодня не нравишься!
- Сожалею, - сказал Еркин. - До свидания.
Нашаривая на вешалке в темном классе свой тулуп, он услышал
голоса Нурлана и Кольки.
- Если хочешь, как настоящий мужчина, залить свое горе, давай!
Пропащий человек сидел на подоконнике с бутылкой "Алма шарабы".
- Не-е-е... У меня дома сразу унюхают.
- Чаем зажуешь. Вот пачка цейлонского.
- У меня и сквозь чай разберутся.
- Что-то я тебя не пойму! Или ты переживаешь из-за Саулешки, или
думаешь о встрече с бабкой?
Нурлан, как истинный друг, стремился помочь Кольке поэффектнее
сыграть свою несчастную любовь к Саулешке, которая ушла с
Володей-солдатом. Колька, напротив, хотел, чтобы никто не догадывался
о его переживаниях. Ему казалось: Саулешке не может всерьез нравиться
Володя. Не может - и все. Кого-то она дразнит этим Володей. Колька и
не надеялся, что Сауле дразнит его.
- Я переживаю! - отбивался он от бурного сочувствия. - Но и дома
неохота выволочку заработать. Ты мою бабку знаешь!
- Бабка или Сауле? Выбирай!
Еркин, натягивая тулуп, подошел ближе:
- Эй, как бы вас тут Гавриловна не застукала.
- Глотнуть хочешь? - спросил Нурлан.
- Зачем?
- Пьют с горя, - снисходительно сообщил Нурлан. - Или для
храбрости. Девчонки любят храбрецов. Ты, Садвакасов, сегодня храбрый?
- Здесь, в темном углу, хватит и двух храбрецов. С Новым годом! Я
пошел.
После ему вспомнится Нурланова болтовня про храбрость. Отчего
многое серьезное сначала встречаешь в пустяковом виде?
Еркин направился к выходу и - так ведь не хотел! - увидел
встревоженную Машу.
- Ты уже уходишь? - удивилась она.
- Нет, не ухожу. - Маша показалась Еркину сейчас чем-то похожей
на Сауле. Не внешностью, а чем-то другим, неуловимым. - Я ждал тебя. -
Ему совралось легко. - Твой автобус скоро? Давай выйдем пока. Я тебе
должен сказать...
- Подожди, я сейчас! - Маша надела пальто. Еркин не успел подать.
Надела длинноухую чукотскую шапку - Еркин и не замечал прежде, до чего
милая ушастая шапка!
Они вышли на крыльцо.
- Что бы ты хотела переменить здесь, у нас? Что наколдовать под
Новый год?
- Я бы сюда речку привела, - сказала она. - Ласковую речку,
зеленый берег. И чтобы ветлы низко над водой. Но здесь речку неоткуда
взять, ветлы не из чего сделать. Нельзя даже на Новый год желать не по
правде. Если даже придумываешь, все равно надо по правде: что на самом
деле возможно...
Еркин взял обеими руками мягкие чукотские уши, завязал узлом у
нее под подбородком:
- Ты хорошо сказала, ты молодец. Нельзя желать неправду.
- Гляди, Еркин, как вызвездило сегодня!
- Тебе не холодно?
Они вышли из ворот. Показалось Еркину или на самом деле в степи
промелькнула черная фигура? Исабек бродит... Еркин не окликнул - ну
его, Исабека! Ветер давил все сильней. От поселка к школе катил
грузовик с фанерной будкой в кузове.
- Дядя Паша приехал. Повезет завтра интернатских на отгон, где
все ваши отары.
- Это далеко?
- Не очень. Километров двести.
- А мы, может быть, скоро уедем насовсем.
- Я знаю.
- Ничего ты не знаешь. Ни-че-го!
- Не знаю, - согласился Еркин.
- Я читала: есть проект повернуть сибирские реки в засушливые
степи Казахстана.
- Я тоже читал.
- Почему же ты согласился, что я желаю неправду? Здесь будет
река.
- Все будет. Река. Много людей, много света. А ты будешь?
Какой-то чудак в бушлате вышел из тьмы на свет фар, заслонил
глаза ладонью. Ручища, как лопата, прикрыла пол-лица.
Паша притормозил, открыл дверцу.
- Выпил? Иди проспись!
Чудак в бушлате пропал из света фар. Паша не слышал его шагов по
разбитой дороге - в таких-то корявых сапожищах и трезвый в темноте
запинается, а этого не слышно. Где он там застрял, чудак?
- Браток, подвези! - захрипел чудак рядом. Когда подскочить
успел?
- Ладно, садись!
Придется прокатить чудака двести метров до школы. Не мерзнуть же
ему на ветру, тем более, похоже, нездешний, степи не знает, уйдет -
заблудится. Паша потянул дверцу - захлопнуть, но чудак не отпустил.
- Не дури! Кому говорю?
Но дверца рывком ушла у Паши из-под локтя, железная ручища
схватила его за горло.
- Ты вот как!.. - Паша упирался, но бессильное, вялое тело ползло
с гладкого сиденья, валилось наружу.
"Ключ!" - вспомнил Паша. Он нашарил плоский ключик, выдернул и
тут же выронил его из пальцев.
Салман с облегчением подумал: "Ну, теперь мне!"
Он уже подкрался близко, стоял за спиной чужого, чуял над головой
саперную лопатку, прикрученную проволокой у борта грузовика, успел
прикинуть: "Лопатку? Долго откручивать! А надо бы! Нет, не успею!"
Салман ухватился рукой за низ борта, изо всех сил врезал сапогами
чужому под колено, перегнулся, перекинулся и всеми когтями впился в
горло, в ненавистный кадык.
Все успел - только весу в Салмане как в птице.
Месяц кувыркнулся - острым рогом ударил в бок.
После Салман очутился на теплом, на горячем. Лежал спокойно,
отдыхал. Все слышал - говорить не хотел.
Витькина сестра целовала его в лоб, в щеки:
- Сашка! Ты живой? Сашка, скажи! Сашка, откуда кровь? Ну,
пожалуйста, скажи хоть что-нибудь, не молчи. Я тебя очень люблю,
Сашка! Ты только не молчи, скажи...
Что-то теплое капнуло на щеку Салману, потекло по губам.
Рядом застонал дядя Паша. Сел, шарит по земле:
- Ключик я обронил. Девонька, поищи.
Все Салман слышал - глядеть и говорить не хотел. Лежал спокойно и
думал свое: "Жизнь у меня будет долгая, я еще много чего увижу, не
пропущу, потому что сегодня не пропустил, не прозевал, вовремя
подоспел..."
Еркин бежал за бандитом от слабых огней Чупчи в темноту степи.
Припоминал: что есть при себе в карманах? Авторучка, блокнот
пустячный, платок, зажигалка американская - подарок Кенжегали... Да,
зажигалка - дело. Не упуская из виду черную фигуру, Еркин присел,
нашарил ворох курая, чиркнул зажигалкой. Курай вспыхнул и тут же -
искры на ветер - перегорел. Еркин поднялся, припустил вдогонку за
черным человеком.
"О чем только что я говорил с Машей? О реке. Что хотел Маше
сказать?"
Еркин опять чиркнул зажигалкой, не сразу придавил фитиль.
Откуда-то взялся солдат-москвич.
- Ты что с огнем балуешь?
- Бандита ловить надо. Дядю Пашу убил.
- Здешний кто? - солдат бежал рядом.
- Нет, чужой...
- Ты чем поджигал траву?
- Зажигалка у меня.
- Еще разок полыхни.
Еркин еще раз поджег сухой курай, догнал солдата.
Чужой выдохся, остановился, повернулся к ним лицом, крепко
расставил ноги: кому жить надоело, подходи!
Володя слышал близко сбоку детское пошмыгивание. Мальчишка
слабак, не поддержка... Муромцев угадывал в приготовившемся к схватке
бандите силу, опыт и жестокость. Здесь не спортивный зал - дикая степь
кругом.
"Но почему именно я должен сейчас? Это же зверь!.. - Володе
казалось, что ледяной ветер продувает до сердца. - Какого черта?!..
Какого черта я сорвался в погоню, вместо того чтобы бежать в школу,
поднять тревогу? Никогда не надо поддаваться минутному порыву - ничего
полезного из порывов, самых прекрасных, не получается... Владимир
Муромцев, если хотите знать, не готовился работать на Петровке
тридцать восемь. Он метит в высотный дом на Смоленской площади.
Благодарю вас за внимание, дамы и господа! И не поминайте лихом!"
Володя попытался иронически усмехнуться, но пересохшие губы
склеились крепко.
Еркин опередил солдата на короткие секунды - бросился на бандита.
Чужой не успел ничего. Муромцев воспользовался единственным
мгновением, сработал молниеносно, как по команде тренера - раз! Хруст!
Вопль истошный! А теперь обмякшего в снег мордой, в камешки...
"Спасибо вам, Симамура-сан, ваш усердный ученик, кажется,
совершил то, что называется героическим поступком. Ни минуты не
раздумывая, солдат Муромцев кинулся и... Черта с два не раздумывая! Я
столько передумал - теперь и не вспомнишь, не соберешь! Да и надо ли?"
- Парень, у тебя ремень есть? Придется снять! - Володя помог
Еркину намертво стянуть тяжелые кулачищи. - Ну а теперь отдохнем,
подождем публику, перекурим. Не куришь? Хвалю. Где-то я тебя видел.
А-а... Ты был, когда дрались. Собери-ка травки побольше. Понял?
Действуй...
Еркин торопливо ломал курай, складывал в кучу.
- Столько хватит?
- Хватит! Пали! - Володя с наслаждением прикурил от зажигалки
Еркина. - Откуда у тебя такая шикарная?
- Брат подарил.
- А кто он?
- Научный работник.
- Хороша, но разовая... Израсходуешь газ - выбросишь.
- На бензиновую переделаю.
- Можно! - Володя курил, блаженствовал. - Приятно было с тобой
познакомиться. Ты молоток! - Почему-то Володя не сказал Еркину про ту
секунду, когда Еркин опередил его, бросился на руку с ножом, отвлек
бандита. Нарочно не сказал? Или на радостях забыл, как забыл все
быстрые мысли, промчавшиеся в голове перед броском?
Но разве так уж важно: узнал, не узнал? Важно - сделал.
- Здорово ты его! - У Еркина нет охоты подойти к бандиту,
разглядеть, понять, насколько он рисковал.
- Матерый! - похвастал Володя. - Наколочки на руках. Любопытные
уголовные сюжеты. Не удивлюсь, если выяснится, что этот тип бежал
из-под стражи. Я слышал, они, если бегут, машину на дороге захватят и
по-о-о-шел степью до Каспия. Кто встретится - покойник! - Володя
бросил окурок в костер. - Что-то наши не торопятся. А я-то еще
сомневался: зачем сдуру за ним кинулся, не сообразил ребят поднять.
Пока подымались бы - он далеко мог уйти. Ты как полагаешь?
- Далеко бы ушел.
Еркин пошел еще наломать курая. Вернулся с большой охапкой,
накрыл слабый кончающийся костерок. Пламя прогрызлось, выметнулось
высоко вверх, раскидало красные искры. Чужой перекатился на спину,
лежал с открытыми глазами - в глубине зрачков блеснули тусклые
медяшки. Еркину вспомнился волк: тот же блеск в глубине узких волчьих
зрачков.
- Прочухался? - бросил Володя.
Чужой равнодушно проехал взглядом по солдату - может, принял за
конвойного? - уперся в скуластого мальчишку, высвеченного диким
степным огнем: нет, другой, не мазитовский ублюдок.
- Ублюдку передай. С того света приду - сквитаюсь.
- Не передам! - усмехнулся скуластый. - Зачем пугать ребенка. Но
не забуду! С того света придешь - меня встретишь.
На свет костра мчал по степи солдатский автобус.
- Показывай, Муромцев, кого взял. Пашка в порядке. Повез пацана в
больницу.
Еркину теперь казалось: разговор с Машей был очень, очень давно.
И незачем было этот разговор затевать - обидные мысли, трудные слова.
К нему подошел лейтенант.
- У тебя все в порядке? Маша там напугалась - плачет.
- Еркин у нас молоток! - похвалил Володя и стал рассказывать
Рябову, каким приемом свалил бандита.
Еркин думал: много солдат рассказывает - это бывает, когда
перепугаешься. Он сам про волка много рассказывал, пока отец не
объяснил, по какой причине язык развязывается. Еркин тогда себе
приказал: про волка не болтать. Но Володю-москвича он не осуждал.
Конечно, хватили страху.
Еркин достал из кармана американскую зажигалку, протянул Володе.
- На! Возьми на память!
- И тебе от меня! - Москвич снял с руки часы.
Что-то сделали с Салманом слезы Витькиной сестры. От ее слез он
становился все старше и слабее.
Ехала, хрустела по мерзлой земле машина. Теплые губы трогали лоб
Салмана. Хотелось приоткрыть глаза, но Салман себе не разрешил: "Еще
успею, погляжу, не убили, долго проживу..."
Машину трясло, кидало. Мысли его путались. Не Салман он вовсе, а
другой мальчишка тех же лет, фашистами расстрелянный, да не до смерти.
Боевой комбат нашел его среди убитых, поднял на руки, понес: ты теперь
долго будешь жить, парень!
В больнице Салман открыл глаза - от врага своего Доспаева он
прятаться не станет.
Доспаев больно ковырял где-то под ребрами.
- Ты везучий. Несколько сантиметров в сторону - было бы, брат,
очень худо.
Салман глядел не моргая, ухмылялся.
Доспаев спросил:
- Ты не думал, что у бандита может оказаться нож?
- Про нож-то? Знал! Он мне его показывал. Большой нож.
- Вот как? Ты знал? - Доспаеву непонятен этот мальчишка,
преследовавший Сауле мелкими злыми пакостями. Дурная трава, но
здешняя. Не только сын своего отца, но и сын степи.
Только тут Салман заметил: по другую сторону стоит Витькина мать
в белом халате. Откуда взялась? Оттуда! Она здесь работает. Потерпи,
Салман! Тебе еще рано ум-память терять.
- Вы, Наталья Петровна, мне пока не нужны! - распорядился
Доспаев. - Пусть пришлют Мануру из хирургического.
- Она ушла домой.
- Не Манура - пусть кто-то еще. Поопытней!
Салман тужился поднять голову.
- Нет! Она не уйдет. Пусть она. - Он требовательно глядел
Доспаеву в глаза. - Пусть она!
Доспаев уступил:
- Оставайтесь, Наталья Петровна.
Он отошел, чем-то занялся, издали спросил Салмана:
- А ты не загордился сгоряча? Уже командуешь в больнице.
Салман понял: уважительно говорит с ним заносчивый Доспаев. Но
радости от победы не было. Откуда-то стыд пролез: кому мстил?
Девчонке!
Над самым ухом Витькина мать негромко проговорила:
- Спит. Ослабел. Бедный малыш. Пойду скажу Вите, Он прибежал.
Маша там, все ребята. Я им сейчас скажу. Что им сказать, Сакен
Мамутович? Девочки просятся по очереди дежурить.
- Очень похвально, однако нет необходимости. Дежурства, Наталья
Петровна, допускаются тогда, когда они нужны больному, а не тем, кто
рвется дежурить. Скажите им, чтобы шли по домам.
- Хорошо, я скажу. Там и Сауле.
- Тем более что там и Сауле.
Салман не спал, думать стало больно. "Не о чем мне больше думать,
тихо полежу - отдохну, думать не буду. Но из больницы выйду - стану
жить заново".
Доспаев сказал:
- Вот теперь он на самом деле спит. Спокойной ночи, Наталья
Петровна.
Еркин проснулся от запаха яичницы с салом. За столом, завесив
лампочку газетой, сидели дядя Паша и Ажанберген.
- Уже ехать? Я проспал?
- Какой там! Два часа ночи. Ты погляди, Еркин, вот сидит
счастливый человек, он только что стал отцом. - Дядя Паша еще что-то
говорил, а человек, который стал отцом, улыбался от уха до уха. - Если
тебе, Еркин, не спится, давай сюда, за стол. Поговорим про жизнь.
Ажанберген у нас самый старший, отцом стал, сыну два часа от роду, вес
три восемьсот. За Ажанбергеном по званию следующий я. В армии отслужил
- раз, женатый уже - два. А ты у нас самый молодой и пока что
холостой. Ночь нынче у нас, мужики, святая. Во-первых, выпивки нет и
не надо, мне завтра пацанов везти в Жинишке-Кум. Во-вторых, человек на
свет явился и выбирает, как говорится, свой жизненный путь: в чабаны
ему идти, в шоферы или - попроще - в академики. А в-третьих, у меня
лично свой праздник - чудотворное спасение Паши Колесникова... Между
прочим, когда у меня сын родится - хотя Тоня дочку хочет! - так вот
сына я непременно Сашкой назову, в честь своего спасителя.
Еркин вылез из-под одеяла, пересел к гостям за стол, ковырнул
яичницу.
- Что в жизни самое главное? - философствовал Паша. - В жизни как
на незнакомой дороге. Ты сумей каждый ухаб вовремя вблизи увидеть,
чтоб, значит, вовремя вправо-влево взять. В тот же момент успевай
замечать, что у тебя по сторонам. И главное - далеко вперед гляди. По
ближним кочкам дорогу не определяют, вперед глядеть надо - сколько
глаз достает. Ты туда через час доберешься, а глаз уже побывал,
примерился.
Ажанберген отрешенно улыбался.
Из второй комнаты, где Еркин не топил, вывалился заспанный
Исабек.
- В кошму закатался - и то закоченел! - Он сгреб ручищами кесешку
с чаем, прихлебывал с оттяжкой, отдувался, ни о чем не спрашивал,
потому что все проспал, забравшись с горя в садвакасовскую зимовку.
- Едешь завтра? - спросил Исабека Паша.
- Голова оставил на дополнительные. А то завалю на экзаменах и
казахский и русский. Гавриловна по алгебре сто задачек задала.
- Ты, Исабек, правильно держишь, - философствовал Паша. -
Аттестат любой ценой добыть надо, ну а после куда? На курсы
чабанов-механизаторов?
- В военное училище. На каникулах съезжу в военкомат, договорюсь.
- Ты? В училище? - не поверил Еркин.
Ажанберген слушал и улыбался блаженно: четвертый час идет его
сыну, малой зеленой почке сильного дерева, глубоко ушедшего корнями в
здешнюю землю.
- В пограничное хочу. В Алма-Ату. Мы для них лошадей поставляем.
Попрошусь после училища туда, где границу охраняют конные патрули. У
нас в горах буду служить или на Кавказе.
Он принес из холодной комнаты кошму: то ли по белому полю черный
узор, то ли по черному - белый.
Еркин снял гору одеял с сундука, гору подушек, разбросал по кошме
и лег со всеми.
Во сне он ехал на своем вездеходе по степи мимо отар, табунов,
красивых поселков. Видел: поднялся а степи саксауловый лес. Видел:
русла забытых высохших рек наполнила вода с русского севера. Видел:
ученый биолог Витя ставит какие-то электронные приборы у сусличьих
нор. "Синяя птица уже прилетела из Индии?" - "Нет еще, но скоро
прилетит". - "А где же твоя сестра?"
Исабек в фуражке с зеленым околышем скачет Еркину навстречу на
рыжем огнехвостом жеребце. "Ты куда, родич мой, Исабек?" В свой дом
вошел Еркин - там его ждал, сидя на полу, на кошме, старший брат
Кенжегали. "Ты думаешь, что те, кто уехал из Чупчи, не сделали ничего,
чтобы изменить степь? Наш Чупчи - часть великого целого, живущего
единой жизнью, не забывай, Еркин..."
От Чупчи до отгона летом домчишь всего за пять часов. Зимой,
отправляясь в дорогу, время не загадывают.
Темно еще было, когда Паша Колесников засигналил у интернатской
арки. Но тетя Наскет уже успела всех, кому в дорогу, разбудить и
накормила их не быстрым завтраком, а основательным обедом.
Нурлан, разбуженный со всеми, дочиста умял обед из трех блюд, а
ехать передумал: чего он там не видал, на отгоне? Культурного
обслуживания? Кинопередвижки? Лектора по международному положению? Он
вернулся в спальню и завалился в кровать. Малышам приказал снаружи
запереть спальню и разбудить его к часу! А там он решит, что делать: к
Кольке смотаться, в городок к Маше Степановой, рискнуть постучаться к
майору...
Фарида и предположить не могла, что Нурлан ее так подведет. Она
выпросилась погостить к тете Гуле на отгон. Из-за кого она затеяла
поездку к тетке? Из-за Нурлана! Все уже сидят в фанерной будке, а
Нурлан не идет. За ним бегали - не нашли, спальня заперта. Так и
уехали без Нурлана. Не выпрыгивать же Фариде из машины, себя на смех
выставлять.
В будке надышали, нагрели. Старшие ребята изо рта в рот передают
сигарету, младшие догрызают леденцы. Все едут по домам без поклажи.
Только к весне интернатские повезут валенки, шубы, меховые шапки на
укладку в домашние сундуки. Зимой у всех в дорогу руки пустые.
- Дударай-дудар, дударай-дудар... - девочки затянули тонехонько,
вплетали в песню голос за голосом, как шерстинки в пряжу, и песня не
грубела, она крепла, словно нить в умелых руках. Еркин не заметил, как
и сам вплел свой голос в общую песню.
Кто ее сложил? Мария, Марьям, Маша...
Дверца фанерной будки распахнута, Еркин видит убегающую вспять
черно-белую дорогу. Сидеть спиной к движению - все равно что видеть
мир в зеркале: все наоборот. Еркин встал и захлопнул дверцу.
В степи поземный ветер свивал снег в белые жгуты.
В больничной палате Салман проснулся, открыл глаза: против света
стоит кто-то. Салмана в жар кинуло: Витькина сестра. Отошла от окна,
повернулась - из Маши стала Саулешкой Доспаевой. Салман понял: пропало
у него прежнее острое чутье, другим стал, бестолковым. И не знал
теперь: что Саулешке надо, зачем пришла, что тут забыла?
- Ты чего? - настороженно спросил он.
- Проснулся! - Она подошла ближе.
Салман глядел на нее исподлобья. Мог бы, конечно, что-то сказать,
но не сказал - не признавал за словами никакой цены.
Дверь отворилась, в белых халатах вошли Витька и его сестра.
Салман разозлился: "Витька мне друг, он пускай остается, а девчонки -
обе! - пускай уходят, без них обойдемся".
После, кривясь от боли, он сел на кровати и поглядел в окно: вон
они обе идут к воротам...
Голова вышел на школьное крыльцо, поглядел в степь, зарисованную
снегом, как школьная доска мелом. Двое шли по степи, а он никак не мог
разглядеть или угадать: кто эти двое?
- Дряхлеешь, дряхлеешь ты, старый школьный козел! - недовольный
собою, ворчал Голова.
Ученикам он говорил:
- Когда чего-то добьешься, не забудь обругать себя. Ведь до этого
ты все время обиженно думал: "Ну почему у других все получается, а у
меня - такого умного, хорошего, талантливого! - ничегошеньки не
выходит?"
Но то ученики? А то он, старый школьный... ну, ладно, ладно, не
будем огорчать Серафиму Гавриловну... старый школьный директор по
прозвищу Голова.
Тем часом в городке перед строем читали приказ о мужественном
поступке рядового Муромцева, задержавшего опасного преступника. Володя
вышел вперед, подтянутый и молодцеватый...
В степи поземный ветер бросил вить тугие снежные жгуты, все
растрепал, развихрил - собрался забуранить. Грузовик с фанерной
будкой, разматывая за собой тонкую нитку песни, катил все дальше в
открытую степь. Еще многие километры будет кругом только степь -
большая неласковая земля, научившая живущих здесь людей привечать
любого незнакомого, кто придет к порогу, понимать друг друга и жить
разным народам в добром соседстве...
Еркин плотнее запахнул полы тулупа, откинулся назад. Слышнее
стало, как скрипит промерзшая фанера, летят из-под колес верткие
камешки, ровно тянет двигатель. Нет на свете ничего лучше, как встать
поутру и ехать, ехать навстречу новому дню...
Ирина Стрелкова
(повесть)
Журнал "Молодая гвардия" Э 11
1976 год
Художественный редактор В. Недогонов
Технический редактор Н. Строева
OCR - Андрей из Архангельска
Last-modified: Sun, 10 Apr 2005 07:36:33 GMT