alt="0x01 graphic" src="enciklopedia_porokow-24.png"> 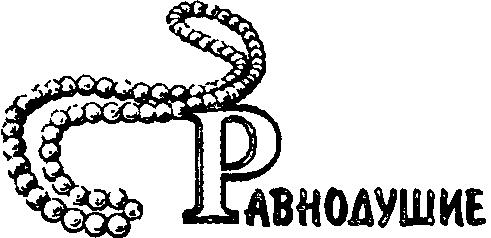 Равнодушный человек -- это тот, кто раз и навсегда оставил нас в покое.
Боже, окружи нас равнодушными людьми!
Они при любых обстоятельствах остаются невзыскательны к нашим
недостаткам; они игнорируют наши слабости и ошибки; они никогда не помешают
нам заниматься тем, что мы сами выбрали, и никогда -- слышите: никогда! --
не нарушат назойливым вниманием наше душевное равновесие -- столь редкое и
хрупкое достояние в нынешнее бурное время!
Мне жаль равнодушного -- этого столь достойного человека, никогда не
посягающего на нашу жизнь и не стремящегося подверстать ее под свою мерку.
Жаль, потому что равнодушие превращается в тяжкую душевную болезнь, развитие
которой приводит одержимого этим недугом к полнейшей безучастности ко всему.
Разросшееся равнодушие делает человека безучастным даже к самому себе. Он
оказывается по ту сторону всех происходящих на его глазах событий, и даже
коллизии собственной жизни не колеблют его безмятежности. Что, казалось бы,
проку в таком состоянии? Бесплодность и отрешенность его очевидны.
Однако именно потому, что силой своего душевного недуга безучастный
человек становится потусторонен миру, именно по этой причине он превращается
в идеального созерцателя действительности. Равнодушный -- искусный
наблюдатель чужого волнения и изощренный ценитель его. Собственная
бесстрастность помогает ему лучше угадывать тончайшие оттенки движений чужой
души. Оттого именно равнодушный человек, который по натуре своей не
испытывает к людям интереса, парадоксальным образом оказывается отменным
знатоком человеческих душ.
Из бесстрастности и природной успокоенности равнодушного рождается
беспристрастность -- столь редкое и ценное в человеческих отношениях
качество. Равнодушие, порождая беспристрастность, делает личность способной
к справедливым оценкам и хладнокровным решениям. Равнодушный человек
оказывается замечательным судьей в споре. Его холодность удачно остужает
горячность спорящих.
Однако не закралась ли в наше описание нелогичность? Ведь начали мы с
того, что восславили равнодушного за невмешательство в жизни людей. А теперь
приписали ему роль идеального судьи -- этого символа наиболее бесцеремонного
участия в человеческой судьбе. Впрочем, никакого противоречия в сказанном
нет. Равнодушный действительно не предпримет по своей инициативе ничего и не
станет вмешиваться в жизнь других. Иное дело, когда люди, подпавшие под
обаяние его беспристрастности, сами призывают его рассудить их или дать
совет. Ведь я не хочу сказать, что равнодушный человек лишен гордости, и
даже тщеславие бывает ему не чуждо. Оттого он, я полагаю, не без
удовольствия демонстрирует свой характер, занимая благодаря этому среди
людей почетное положение.
Редко к кому относятся столь хорошо, как к человеку последовательно
равнодушному и мало кто получает от окружающих такое уважение, как он.
Впрочем, и уважение людей, и достигнутое среди них почетное положение мало
беспокоят и мало вдохновляют его. Нехотя, играючи, отстраненно перебирает он
свое достояние, глядит на собственную жизненную участь удивленно, как будто
не с ним это все происходит. Через все, что творится вокруг него и что
творит сам равнодушный, проступает для него ощущение скуки. Никакая оценка
-- ни стояния. Тускло мерцает огонек чувств равнодушного человека, высшим
счастьем которого есть тихое удовлетворение, а вечным неотступным спутником
-- тоска.
Равнодушный человек -- это тот, кто раз и навсегда оставил нас в покое.
Боже, окружи нас равнодушными людьми!
Они при любых обстоятельствах остаются невзыскательны к нашим
недостаткам; они игнорируют наши слабости и ошибки; они никогда не помешают
нам заниматься тем, что мы сами выбрали, и никогда -- слышите: никогда! --
не нарушат назойливым вниманием наше душевное равновесие -- столь редкое и
хрупкое достояние в нынешнее бурное время!
Мне жаль равнодушного -- этого столь достойного человека, никогда не
посягающего на нашу жизнь и не стремящегося подверстать ее под свою мерку.
Жаль, потому что равнодушие превращается в тяжкую душевную болезнь, развитие
которой приводит одержимого этим недугом к полнейшей безучастности ко всему.
Разросшееся равнодушие делает человека безучастным даже к самому себе. Он
оказывается по ту сторону всех происходящих на его глазах событий, и даже
коллизии собственной жизни не колеблют его безмятежности. Что, казалось бы,
проку в таком состоянии? Бесплодность и отрешенность его очевидны.
Однако именно потому, что силой своего душевного недуга безучастный
человек становится потусторонен миру, именно по этой причине он превращается
в идеального созерцателя действительности. Равнодушный -- искусный
наблюдатель чужого волнения и изощренный ценитель его. Собственная
бесстрастность помогает ему лучше угадывать тончайшие оттенки движений чужой
души. Оттого именно равнодушный человек, который по натуре своей не
испытывает к людям интереса, парадоксальным образом оказывается отменным
знатоком человеческих душ.
Из бесстрастности и природной успокоенности равнодушного рождается
беспристрастность -- столь редкое и ценное в человеческих отношениях
качество. Равнодушие, порождая беспристрастность, делает личность способной
к справедливым оценкам и хладнокровным решениям. Равнодушный человек
оказывается замечательным судьей в споре. Его холодность удачно остужает
горячность спорящих.
Однако не закралась ли в наше описание нелогичность? Ведь начали мы с
того, что восславили равнодушного за невмешательство в жизни людей. А теперь
приписали ему роль идеального судьи -- этого символа наиболее бесцеремонного
участия в человеческой судьбе. Впрочем, никакого противоречия в сказанном
нет. Равнодушный действительно не предпримет по своей инициативе ничего и не
станет вмешиваться в жизнь других. Иное дело, когда люди, подпавшие под
обаяние его беспристрастности, сами призывают его рассудить их или дать
совет. Ведь я не хочу сказать, что равнодушный человек лишен гордости, и
даже тщеславие бывает ему не чуждо. Оттого он, я полагаю, не без
удовольствия демонстрирует свой характер, занимая благодаря этому среди
людей почетное положение.
Редко к кому относятся столь хорошо, как к человеку последовательно
равнодушному и мало кто получает от окружающих такое уважение, как он.
Впрочем, и уважение людей, и достигнутое среди них почетное положение мало
беспокоят и мало вдохновляют его. Нехотя, играючи, отстраненно перебирает он
свое достояние, глядит на собственную жизненную участь удивленно, как будто
не с ним это все происходит. Через все, что творится вокруг него и что
творит сам равнодушный, проступает для него ощущение скуки. Никакая оценка
-- ни стояния. Тускло мерцает огонек чувств равнодушного человека, высшим
счастьем которого есть тихое удовлетворение, а вечным неотступным спутником
-- тоска.
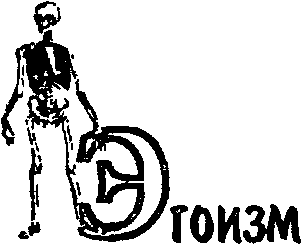 Эгоизм -- основа жизненных основ. Нет эгоизма -- нет человека. Причем,
благодаря эгоизму, каждый начинает существовать не только для себя, но и для
окружающих. Кто сам себя не замечает, на того и другие не обратят внимания.
Вопреки расхожему мнению, эгоист -- чрезвычайно приспособленное для
дружбы существо. Он с редкой непринужденностью принимает заботу о себе,
отчего заботящийся получает полное удовлетворение и возвышается в
собственных глазах. Люди совестливые и предупредительные нелегко принимают
заботу о себе; на всякое проявление внимания они стремятся ответить
сторицей. Это чрезвычайно хлопотная в общении вещь; и она вдвойне досадна в
общении дружеском. Эгоист, к счастью, начисто лишен подобного недостатка.
Он, следовательно, способствует росту чужого самоуважения и гордости. Эгоист
лишен угодливости и потому его отношения к окружающим наполнены редким
здоровьем. Он никогда никого не обижает, ибо никто от него ничего не ждет. С
полным основанием, поэтому, мы можем всех, кто упрекает эгоиста в подавлении
чужой личности, объявить лжецами.
Главная особенность эгоиста -- полное подчинение собственному "я". Его
исходный завет -- "не считается ни с кем, кроме себя!" Поэтому эгоизм,
говорят, порождает рознь. А я скажу: "Хвала этой розни!" Не способны к
единению те, кто прежде розни!" Не способны к единению те, кто прежде не
обрели сами себя. Лишь тот, кто для себя есть; кто знает, в чем его
собственная суть, достоинство и смысл, способен ощутить нужду в другом и
объединиться с ним. Нет единства без уважения к достоинству каждого. А
только тот способен увидеть и ценить достоинство другого, кто имеет
достоинство в себе: кто знает, что значит "я" и сколь нелегкое дело это "я"
иметь.
Мечтающие о славном объединении, в котором все забудут отличия друг от
друга, на самом деле мечтают либо о том, чтобы мир танцевал под их погудку,
либо о том, чтобы нашлась рука, которая распорядится их судьбой. Это мечты о
массе, и выдают они человека массы, который не хочет к себе иного отношения,
чем отношения к частице, пылинке, комочку грязи. Ему страшно и одиноко в
жизни, требующей от него собственной ответственности, собственного выбора,
своего суждения. Инстинктивно ищет он, кому передоверить жизнь и участь
свою, а не найдя -- злобствует. Не найдя, кому подчиниться, он начинает
повелевать. Ибо и повелением своим он отказывается от ответственности, и
повелением он возлагает судьбу свою на другого. Лишь в роли раба или
господина -- а это одна и та же роль -- успокаивается мечтающий о
"единстве".
Эгоист органически не способен к такой жизни. Хорошо зная себя, и зная
то, что ему недостает, он ценит качества, которых сам лишен. Единство для
него -- восполнение собственной ограниченности, преодоление ее. Эгоист
хорошо знает, кто ему нужен, и потому он объединяется лишь с тем, кто ему
поможет. Общность, достигаемая эгоистичными людьми -- всегда конкретное
единство, делающее их сильнее и не подменяющее сущности их самих. Этим они
разительно отличаются от человека массы, для которого "единство" -- способ
сохранить себя в своем безмятежном ничтожестве: в слиянии с тем, что превыше
его. Напротив, для эгоиста "единство" -- всегда свободный союз. Во всяком,
самом глубоком и прочном объединении с другими, он сохраняет свободу воли.
Эгоист -- вот подлинно свободное существо. С эгоистического самоощущения
начинается обретение каждым свободы.
В эгоизме человеческая натура является во всей ее полноте и
содержательности (или бессодержательности, если натура такова). Эгоизм
противоположен лжи: он беспощадно обнажает человека. Тогда -- если личность
душевно богата, если в ней живет нечто, интересное людям,-- глазам нашим
явится талант, самобытный характер, необыкновенная судьба. Не будь же
эгоистичности -- этого беспечного, своевольного и безоглядного следования
своей натуре -- люди находились бы в опасности навсегда остаться среди
чужих, давно сношенных и пустых форм существования, покорно принимая их за
свой мир. Но нет! берет свое эгоистическое чувство и человек отвергает
довлеющие над ним формы бытия, и не боится общественных предписаний, и не
робеет перед неисчислимыми толпами, чье существование, даже будучи рутинным
и бессмысленным, желает представить себя нормальным. И более того: чем оно
бессмысленнее, с тем большим Жаром желает выдать себя за образец. Только
эгоист способен удержаться от следования ему. Священная заповедь: "Быть
самим собой" -- ты осталась бы пустым суесловием, не будь мощного душевного
импульса, заключенного в эгоизме!
Эгоизм -- основа жизненных основ. Нет эгоизма -- нет человека. Причем,
благодаря эгоизму, каждый начинает существовать не только для себя, но и для
окружающих. Кто сам себя не замечает, на того и другие не обратят внимания.
Вопреки расхожему мнению, эгоист -- чрезвычайно приспособленное для
дружбы существо. Он с редкой непринужденностью принимает заботу о себе,
отчего заботящийся получает полное удовлетворение и возвышается в
собственных глазах. Люди совестливые и предупредительные нелегко принимают
заботу о себе; на всякое проявление внимания они стремятся ответить
сторицей. Это чрезвычайно хлопотная в общении вещь; и она вдвойне досадна в
общении дружеском. Эгоист, к счастью, начисто лишен подобного недостатка.
Он, следовательно, способствует росту чужого самоуважения и гордости. Эгоист
лишен угодливости и потому его отношения к окружающим наполнены редким
здоровьем. Он никогда никого не обижает, ибо никто от него ничего не ждет. С
полным основанием, поэтому, мы можем всех, кто упрекает эгоиста в подавлении
чужой личности, объявить лжецами.
Главная особенность эгоиста -- полное подчинение собственному "я". Его
исходный завет -- "не считается ни с кем, кроме себя!" Поэтому эгоизм,
говорят, порождает рознь. А я скажу: "Хвала этой розни!" Не способны к
единению те, кто прежде розни!" Не способны к единению те, кто прежде не
обрели сами себя. Лишь тот, кто для себя есть; кто знает, в чем его
собственная суть, достоинство и смысл, способен ощутить нужду в другом и
объединиться с ним. Нет единства без уважения к достоинству каждого. А
только тот способен увидеть и ценить достоинство другого, кто имеет
достоинство в себе: кто знает, что значит "я" и сколь нелегкое дело это "я"
иметь.
Мечтающие о славном объединении, в котором все забудут отличия друг от
друга, на самом деле мечтают либо о том, чтобы мир танцевал под их погудку,
либо о том, чтобы нашлась рука, которая распорядится их судьбой. Это мечты о
массе, и выдают они человека массы, который не хочет к себе иного отношения,
чем отношения к частице, пылинке, комочку грязи. Ему страшно и одиноко в
жизни, требующей от него собственной ответственности, собственного выбора,
своего суждения. Инстинктивно ищет он, кому передоверить жизнь и участь
свою, а не найдя -- злобствует. Не найдя, кому подчиниться, он начинает
повелевать. Ибо и повелением своим он отказывается от ответственности, и
повелением он возлагает судьбу свою на другого. Лишь в роли раба или
господина -- а это одна и та же роль -- успокаивается мечтающий о
"единстве".
Эгоист органически не способен к такой жизни. Хорошо зная себя, и зная
то, что ему недостает, он ценит качества, которых сам лишен. Единство для
него -- восполнение собственной ограниченности, преодоление ее. Эгоист
хорошо знает, кто ему нужен, и потому он объединяется лишь с тем, кто ему
поможет. Общность, достигаемая эгоистичными людьми -- всегда конкретное
единство, делающее их сильнее и не подменяющее сущности их самих. Этим они
разительно отличаются от человека массы, для которого "единство" -- способ
сохранить себя в своем безмятежном ничтожестве: в слиянии с тем, что превыше
его. Напротив, для эгоиста "единство" -- всегда свободный союз. Во всяком,
самом глубоком и прочном объединении с другими, он сохраняет свободу воли.
Эгоист -- вот подлинно свободное существо. С эгоистического самоощущения
начинается обретение каждым свободы.
В эгоизме человеческая натура является во всей ее полноте и
содержательности (или бессодержательности, если натура такова). Эгоизм
противоположен лжи: он беспощадно обнажает человека. Тогда -- если личность
душевно богата, если в ней живет нечто, интересное людям,-- глазам нашим
явится талант, самобытный характер, необыкновенная судьба. Не будь же
эгоистичности -- этого беспечного, своевольного и безоглядного следования
своей натуре -- люди находились бы в опасности навсегда остаться среди
чужих, давно сношенных и пустых форм существования, покорно принимая их за
свой мир. Но нет! берет свое эгоистическое чувство и человек отвергает
довлеющие над ним формы бытия, и не боится общественных предписаний, и не
робеет перед неисчислимыми толпами, чье существование, даже будучи рутинным
и бессмысленным, желает представить себя нормальным. И более того: чем оно
бессмысленнее, с тем большим Жаром желает выдать себя за образец. Только
эгоист способен удержаться от следования ему. Священная заповедь: "Быть
самим собой" -- ты осталась бы пустым суесловием, не будь мощного душевного
импульса, заключенного в эгоизме!
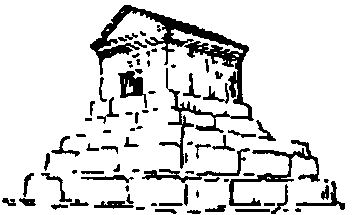
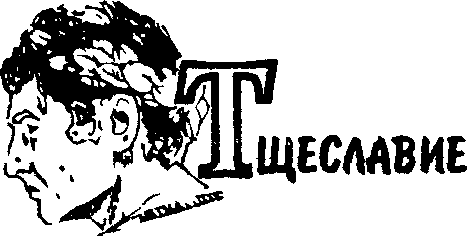 Тщеславие, о сколь ты ярко и наивно! Подобно ребенку, ты тянешься к
блестящим предметам, радуясь безделице и упиваясь сущим пустяком. Человек
тщеславный ищет славы, ему неможется без ее света -- пусть неяркого,
бледного света, или хотя бы отблеска. Так простейший организм оживает под
солнечным лучом и, наоборот, застывает недвижно в сумерках.
Под тщеславием понимают человека, увлеченного вещами пустыми. Однако не
торопитесь выказывать презрение. Это весьма благодетельная склонность, ибо
как бы без нее существовала социальная жизнь, предлагающая людям никчемные
цели и занятия?
Тщеславный человек обычно простодушен, и мы должны быть благодарны ему,
что он находит удовлетворение в простом и малом. Он не соперник честолюбцу,
не конкурент мыслителю, от него нечего ждать подвоха -- если, конечно,
учитывать особенность его характера. Достаточно усладить тщеславца небольшой
порцией лести -- и, право же, он превратится в приятнейшего человека. С ним
легко, не нужно напрягаться и трудиться над установлением добрых отношений.
Тщеславный человек сохраняет и оживляет наши силы -- подобно красочной
кинокомедии; он забавен -- как мыльный пузырь; он мил, любезен и легко
становится полезен -- спасибо ему за это!
Милое тщеславие! ты -- поплавок, за который можно ухватиться в
жизненных бурях; ты -- та щепочка, которая авось, да и выручит.
Тщеславие, о сколь ты ярко и наивно! Подобно ребенку, ты тянешься к
блестящим предметам, радуясь безделице и упиваясь сущим пустяком. Человек
тщеславный ищет славы, ему неможется без ее света -- пусть неяркого,
бледного света, или хотя бы отблеска. Так простейший организм оживает под
солнечным лучом и, наоборот, застывает недвижно в сумерках.
Под тщеславием понимают человека, увлеченного вещами пустыми. Однако не
торопитесь выказывать презрение. Это весьма благодетельная склонность, ибо
как бы без нее существовала социальная жизнь, предлагающая людям никчемные
цели и занятия?
Тщеславный человек обычно простодушен, и мы должны быть благодарны ему,
что он находит удовлетворение в простом и малом. Он не соперник честолюбцу,
не конкурент мыслителю, от него нечего ждать подвоха -- если, конечно,
учитывать особенность его характера. Достаточно усладить тщеславца небольшой
порцией лести -- и, право же, он превратится в приятнейшего человека. С ним
легко, не нужно напрягаться и трудиться над установлением добрых отношений.
Тщеславный человек сохраняет и оживляет наши силы -- подобно красочной
кинокомедии; он забавен -- как мыльный пузырь; он мил, любезен и легко
становится полезен -- спасибо ему за это!
Милое тщеславие! ты -- поплавок, за который можно ухватиться в
жизненных бурях; ты -- та щепочка, которая авось, да и выручит. 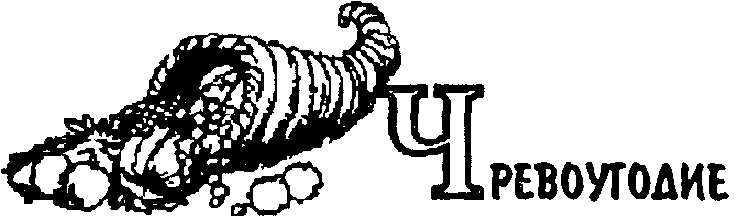 Чревоугодием называют насыщение плоти, минуту ее неприкрытого
торжества. Первое ощущение вкуса жизни мы получаем благодаря пище. Здесь, в
процессе еды, большой внешний мир впитывается и усваивается людьми,
превращаясь в основу основ Их "я" -- в телесность.
Изысканной пищей человек возбуждает свое тело и приводит его в
желательное для себя расположение. Тончайшие запахи разнообразных яств... Не
только в теле, во всем человеческом существе возбуждаете вы вожделение.
Противно природе живого не повиноваться зову того, что питает жизнь. И
потому не знает исключений закон телесного пристрастия: для всякого человека
есть тот вид яств, которому он так же покорен, как суровейшему требованию
долга, как заветной своей мечте, как желанию любимого существа.
В том, чтобы съесть что-нибудь -- первое утешение наше и первая
поддержка в час невзгоды. О нет, я не хочу унизить помощь преданного друга,
совет мудрого наставника, самоотверженность бросающегося на выручку. Перед
всяким, даже самым скромным проявлением искреннего сочувствия и бескорыстной
помощи я благоговейно склоняю голову. Но мне непонятно в то же время, почему
в пренебрежении остаются многие неприметные мелочи, которые оказывают нашей
душе столь необходимую поддержку? Еда -- одна из таких "мелочей", и роль ее
в стабилизации человеческой жизни -- и не только жизни, самой судьбы! --
трудно переоценить. Благодаря трапезе наша жизнь вновь входит в колею
привычного, размеренного существования. И пусть это только иллюзия, пусть на
самом деле случилось непоправимое, пусть наша участь печальна -- но трапеза
внушает нам надежду жить. Даже ложная, эта надежда не может не согреть на
мгновение нашу душу, не может не внушить хотя бы мимолетной бодрости. Даже
приговоренный к смерти, быть может, благодарен последнему ощущению вкуса
жизни, которым дарит его незатейливая пища. Однако не будем говорить о вещах
столь печальных...
В чревоугодии многие религиозные проповедники исстари усматривали
греховное угождение плоти, губящее человека. Презирая все телесное, они,
разумеется, не могли отнестись терпимо к той изысканной заботе о
наслаждениях тела, которая заключена в чревоугодии. Согласимся, что спасение
души -- главная забота человека. Однако он -- существо во плоти; тело -- не
менее существенная его часть. Тот, кто в этом сомневается, пусть попробует
обменять свое тело на вторую душу. Забавно и грустно будет смотреть на его
существование, лишенное прелести видеть, слышать, осязать, впитывать запахи,
чувствовать тепло и холод, каждой минутой бытия ощущать свою смертность, и
оттого неистово желать жить! Как убога личность того, кто безразличен к
наслаждениям любви, кто лишен возможности кожей ощутить благосклонность или
неприятие окружающих. Удручающая картина перед глазами! Долой двоедушие! Да
здравствует тело и источник его силы -- здоровый желудок!
Здесь мы должны развеять несколько наветов, облыжно возводимых на
чревоугодие. Первый -- отождествление чревоугодия и прожорливости. Спору
нет, умеющий угождать своему желудку, умеет ублажать его обильно. Однако
важнее в чревоугодии -- разнообразие яств, умение соткать тонкое полотно
вкусовых ощущений, не смешать их в неверных пропорциях и не нарушить строгих
закономерностей сочетания различных блюд. Изысканная пища воспитывает
умеренность потребностей и утонченность их. К сожалению, искусство
чревоугодия давно захирело. В нашем тусклом мире от него остался жалкий
ублюдок -- обжорство, тем отвратительнее, чем голоднее предающийся ему.
Разве угадаешь в этом постыдном потомке изящного, утонченного предка?
Второй поклеп -- в неопрятности чревоугодия, в неэстетичности его
проявлений. Я убежден, что чревоугодие -- не менее высокое искусство, чем
живопись, литература или музыка. И напрасно думают, что все имеют к нему
способности -- было бы что есть. Нет, как и во всяком ином виде
человеческого самоутверждения, здесь необходима особая одаренность; но и она
приносит плоды лишь после долгого труда. Угождающий чреву, если он
достаточно воспитан своей страстью, весьма переборчив в еде, и уже поэтому
опрятен. Даже удовлетворяющее его вкус блюдо он никогда не станет есть как
попало. Ведь каждому яству присущ свой церемониал его отведывания. В
процессе принятия пищи должна установиться гармония между едой и
человеческим организмом. В открытии законов этой гармонии и следовании им --
смысл чревоугодия. И потому вполне развившееся чревоугодие порождает
гурманство -- эту искусную поэтизацию еды.
Из изложенного ясно, что чревоугодники -- вовсе не те, кто бездумно
набивают себе брюхо. Среди тех, кто никак не может быть обвинен в
чревоугодии, встречаются и такие, кто ест сверх меры, и те, что недоедают.
Как тех, так и других объединяет равнодушное, пренебрежительное,
невнимательное отношение к собственному телу и задаче установления гармонии
между ним и средой. Они не понимают, что в трапезе заключен один из высоких
смыслов человеческой жизни, и что обеденный стол способен обогатить личность
не меньше, чем самый прекрасный концерт, пейзаж или незаурядный поступок. И
так же, как не приученные к музыкальной гармонии уши слышат в изысканных
мелодиях лишь шум, так и за разнообразнейшим столом лишенному дара
чревоугодия дана лишь одна скудная возможность -- насытиться. Одна слепая
мысль -- "наедайся!" -- придет в голову такому человеку. Но сколь бедно,
сколь ничтожно это стремление по сравнению с теми возможностями, которые
таит наше чрево!
Чревоугодием называют насыщение плоти, минуту ее неприкрытого
торжества. Первое ощущение вкуса жизни мы получаем благодаря пище. Здесь, в
процессе еды, большой внешний мир впитывается и усваивается людьми,
превращаясь в основу основ Их "я" -- в телесность.
Изысканной пищей человек возбуждает свое тело и приводит его в
желательное для себя расположение. Тончайшие запахи разнообразных яств... Не
только в теле, во всем человеческом существе возбуждаете вы вожделение.
Противно природе живого не повиноваться зову того, что питает жизнь. И
потому не знает исключений закон телесного пристрастия: для всякого человека
есть тот вид яств, которому он так же покорен, как суровейшему требованию
долга, как заветной своей мечте, как желанию любимого существа.
В том, чтобы съесть что-нибудь -- первое утешение наше и первая
поддержка в час невзгоды. О нет, я не хочу унизить помощь преданного друга,
совет мудрого наставника, самоотверженность бросающегося на выручку. Перед
всяким, даже самым скромным проявлением искреннего сочувствия и бескорыстной
помощи я благоговейно склоняю голову. Но мне непонятно в то же время, почему
в пренебрежении остаются многие неприметные мелочи, которые оказывают нашей
душе столь необходимую поддержку? Еда -- одна из таких "мелочей", и роль ее
в стабилизации человеческой жизни -- и не только жизни, самой судьбы! --
трудно переоценить. Благодаря трапезе наша жизнь вновь входит в колею
привычного, размеренного существования. И пусть это только иллюзия, пусть на
самом деле случилось непоправимое, пусть наша участь печальна -- но трапеза
внушает нам надежду жить. Даже ложная, эта надежда не может не согреть на
мгновение нашу душу, не может не внушить хотя бы мимолетной бодрости. Даже
приговоренный к смерти, быть может, благодарен последнему ощущению вкуса
жизни, которым дарит его незатейливая пища. Однако не будем говорить о вещах
столь печальных...
В чревоугодии многие религиозные проповедники исстари усматривали
греховное угождение плоти, губящее человека. Презирая все телесное, они,
разумеется, не могли отнестись терпимо к той изысканной заботе о
наслаждениях тела, которая заключена в чревоугодии. Согласимся, что спасение
души -- главная забота человека. Однако он -- существо во плоти; тело -- не
менее существенная его часть. Тот, кто в этом сомневается, пусть попробует
обменять свое тело на вторую душу. Забавно и грустно будет смотреть на его
существование, лишенное прелести видеть, слышать, осязать, впитывать запахи,
чувствовать тепло и холод, каждой минутой бытия ощущать свою смертность, и
оттого неистово желать жить! Как убога личность того, кто безразличен к
наслаждениям любви, кто лишен возможности кожей ощутить благосклонность или
неприятие окружающих. Удручающая картина перед глазами! Долой двоедушие! Да
здравствует тело и источник его силы -- здоровый желудок!
Здесь мы должны развеять несколько наветов, облыжно возводимых на
чревоугодие. Первый -- отождествление чревоугодия и прожорливости. Спору
нет, умеющий угождать своему желудку, умеет ублажать его обильно. Однако
важнее в чревоугодии -- разнообразие яств, умение соткать тонкое полотно
вкусовых ощущений, не смешать их в неверных пропорциях и не нарушить строгих
закономерностей сочетания различных блюд. Изысканная пища воспитывает
умеренность потребностей и утонченность их. К сожалению, искусство
чревоугодия давно захирело. В нашем тусклом мире от него остался жалкий
ублюдок -- обжорство, тем отвратительнее, чем голоднее предающийся ему.
Разве угадаешь в этом постыдном потомке изящного, утонченного предка?
Второй поклеп -- в неопрятности чревоугодия, в неэстетичности его
проявлений. Я убежден, что чревоугодие -- не менее высокое искусство, чем
живопись, литература или музыка. И напрасно думают, что все имеют к нему
способности -- было бы что есть. Нет, как и во всяком ином виде
человеческого самоутверждения, здесь необходима особая одаренность; но и она
приносит плоды лишь после долгого труда. Угождающий чреву, если он
достаточно воспитан своей страстью, весьма переборчив в еде, и уже поэтому
опрятен. Даже удовлетворяющее его вкус блюдо он никогда не станет есть как
попало. Ведь каждому яству присущ свой церемониал его отведывания. В
процессе принятия пищи должна установиться гармония между едой и
человеческим организмом. В открытии законов этой гармонии и следовании им --
смысл чревоугодия. И потому вполне развившееся чревоугодие порождает
гурманство -- эту искусную поэтизацию еды.
Из изложенного ясно, что чревоугодники -- вовсе не те, кто бездумно
набивают себе брюхо. Среди тех, кто никак не может быть обвинен в
чревоугодии, встречаются и такие, кто ест сверх меры, и те, что недоедают.
Как тех, так и других объединяет равнодушное, пренебрежительное,
невнимательное отношение к собственному телу и задаче установления гармонии
между ним и средой. Они не понимают, что в трапезе заключен один из высоких
смыслов человеческой жизни, и что обеденный стол способен обогатить личность
не меньше, чем самый прекрасный концерт, пейзаж или незаурядный поступок. И
так же, как не приученные к музыкальной гармонии уши слышат в изысканных
мелодиях лишь шум, так и за разнообразнейшим столом лишенному дара
чревоугодия дана лишь одна скудная возможность -- насытиться. Одна слепая
мысль -- "наедайся!" -- придет в голову такому человеку. Но сколь бедно,
сколь ничтожно это стремление по сравнению с теми возможностями, которые
таит наше чрево!
 Нет столь черствого человека, который бы хоть чем-то не бывал тронут.
Но, в то же время, мы не можем все принимать близко к сердцу, да и немногое
того заслуживает. Лишь сентиментальный иного мнения. Душа его трепещет,
когда остальные равнодушны; глаза полны слез, когда у других сухи. Нельзя не
порадоваться столь редкой чуткости. Но вот незадача: во всем этом больше
демонстраций, чем искренних переживаний.
Сентиментальными порывами стремятся умилостивить мир -- чтобы он стал
мягок и уступчив. Но кто действительно кроток и мягок, тому незачем взывать
к миру, требуя от него той же мягкости и податливости.
Сентиментальный невольно ищет зрителя, демонстрируя себя в трогательных
качествах. Этим он выдает в себе искусного обольстителя. Все для
сентиментальной души принимает ласкательно-уменьшительный вид; своей
растроганностью она ко всему снисходит. И этим, может быть невольно,
унижает.
Сентиментальность кем-то справедливо названа обратной стороной
злорадства, которое, кстати сказать, также выполняет свою полезную миссию.
Поскольку без зла нельзя определить, в чем состоит благо, постольку
радующийся злу предвещает грядущее добро. И потому следует приветствовать
проявления злорадства так же, как мы радуемся птичьим трелям, возвещающим
весну.
В отличие от злорадного, сентиментальный человек умиляется. Он
умиляется всему, что не доставляет ему забот, и что поэтому особенно сильно
трогает его чувствительное сердце. Вообще сентиментальность -- это
постоянная готовность взволноваться и умилиться. Так, сентиментальный
человек способен растрогаться самыми глупыми вещами. Это чрезвычайно
полезная для общества черта душевного склада. Без сентиментальности не
возникла бы благотворительность -- ни личная, ни государственная, и тогда
тысячи бедствий обрушились бы на низшие социальные слои. Не будь
сентиментальных людей, кто бы всем сердцем откликнулся на мероприятия
правительства, кто бы млел от лицезрения знаменитостей, на чьих бы глазах
выступали слезы счастья от воспоминаний об историческом прошлом? Поистине,
все остальные чувства -- лишь иссушенная пустыня по сравнению с
сентиментальностью, благотворно смягчающей климат общественной жизни.
Нет столь черствого человека, который бы хоть чем-то не бывал тронут.
Но, в то же время, мы не можем все принимать близко к сердцу, да и немногое
того заслуживает. Лишь сентиментальный иного мнения. Душа его трепещет,
когда остальные равнодушны; глаза полны слез, когда у других сухи. Нельзя не
порадоваться столь редкой чуткости. Но вот незадача: во всем этом больше
демонстраций, чем искренних переживаний.
Сентиментальными порывами стремятся умилостивить мир -- чтобы он стал
мягок и уступчив. Но кто действительно кроток и мягок, тому незачем взывать
к миру, требуя от него той же мягкости и податливости.
Сентиментальный невольно ищет зрителя, демонстрируя себя в трогательных
качествах. Этим он выдает в себе искусного обольстителя. Все для
сентиментальной души принимает ласкательно-уменьшительный вид; своей
растроганностью она ко всему снисходит. И этим, может быть невольно,
унижает.
Сентиментальность кем-то справедливо названа обратной стороной
злорадства, которое, кстати сказать, также выполняет свою полезную миссию.
Поскольку без зла нельзя определить, в чем состоит благо, постольку
радующийся злу предвещает грядущее добро. И потому следует приветствовать
проявления злорадства так же, как мы радуемся птичьим трелям, возвещающим
весну.
В отличие от злорадного, сентиментальный человек умиляется. Он
умиляется всему, что не доставляет ему забот, и что поэтому особенно сильно
трогает его чувствительное сердце. Вообще сентиментальность -- это
постоянная готовность взволноваться и умилиться. Так, сентиментальный
человек способен растрогаться самыми глупыми вещами. Это чрезвычайно
полезная для общества черта душевного склада. Без сентиментальности не
возникла бы благотворительность -- ни личная, ни государственная, и тогда
тысячи бедствий обрушились бы на низшие социальные слои. Не будь
сентиментальных людей, кто бы всем сердцем откликнулся на мероприятия
правительства, кто бы млел от лицезрения знаменитостей, на чьих бы глазах
выступали слезы счастья от воспоминаний об историческом прошлом? Поистине,
все остальные чувства -- лишь иссушенная пустыня по сравнению с
сентиментальностью, благотворно смягчающей климат общественной жизни.
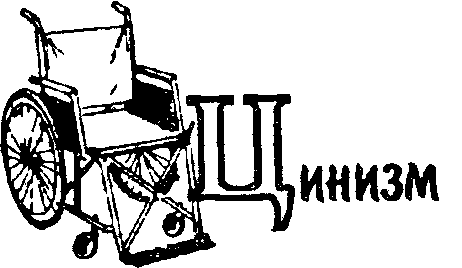 С мрачным предчувствием приступаю я к оправданию этого порока. Кажется
мне, что негодующие читатели именно в цинизме обвинят меня всего скорее. И
если мое предчувствие верно, получится тогда, что, оправдывая циника, я
выгораживаю себя. А это совершенно против моих правил, и я подумал даже, не
оставить ли мне циничность не освещенной, как будто и не существующей, тем
самым давая будущим критикам право наклеить на меня этот ярлык.
Да, так думал я, и совсем уже было склонился к этой мысли, но затем
устыдился собственного малодушия и сказал себе: "Даже если бы я был прав,
что ж из этого? Ведь циничность черта столь широко распространенная, что не
найдя ее благих сторон, я невольно огорчу всех тех многих, кому она присуща.
Разве это гражданственно?" И вот я решаюсь. Начнем.
Циничный человек -- это нравственный инвалид, жестоко пострадавший в
жизненных бурях. Только люди, склонные к благородству и великодушию, только
те, кто привыкли наивно и простодушно принимать окружающую действительность,
лишь бескорыстные и нежные натуры способны превратиться в подлинно глубоких
и последовательных циников.
Часто цинизм путают с пошлостью, и хотя известное родство во внешних
выражениях между ними есть, однако не менее глубоко и различие. Пошлость
закономерно присуща чрезвычайно самодовольному, уверенному в себе,
гарантированному существованию. Цинизм же всегда характеризует жизнь,
лишенную основы. Он сам, во многом, есть не что иное, как тоска за этой
основой и протяжный вой от ее отсутствия.
Потому-то и сказано, что подлинным циником может стать лишь человек,
глубоко и Полнокровно принимавший жизнь, возлагавший на нее светлые надежды,
и тем самым глубоко укорененный в ней. Крах этого счастливого приятия бытия
и есть утрата жизненной основы, ведущая к цинизму -- этой вечной и
безысходной тоске за утраченным. Лишь зная, что ты утратил, лишь мучимый
проклятыми, отвергнутыми, но бессознательно живущими воспоминаниями, человек
ощущает всю остроту страдания, его душевная боль достигает предела, а значит
до крайней степени своей беспощадности доходит цинизм.
Если бы государство лучше разбиралось в душах своих подданных, оно
устроило бы пансионаты для циников, где за ними ухаживали бы так же, как за
инвалидами, потерпевшими в боях за отечество. Ведь не что иное, как подлость
окружающей жизни сломила эти изначально чистые и склонные к благу натуры.
Да, может быть, они оказались недостаточно сильны и упорны, однако кто смеет
упрекнуть их за это?
Движимый порывом милосердия, предлагаю открыть фонд вспомоществования
циникам; эта мера будет достойным начинанием общественной
благотворительности. В качестве ее девиза предлагаю слова: "Не вы оказались
столь слабы, а жизнь была слишком немилосердна". Поддерживайте мой призыв!
И, как теперь стало модно завершать обращения к общественности, вносите
деньги на счет 12345 в Потеряйбанке.
С мрачным предчувствием приступаю я к оправданию этого порока. Кажется
мне, что негодующие читатели именно в цинизме обвинят меня всего скорее. И
если мое предчувствие верно, получится тогда, что, оправдывая циника, я
выгораживаю себя. А это совершенно против моих правил, и я подумал даже, не
оставить ли мне циничность не освещенной, как будто и не существующей, тем
самым давая будущим критикам право наклеить на меня этот ярлык.
Да, так думал я, и совсем уже было склонился к этой мысли, но затем
устыдился собственного малодушия и сказал себе: "Даже если бы я был прав,
что ж из этого? Ведь циничность черта столь широко распространенная, что не
найдя ее благих сторон, я невольно огорчу всех тех многих, кому она присуща.
Разве это гражданственно?" И вот я решаюсь. Начнем.
Циничный человек -- это нравственный инвалид, жестоко пострадавший в
жизненных бурях. Только люди, склонные к благородству и великодушию, только
те, кто привыкли наивно и простодушно принимать окружающую действительность,
лишь бескорыстные и нежные натуры способны превратиться в подлинно глубоких
и последовательных циников.
Часто цинизм путают с пошлостью, и хотя известное родство во внешних
выражениях между ними есть, однако не менее глубоко и различие. Пошлость
закономерно присуща чрезвычайно самодовольному, уверенному в себе,
гарантированному существованию. Цинизм же всегда характеризует жизнь,
лишенную основы. Он сам, во многом, есть не что иное, как тоска за этой
основой и протяжный вой от ее отсутствия.
Потому-то и сказано, что подлинным циником может стать лишь человек,
глубоко и Полнокровно принимавший жизнь, возлагавший на нее светлые надежды,
и тем самым глубоко укорененный в ней. Крах этого счастливого приятия бытия
и есть утрата жизненной основы, ведущая к цинизму -- этой вечной и
безысходной тоске за утраченным. Лишь зная, что ты утратил, лишь мучимый
проклятыми, отвергнутыми, но бессознательно живущими воспоминаниями, человек
ощущает всю остроту страдания, его душевная боль достигает предела, а значит
до крайней степени своей беспощадности доходит цинизм.
Если бы государство лучше разбиралось в душах своих подданных, оно
устроило бы пансионаты для циников, где за ними ухаживали бы так же, как за
инвалидами, потерпевшими в боях за отечество. Ведь не что иное, как подлость
окружающей жизни сломила эти изначально чистые и склонные к благу натуры.
Да, может быть, они оказались недостаточно сильны и упорны, однако кто смеет
упрекнуть их за это?
Движимый порывом милосердия, предлагаю открыть фонд вспомоществования
циникам; эта мера будет достойным начинанием общественной
благотворительности. В качестве ее девиза предлагаю слова: "Не вы оказались
столь слабы, а жизнь была слишком немилосердна". Поддерживайте мой призыв!
И, как теперь стало модно завершать обращения к общественности, вносите
деньги на счет 12345 в Потеряйбанке.
 Сластолюбие -- слово, несравненно беднее того смысла, который призвано
выразить. Слова живут самостоятельной жизнью. В них есть своя плотность и
свой цвет. Иногда звучание слова оказывается богаче содержанием, нежели его
смысл. Тогда оно само выходит на первый план, оставляя значение глубоко в
тени. Тогда речь употребляет музыкальность слова, а не вкладываемое в него
точное значение. И лучше бы такие слова называть нотами, или мелодиями.
Сластолюбие, к сожалению, не из их числа. Это слово лжет. Оно скорее
вызывает ассоциацию сластей, чем напоминает о сладострастных наслаждениях
жизни. Но, может быть, в этом несоответствии сказывается умное коварство
слова, его нежелание выдавать свою тайну и превращать в публичное и всем
доступное наиболее интимную и глубокую часть жизни? Кто знает...
Человеческий язык вообще несправедлив к любовным наслаждениям. Словно
нарочно, выражающие эту страсть слова двусмысленны и не заявляют своего
значения прямо. Они как будто скрываются в тени, оставаясь в ней смутными,
трудно угадываемыми силуэтами. Протяни к ним руку, попытайся нетерпеливо
стиснуть в кулак -- и словно тень Эвридики растают легкие видения, отлетая с
печальным криком в непроглядный мрак.
Природа сделала величайший дар людям, разделив человеческое существо на
два пола. В вожделении, ухаживании, любовной ласке и соитии кроется
величайшее наслаждение на свете. Уже этого одного достаточно, чтобы понять и
разделить страсть тех, кто стремится к этому наслаждению. Однако наслаждение
-- при всей глубине и упоительности этого чувства -- слишком простое слово,
чтобы выразить всю ту наполненность жизни, которую приобретает
сладострастный человек. Соединение мужского и женского начал -- это и
бесценный стимул существования, это поддержка в скорби и унынии, это
источник творческих сил, это глубочайшая радость бытия и может быть лучший
способ его познания. Все, что есть в жизни красочного, увлекательного,
трагического; все, что в ней дышит, манит, очаровывает, грозит; все, что
полно истомы, загадки, неги и торжества -- все это (загадки, прелести и силы
жизни) оживают и предстают в самом прекрасном и глубоком своем виде в
моменты близости мужчины и женщины. Кто отвернется от этого богатства, кто
осудит эту высшую породненность со всем сущим? Какой невежа воспротивится
священному призыву жизни, порождающей жизнь!
Впрочем, нет другого человеческого чувства, которое вызывало бы большие
споры, разногласия и непримиримость мнений. Деспотичные, тупые, склонные к
самодурству натуры с особой яростью ощущают в себе проснувшееся вожделение.
Привыкшие над всеми властвовать, всему предписывать свою мерку, они
ненавидят силу, которая сама овладевает ими и властно увлекает их за собой.
Слабый, неуверенный в себе, обделенный природой человек страдает,
ощущая призыв своей плоти. Чем сильнее он жаждет, тем глубже отчаивается. И
от этой неразделенной страсти он впадает в исступление и готов проклясть то,
о чем мечтает сильнее всего и что наполняет его грезы.
"Взыграла похоть", -- трепещет аскет, когда его протестующее против
искусственных обязательств тело заявляет о себе. Разве не такие аскеты все
те, кто установил себе или бессознательно принял систему искусственных норм,
которыми он пытается укротить то, что всего сильнее на свете? Он скрежещет
зубами в слепом напряжении, и творит истовые заклинания, и надевает тяжкие
вериги, дабы изнурить свою плоть и тем охранить ее от соблазнов
сладострастия. Но не в силах спастись несчастный. Не лукавый, не телесный
изъян, не душевная извращенность заявляет себя в сладострастном вожделении.
Это требует своего жизнь; и нет живого существа, способного противиться ее
могучему зову.
Презирающие сластолюбие как нечто постыдное и нечистое, не понимают,
что наслаждение, которому предаются со вкусом и глубиной чувства, не менее
целомудренно, чем самое суровое воздержание. Не душа -- а тело, самая
таинственная, великая и мудрая часть человеческого существа. В жизни плоти
скрыты сокровеннейшие источники творчества, разума и счастья. И там же
истоки величайших трагедий, печалей и бед. В теле таится уникальная
возможность ощущения жизни и открытия ее загадок. И потому сластолюбие --
самое острое ощущение жизненности.
Острой, чуткой, проясненной становится впечатлительность человека. Все
его существо, каждая клеточка дышит окружающим миром: вдыхая его краски,
события, запахи, звуки, вкус. Опьянение жизнью делает невозможным расчет и
заставляет каждого повиноваться лишь самому себе. И если суждены смертному
мгновения счастья и упоения, они наступают в тот миг, когда мы поглощены
стихией сладострастия.
Сластолюбие -- слово, несравненно беднее того смысла, который призвано
выразить. Слова живут самостоятельной жизнью. В них есть своя плотность и
свой цвет. Иногда звучание слова оказывается богаче содержанием, нежели его
смысл. Тогда оно само выходит на первый план, оставляя значение глубоко в
тени. Тогда речь употребляет музыкальность слова, а не вкладываемое в него
точное значение. И лучше бы такие слова называть нотами, или мелодиями.
Сластолюбие, к сожалению, не из их числа. Это слово лжет. Оно скорее
вызывает ассоциацию сластей, чем напоминает о сладострастных наслаждениях
жизни. Но, может быть, в этом несоответствии сказывается умное коварство
слова, его нежелание выдавать свою тайну и превращать в публичное и всем
доступное наиболее интимную и глубокую часть жизни? Кто знает...
Человеческий язык вообще несправедлив к любовным наслаждениям. Словно
нарочно, выражающие эту страсть слова двусмысленны и не заявляют своего
значения прямо. Они как будто скрываются в тени, оставаясь в ней смутными,
трудно угадываемыми силуэтами. Протяни к ним руку, попытайся нетерпеливо
стиснуть в кулак -- и словно тень Эвридики растают легкие видения, отлетая с
печальным криком в непроглядный мрак.
Природа сделала величайший дар людям, разделив человеческое существо на
два пола. В вожделении, ухаживании, любовной ласке и соитии кроется
величайшее наслаждение на свете. Уже этого одного достаточно, чтобы понять и
разделить страсть тех, кто стремится к этому наслаждению. Однако наслаждение
-- при всей глубине и упоительности этого чувства -- слишком простое слово,
чтобы выразить всю ту наполненность жизни, которую приобретает
сладострастный человек. Соединение мужского и женского начал -- это и
бесценный стимул существования, это поддержка в скорби и унынии, это
источник творческих сил, это глубочайшая радость бытия и может быть лучший
способ его познания. Все, что есть в жизни красочного, увлекательного,
трагического; все, что в ней дышит, манит, очаровывает, грозит; все, что
полно истомы, загадки, неги и торжества -- все это (загадки, прелести и силы
жизни) оживают и предстают в самом прекрасном и глубоком своем виде в
моменты близости мужчины и женщины. Кто отвернется от этого богатства, кто
осудит эту высшую породненность со всем сущим? Какой невежа воспротивится
священному призыву жизни, порождающей жизнь!
Впрочем, нет другого человеческого чувства, которое вызывало бы большие
споры, разногласия и непримиримость мнений. Деспотичные, тупые, склонные к
самодурству натуры с особой яростью ощущают в себе проснувшееся вожделение.
Привыкшие над всеми властвовать, всему предписывать свою мерку, они
ненавидят силу, которая сама овладевает ими и властно увлекает их за собой.
Слабый, неуверенный в себе, обделенный природой человек страдает,
ощущая призыв своей плоти. Чем сильнее он жаждет, тем глубже отчаивается. И
от этой неразделенной страсти он впадает в исступление и готов проклясть то,
о чем мечтает сильнее всего и что наполняет его грезы.
"Взыграла похоть", -- трепещет аскет, когда его протестующее против
искусственных обязательств тело заявляет о себе. Разве не такие аскеты все
те, кто установил себе или бессознательно принял систему искусственных норм,
которыми он пытается укротить то, что всего сильнее на свете? Он скрежещет
зубами в слепом напряжении, и творит истовые заклинания, и надевает тяжкие
вериги, дабы изнурить свою плоть и тем охранить ее от соблазнов
сладострастия. Но не в силах спастись несчастный. Не лукавый, не телесный
изъян, не душевная извращенность заявляет себя в сладострастном вожделении.
Это требует своего жизнь; и нет живого существа, способного противиться ее
могучему зову.
Презирающие сластолюбие как нечто постыдное и нечистое, не понимают,
что наслаждение, которому предаются со вкусом и глубиной чувства, не менее
целомудренно, чем самое суровое воздержание. Не душа -- а тело, самая
таинственная, великая и мудрая часть человеческого существа. В жизни плоти
скрыты сокровеннейшие источники творчества, разума и счастья. И там же
истоки величайших трагедий, печалей и бед. В теле таится уникальная
возможность ощущения жизни и открытия ее загадок. И потому сластолюбие --
самое острое ощущение жизненности.
Острой, чуткой, проясненной становится впечатлительность человека. Все
его существо, каждая клеточка дышит окружающим миром: вдыхая его краски,
события, запахи, звуки, вкус. Опьянение жизнью делает невозможным расчет и
заставляет каждого повиноваться лишь самому себе. И если суждены смертному
мгновения счастья и упоения, они наступают в тот миг, когда мы поглощены
стихией сладострастия.
 Безвольный подобен снулой рыбе, которая судорожно открывает рот и, не в
силах удержаться в естественном положении, то и дело переворачивается кверху
брюхом, беспомощно пошевеливая плавниками.
Желание безвольного человека угасает раньше, чем превратится в
определенное намерение, подкрепленное действием. Подобно слабым огням
зажигаются и тут же гаснут побуждения, в самый ответственный момент дела
душой овладевают колебания и сомнения, принятое решение так и остается
навсегда лишь мыслью, а когда результат все же случайно достигнут,
безвольного охватывает апатия и отвращение к обретенному. Когда надо
действовать -- безвольный уклоняется. Когда же событие свершилось, приняв
нежелательный поворот -- он сетует на нерасторопность других и выставляет
себя провидцем. Тот, в ком воля слаба, любит также угрожать и поучать, и
делает это тем охотнее, чем решительнее требуется действовать. Безвольный
человек находится в вечном смятении, постоянно одолевают его тревоги,
неуверенность и покорность, и чаще всего чувствует он себя обреченным.
Однако эти же состояния, тяжко обременяющие душевную жизнь безвольного
человека, делают его неспособным к активному злу. Ему попросту не хватает
необходимой для злого дела целеустремленности. Часто безвольный человек
вообще отрешается от всех дел мира и, неспособный к деяниям, отдается
движению жизненной стихии и лишь созерцает происходящее. Постепенно
увиденное откладывается в нем слой за слоем и так -- нежданно-негаданно --
складываются в душе наслоения богатого жизненного опыта. Именно потому, что
безвольный не склонен к предприимчивости, самоутверждению и вмешательству в
ход дел, он становится великолепным и внимательным свидетелем. Случайный
собеседник, с удивлением открывающий в другом кладезь ярких жизненных
впечатлений и мудрых наблюдений, редко догадается, что источником этого
сокровища явилось прежде всего бессилие воли.
Из безвольных людей вырастают осторожные, мудрые, надежные советчики.
Люди любят давать советы, но обычно они совершенно бездарны, ибо выражают
индивидуальный опыт, не облагороженный размышлением. Такие советы еще
бессмысленнее, чем могли бы быть, поскольку люди дают их с той степенью
уверенности и безапелляционности, с какой они никогда не поступали в своей
жизни. Ведь советуя, они ни за что в конечном свете не отвечают.
Безвольный человек -- счастливое исключение в ряду ретивых советчиков.
Во-первых, потому что опыт его -- след вершившийся вокруг него жизни, а не
результат собственного самоутверждения, которое делает личность чрезвычайно
предвзятой. Во-вторых, советы являются для него чуть ли не единственным
жизненным действием -- в них он проявляет себя и к ним, поэтому, относится
предельно ответственно. Вообще грустно думать о безвольном человеке. В нем
живет самое печальное одиночество. И лучшим оправданием безволию служит то
естественное чувство сожаления, которое охватывает душу при мысли о
безвольной натуре. Ведь все, что вызывает жалость, достойно нежности и
любви.
Безвольный подобен снулой рыбе, которая судорожно открывает рот и, не в
силах удержаться в естественном положении, то и дело переворачивается кверху
брюхом, беспомощно пошевеливая плавниками.
Желание безвольного человека угасает раньше, чем превратится в
определенное намерение, подкрепленное действием. Подобно слабым огням
зажигаются и тут же гаснут побуждения, в самый ответственный момент дела
душой овладевают колебания и сомнения, принятое решение так и остается
навсегда лишь мыслью, а когда результат все же случайно достигнут,
безвольного охватывает апатия и отвращение к обретенному. Когда надо
действовать -- безвольный уклоняется. Когда же событие свершилось, приняв
нежелательный поворот -- он сетует на нерасторопность других и выставляет
себя провидцем. Тот, в ком воля слаба, любит также угрожать и поучать, и
делает это тем охотнее, чем решительнее требуется действовать. Безвольный
человек находится в вечном смятении, постоянно одолевают его тревоги,
неуверенность и покорность, и чаще всего чувствует он себя обреченным.
Однако эти же состояния, тяжко обременяющие душевную жизнь безвольного
человека, делают его неспособным к активному злу. Ему попросту не хватает
необходимой для злого дела целеустремленности. Часто безвольный человек
вообще отрешается от всех дел мира и, неспособный к деяниям, отдается
движению жизненной стихии и лишь созерцает происходящее. Постепенно
увиденное откладывается в нем слой за слоем и так -- нежданно-негаданно --
складываются в душе наслоения богатого жизненного опыта. Именно потому, что
безвольный не склонен к предприимчивости, самоутверждению и вмешательству в
ход дел, он становится великолепным и внимательным свидетелем. Случайный
собеседник, с удивлением открывающий в другом кладезь ярких жизненных
впечатлений и мудрых наблюдений, редко догадается, что источником этого
сокровища явилось прежде всего бессилие воли.
Из безвольных людей вырастают осторожные, мудрые, надежные советчики.
Люди любят давать советы, но обычно они совершенно бездарны, ибо выражают
индивидуальный опыт, не облагороженный размышлением. Такие советы еще
бессмысленнее, чем могли бы быть, поскольку люди дают их с той степенью
уверенности и безапелляционности, с какой они никогда не поступали в своей
жизни. Ведь советуя, они ни за что в конечном свете не отвечают.
Безвольный человек -- счастливое исключение в ряду ретивых советчиков.
Во-первых, потому что опыт его -- след вершившийся вокруг него жизни, а не
результат собственного самоутверждения, которое делает личность чрезвычайно
предвзятой. Во-вторых, советы являются для него чуть ли не единственным
жизненным действием -- в них он проявляет себя и к ним, поэтому, относится
предельно ответственно. Вообще грустно думать о безвольном человеке. В нем
живет самое печальное одиночество. И лучшим оправданием безволию служит то
естественное чувство сожаления, которое охватывает душу при мысли о
безвольной натуре. Ведь все, что вызывает жалость, достойно нежности и
любви.
 В угоднике каждый находит себя. Нет, не поймите меня в том смысле, что
я каждого обвиняю в угодничестве. Речь о том, что угодник продолжает наше
собственное "я". Послушно следуя прихотливым изгибам нашего нрава, он являет
полную картину собственного характера каждого. Великая ценность такого
изображения состоит в том, что оно поставлено перед нашими глазами и
требуется лишь небольшое желание, чтобы рассмотреть себя во всех
подробностях.
Напрасно думают, что угодничество рождается лишь из безволия и
трусости. Нет, для искусного угождения требуются решительность, ум и
мужество. Ведь натуры людей чрезвычайно разнообразны и распознать их
нелегко. Угоднику необходимо точно определить, в чем таится душевная
склонность избранной персоны. И тут уж, определив, угодник должен
действовать смело и без колебаний -- иначе выгодный момент будет упущен.
Достичь успеха в угождении способен лишь тот, кто умеет быстро и безошибочно
распознавать свойства людей.
В протяжении веков мудрецы бились над проблемой того, как человеку
выявить собственную сущность: как сделать ясным то, что всегда скрыто от
нашего взора, но что неизменно присутствует во всяком движении души и в
любом действии. Однако до сих пор вполне однозначного и совершенно надежного
способа не выработано, и потому каждый может лишь догадываться о своем "я",
бесконечно обманываясь на свой счет. Если же счастливец и узнает свой
истинный облик, то достигает этого тяжким трудом и малоприятными
испытаниями. И ох как часто достигнутое его не радует
Угодник избавляет нас от всех этих забот. Он просто замечательное
открытие -- нежданная находка для всех, кто хочет узнать себя и к тому же не
очень этим огорчиться. Угодливый избавляет нас от всех трудов самопознания;
благодаря ему можно не корпеть годами над мудростью веков, покрываясь пылью
и под конец -- о горесть -- узнавая в себе нечто малолестное. Даже самому
глупому не составляет труда узнать себя и свои черты в том портрете, который
составляет угодник. Он -- наше правдивое зеркало; готовое скорее разбиться
на куски, чем солгать. Любая прихоть угождаемого -- закон для него; он
никогда не преступит его, чтобы взамен следовать собственным повадкам.
Редкий подвиг самоотречения являет нам искусчый угодник!
В угоднике каждый находит себя. Нет, не поймите меня в том смысле, что
я каждого обвиняю в угодничестве. Речь о том, что угодник продолжает наше
собственное "я". Послушно следуя прихотливым изгибам нашего нрава, он являет
полную картину собственного характера каждого. Великая ценность такого
изображения состоит в том, что оно поставлено перед нашими глазами и
требуется лишь небольшое желание, чтобы рассмотреть себя во всех
подробностях.
Напрасно думают, что угодничество рождается лишь из безволия и
трусости. Нет, для искусного угождения требуются решительность, ум и
мужество. Ведь натуры людей чрезвычайно разнообразны и распознать их
нелегко. Угоднику необходимо точно определить, в чем таится душевная
склонность избранной персоны. И тут уж, определив, угодник должен
действовать смело и без колебаний -- иначе выгодный момент будет упущен.
Достичь успеха в угождении способен лишь тот, кто умеет быстро и безошибочно
распознавать свойства людей.
В протяжении веков мудрецы бились над проблемой того, как человеку
выявить собственную сущность: как сделать ясным то, что всегда скрыто от
нашего взора, но что неизменно присутствует во всяком движении души и в
любом действии. Однако до сих пор вполне однозначного и совершенно надежного
способа не выработано, и потому каждый может лишь догадываться о своем "я",
бесконечно обманываясь на свой счет. Если же счастливец и узнает свой
истинный облик, то достигает этого тяжким трудом и малоприятными
испытаниями. И ох как часто достигнутое его не радует
Угодник избавляет нас от всех этих забот. Он просто замечательное
открытие -- нежданная находка для всех, кто хочет узнать себя и к тому же не
очень этим огорчиться. Угодливый избавляет нас от всех трудов самопознания;
благодаря ему можно не корпеть годами над мудростью веков, покрываясь пылью
и под конец -- о горесть -- узнавая в себе нечто малолестное. Даже самому
глупому не составляет труда узнать себя и свои черты в том портрете, который
составляет угодник. Он -- наше правдивое зеркало; готовое скорее разбиться
на куски, чем солгать. Любая прихоть угождаемого -- закон для него; он
никогда не преступит его, чтобы взамен следовать собственным повадкам.
Редкий подвиг самоотречения являет нам искусчый угодник!
 Низшей, презренной формой угодничества считается подхалимство. Кажется,
нет той степени пренебрежения собственным достоинством, до которой не
опустится подхалим. Заискиванием перед вышестоящим пронизано все его
поведение, каждый шаг и жест, слово и взгляд.
Вопреки распространенному мнению, подхалим вовсе не бездарность, только
и способная тешить самолюбие того, перед кем пресмыкается. Умение вести себя
подобострастно -- немалое искусство, заключающее в себе своеобразный талант
угодливого человека.
Подхалим подобен некоторым рыбам южных морей. Эти рыбы ухитряются
менять пол в зависимости от перемены ситуации. Если, например, умирает
самец, возглавлявший рыбий гарем, то одна из наиболее активных самок
превращается в самца и начинает верховодить над своими бывшими подругами. У
нее изменяются половые органы, она распоряжается самками и приобретает все
мужские повадки. Так и подхалим готов занять место того, чьи достоинства
превозносит. Своей лестью он заранее осваивается с положением и привыкает к
тем качествам, которые этому положению приличествуют.
Так что каждый, кто видит умелого подхалима, пусть знает: перед вами --
тайный властелин. Не упускайте случая заручиться его благосклонностью. Хотя
снискать искреннее расположение подхалима почти невозможно. Таков парадокс
этой натуры. Многое обещая, она ничего не отдает.
Низшей, презренной формой угодничества считается подхалимство. Кажется,
нет той степени пренебрежения собственным достоинством, до которой не
опустится подхалим. Заискиванием перед вышестоящим пронизано все его
поведение, каждый шаг и жест, слово и взгляд.
Вопреки распространенному мнению, подхалим вовсе не бездарность, только
и способная тешить самолюбие того, перед кем пресмыкается. Умение вести себя
подобострастно -- немалое искусство, заключающее в себе своеобразный талант
угодливого человека.
Подхалим подобен некоторым рыбам южных морей. Эти рыбы ухитряются
менять пол в зависимости от перемены ситуации. Если, например, умирает
самец, возглавлявший рыбий гарем, то одна из наиболее активных самок
превращается в самца и начинает верховодить над своими бывшими подругами. У
нее изменяются половые органы, она распоряжается самками и приобретает все
мужские повадки. Так и подхалим готов занять место того, чьи достоинства
превозносит. Своей лестью он заранее осваивается с положением и привыкает к
тем качествам, которые этому положению приличествуют.
Так что каждый, кто видит умелого подхалима, пусть знает: перед вами --
тайный властелин. Не упускайте случая заручиться его благосклонностью. Хотя
снискать искреннее расположение подхалима почти невозможно. Таков парадокс
этой натуры. Многое обещая, она ничего не отдает.
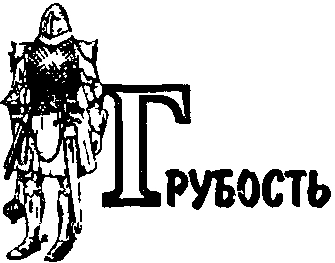 Грубый -- значит необработанный, необтертый, не пригнанный под
определенную мерку. Если так, то всякое проявление талантливости, и других
человеческих качеств, неминуемо выходящее за рамки обычного, следует счесть
грубостью. Ведь все выдающееся невольно унижает заурядность и пренебрегает
ее обыкновением. Разве не оскорблением заурядной натуры выглядит любое
проявление самобытной, яркой, оригинальной способности?
Грубиян поневоле стесняет окружающих. Он не стремится причинить им
вред, не желает унизить или оскорбить. Грубость отнюдь не тождественна
наглости или жестокости, хотя нередко приводит к бесцеремонным и уязвляющим
поступкам. Грубиян не стремится к злу, хотя часто его причиняет. Грубый
человек просто остается самим собой, он поступает в соответствии со
свойствами своей личности, он не умеет брать в расчет ни особенностей людей,
ни реальных обстоятельств. Единственный недостаток грубияна состоит в этой
простоте: в наивной неотесанной уверенности, что кроме него в мире никого
нет; или, по крайней мере, никого и ничего, с чем стоило бы сообразоваться.
Грубость, следовательно, проявление своего рода душевной близорукости.
В ней заключено безразличное отношение, не отличающее одно от другого, не
способное учесть своеобразия действительности. Однако эта же особенность
грубости выдает и своеобразное обаяние грубияна. Грубый человек -- сама
непосредственность (хотя нередко и обременительная). Он не умеет быть
приспособленцем. В нашем мире людей, поднаторевших в использовании масок,
безыскусность грубияна производит странное, но выгодное впечатление.
Кто груб, тот беспечен. А может быть и храбр. Ведь всякий человек
относится к жизни с вполне понятной осторожностью и даже опаской. Только
грубиян не замечает непростого норова окружающей реальности и совершенно
игнорирует его. Неудержимая схваченность собственной натурой, у которой он
оказывается в плену -- вот главное, что отличает грубого человека. Притом,
как следует из данного определения, подлинным грубияном может быть и тот,
кто не произнес ни одного бранного слова.
Неспособность грубияна прибегать к искусственным средствам
самоутверждения, которые давно стали обиходными для подавляющего
большинства, способна растрогать самого равнодушного. Грубияну претит
переступать через себя, прибегать к хитрости и лицемерию. Он стесняется
"делать вид", он органически не способен выражать то, что не является для
него естественным. Замечательное и для многих удивительное сочетание
грубости и застенчивости отнюдь не является случайным, а составляет, как мы
видим, закономерность жизни грубияна. Ведь грубиян, это тот, кто "не умеет
себя вести", кто может быть только самим собой, а не соблюдать установленный
порядок и следовать общепринятым манерам. Чувствуя эту свою неумелость,
грубиян, естественно, смущается; и тогда, чтобы не показаться смешным,
становится резок. Наиболее отчаянные вспышки грубости как раз и возникают из
ощущения нескладности собственного поведения и возникшего отсюда душевного
смятения.
Из приведенной характеристики грубости вытекают многие особенности
поведения грубияна. Так, грубый человек нетерпим к фальши и лицемерию. У
него чрезвычайно своеобразное отношение к "хорошему". Он считает, что обо
всем хорошем, проникновенном, нежном не говорят, ибо слово -- публично, а
все лучшее в человеке -- глубоко интимно. Все достойное находится внутри
нас, и там, не извлеченное на свет, не потревоженное словами, сокрытое, оно
и должно оставаться. Говорить можно лишь о повседневном, будничном, внешнем,
нежность же следует хранить в душе, полагает грубиян. Несомненно, грубой
натуре присуще в чем-то очень романтическое видение мира!
Из грубиянов нередко получаются прекрасные друзья. Вежливый,
предупредительный человек имеет очевидное преимущество перед грубым. И
все-таки: кого Бог хочет лишить друзей, того он наделяет неистребимой
вежливостью. Более всего вежливый человек боится побеспокоить и уязвить
другого, отчего он редко бывает вполне искренним. Он подчиняет свое
поведение требованиям хороших манер, а не собственным побуждениям и порывам.
Вследствие этого дружеские отношения лишаются непосредственности и столь
необходимых в дружбе искренности и самоотверженности. Напротив, грубиян
скорее готов разрушить сами дружеские отношения, чем изменить идее дружбы, в
основе которой лежит самоотверженная и бескорыстная забота о другом.
Друг-грубиян блюдет лучшее в нас вернее, чем мы сами. Дружески приняв наше
"я", он отстаивает его самоотверженно и упорно перед всем миром -- даже
перед нашими попытками изменить себе. Оттого грубиян весьма ценен в дружбе.
Берите грубиянов в друзья!
Грубости нельзя поддаваться, но к ней можно снисходить. Снисходить
очень простым способом: не обращая на нее внимания, не замечая ее вопиющей
бесцеремонности. Принимайте в расчет только чистое содержание того, что
предлагает грубая натура, игнорируя оскорбительную форму. Грубиян тяготеет к
демонстративности. Ваше же воздержанное поведение его обескуражит и,
лишенный противодействия, необходимого для возрастания грубости, он сникнет.
Спокойная независимость другого человека укрощает грубияна лучше всего.
Неприятная сторона грубости выражается в том, что природный грубиян
всегда чувствует свое превосходство над окружающим. Из этого ощущения
рождается пренебрежение ко всему, что попадается на глаза. Кто раз
подчинился грубости, тот подпал под отношения превосходства и подчинения.
Тогда грубые наклонности диктуют свое все безудержнее, в результате чего
поступки грубияна давят и уничтожают достоинство личности. Из этого
неизбежно возникает отчаянный протест живого существа, желающего сохранить
себя. Доведенные до предельного напряжения, отношения рвутся со скандалом,
горем, нередко завершаясь трагедией. Словом, безудержная грубость ведет к
беде. И оттого относитесь к грубияну терпимо, сдержанно -- но непреклонно.
Не пасуйте перед ним, и не отвечайте резкостью, примите его грубость как
бессмыслицу, как абсурдный поступок невменяемого существа. Поверьте, сам
грубиян будет Вам благодарен за столь нежное отношение, и отзовется на него
грубоватой, несколько бесцеремонной, но искренней преданностью.
Грубый -- значит необработанный, необтертый, не пригнанный под
определенную мерку. Если так, то всякое проявление талантливости, и других
человеческих качеств, неминуемо выходящее за рамки обычного, следует счесть
грубостью. Ведь все выдающееся невольно унижает заурядность и пренебрегает
ее обыкновением. Разве не оскорблением заурядной натуры выглядит любое
проявление самобытной, яркой, оригинальной способности?
Грубиян поневоле стесняет окружающих. Он не стремится причинить им
вред, не желает унизить или оскорбить. Грубость отнюдь не тождественна
наглости или жестокости, хотя нередко приводит к бесцеремонным и уязвляющим
поступкам. Грубиян не стремится к злу, хотя часто его причиняет. Грубый
человек просто остается самим собой, он поступает в соответствии со
свойствами своей личности, он не умеет брать в расчет ни особенностей людей,
ни реальных обстоятельств. Единственный недостаток грубияна состоит в этой
простоте: в наивной неотесанной уверенности, что кроме него в мире никого
нет; или, по крайней мере, никого и ничего, с чем стоило бы сообразоваться.
Грубость, следовательно, проявление своего рода душевной близорукости.
В ней заключено безразличное отношение, не отличающее одно от другого, не
способное учесть своеобразия действительности. Однако эта же особенность
грубости выдает и своеобразное обаяние грубияна. Грубый человек -- сама
непосредственность (хотя нередко и обременительная). Он не умеет быть
приспособленцем. В нашем мире людей, поднаторевших в использовании масок,
безыскусность грубияна производит странное, но выгодное впечатление.
Кто груб, тот беспечен. А может быть и храбр. Ведь всякий человек
относится к жизни с вполне понятной осторожностью и даже опаской. Только
грубиян не замечает непростого норова окружающей реальности и совершенно
игнорирует его. Неудержимая схваченность собственной натурой, у которой он
оказывается в плену -- вот главное, что отличает грубого человека. Притом,
как следует из данного определения, подлинным грубияном может быть и тот,
кто не произнес ни одного бранного слова.
Неспособность грубияна прибегать к искусственным средствам
самоутверждения, которые давно стали обиходными для подавляющего
большинства, способна растрогать самого равнодушного. Грубияну претит
переступать через себя, прибегать к хитрости и лицемерию. Он стесняется
"делать вид", он органически не способен выражать то, что не является для
него естественным. Замечательное и для многих удивительное сочетание
грубости и застенчивости отнюдь не является случайным, а составляет, как мы
видим, закономерность жизни грубияна. Ведь грубиян, это тот, кто "не умеет
себя вести", кто может быть только самим собой, а не соблюдать установленный
порядок и следовать общепринятым манерам. Чувствуя эту свою неумелость,
грубиян, естественно, смущается; и тогда, чтобы не показаться смешным,
становится резок. Наиболее отчаянные вспышки грубости как раз и возникают из
ощущения нескладности собственного поведения и возникшего отсюда душевного
смятения.
Из приведенной характеристики грубости вытекают многие особенности
поведения грубияна. Так, грубый человек нетерпим к фальши и лицемерию. У
него чрезвычайно своеобразное отношение к "хорошему". Он считает, что обо
всем хорошем, проникновенном, нежном не говорят, ибо слово -- публично, а
все лучшее в человеке -- глубоко интимно. Все достойное находится внутри
нас, и там, не извлеченное на свет, не потревоженное словами, сокрытое, оно
и должно оставаться. Говорить можно лишь о повседневном, будничном, внешнем,
нежность же следует хранить в душе, полагает грубиян. Несомненно, грубой
натуре присуще в чем-то очень романтическое видение мира!
Из грубиянов нередко получаются прекрасные друзья. Вежливый,
предупредительный человек имеет очевидное преимущество перед грубым. И
все-таки: кого Бог хочет лишить друзей, того он наделяет неистребимой
вежливостью. Более всего вежливый человек боится побеспокоить и уязвить
другого, отчего он редко бывает вполне искренним. Он подчиняет свое
поведение требованиям хороших манер, а не собственным побуждениям и порывам.
Вследствие этого дружеские отношения лишаются непосредственности и столь
необходимых в дружбе искренности и самоотверженности. Напротив, грубиян
скорее готов разрушить сами дружеские отношения, чем изменить идее дружбы, в
основе которой лежит самоотверженная и бескорыстная забота о другом.
Друг-грубиян блюдет лучшее в нас вернее, чем мы сами. Дружески приняв наше
"я", он отстаивает его самоотверженно и упорно перед всем миром -- даже
перед нашими попытками изменить себе. Оттого грубиян весьма ценен в дружбе.
Берите грубиянов в друзья!
Грубости нельзя поддаваться, но к ней можно снисходить. Снисходить
очень простым способом: не обращая на нее внимания, не замечая ее вопиющей
бесцеремонности. Принимайте в расчет только чистое содержание того, что
предлагает грубая натура, игнорируя оскорбительную форму. Грубиян тяготеет к
демонстративности. Ваше же воздержанное поведение его обескуражит и,
лишенный противодействия, необходимого для возрастания грубости, он сникнет.
Спокойная независимость другого человека укрощает грубияна лучше всего.
Неприятная сторона грубости выражается в том, что природный грубиян
всегда чувствует свое превосходство над окружающим. Из этого ощущения
рождается пренебрежение ко всему, что попадается на глаза. Кто раз
подчинился грубости, тот подпал под отношения превосходства и подчинения.
Тогда грубые наклонности диктуют свое все безудержнее, в результате чего
поступки грубияна давят и уничтожают достоинство личности. Из этого
неизбежно возникает отчаянный протест живого существа, желающего сохранить
себя. Доведенные до предельного напряжения, отношения рвутся со скандалом,
горем, нередко завершаясь трагедией. Словом, безудержная грубость ведет к
беде. И оттого относитесь к грубияну терпимо, сдержанно -- но непреклонно.
Не пасуйте перед ним, и не отвечайте резкостью, примите его грубость как
бессмыслицу, как абсурдный поступок невменяемого существа. Поверьте, сам
грубиян будет Вам благодарен за столь нежное отношение, и отзовется на него
грубоватой, несколько бесцеремонной, но искренней преданностью.
 Хитрец подобен канатоходцу, шагающему по проволоке высоко над толпой.
Ловкость его вызывает естественное восхищение, к которому примешивается
немалая доля страха от действия, происходящего в высоте. Толпа замирает,
трепещет, ужасается, она вся в напряжении, и при каждом удачном прыжке
гимнаста разражается восторженными криками.
Хитрец точно так же балансирует на острых и непредсказуемых гранях
жизненных событий, отважно и бестрепетно вступая в рискованное состязание с
обстоятельствами, людьми и различными могущественными силами (история знает
хитрецов, пытавшихся провести даже смерть). Уже одной этой отвагой и силой
духа он не може
Хитрец подобен канатоходцу, шагающему по проволоке высоко над толпой.
Ловкость его вызывает естественное восхищение, к которому примешивается
немалая доля страха от действия, происходящего в высоте. Толпа замирает,
трепещет, ужасается, она вся в напряжении, и при каждом удачном прыжке
гимнаста разражается восторженными криками.
Хитрец точно так же балансирует на острых и непредсказуемых гранях
жизненных событий, отважно и бестрепетно вступая в рискованное состязание с
обстоятельствами, людьми и различными могущественными силами (история знает
хитрецов, пытавшихся провести даже смерть). Уже одной этой отвагой и силой
духа он не може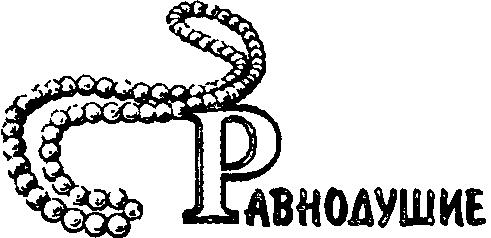 Равнодушный человек -- это тот, кто раз и навсегда оставил нас в покое.
Боже, окружи нас равнодушными людьми!
Они при любых обстоятельствах остаются невзыскательны к нашим
недостаткам; они игнорируют наши слабости и ошибки; они никогда не помешают
нам заниматься тем, что мы сами выбрали, и никогда -- слышите: никогда! --
не нарушат назойливым вниманием наше душевное равновесие -- столь редкое и
хрупкое достояние в нынешнее бурное время!
Мне жаль равнодушного -- этого столь достойного человека, никогда не
посягающего на нашу жизнь и не стремящегося подверстать ее под свою мерку.
Жаль, потому что равнодушие превращается в тяжкую душевную болезнь, развитие
которой приводит одержимого этим недугом к полнейшей безучастности ко всему.
Разросшееся равнодушие делает человека безучастным даже к самому себе. Он
оказывается по ту сторону всех происходящих на его глазах событий, и даже
коллизии собственной жизни не колеблют его безмятежности. Что, казалось бы,
проку в таком состоянии? Бесплодность и отрешенность его очевидны.
Однако именно потому, что силой своего душевного недуга безучастный
человек становится потусторонен миру, именно по этой причине он превращается
в идеального созерцателя действительности. Равнодушный -- искусный
наблюдатель чужого волнения и изощренный ценитель его. Собственная
бесстрастность помогает ему лучше угадывать тончайшие оттенки движений чужой
души. Оттого именно равнодушный человек, который по натуре своей не
испытывает к людям интереса, парадоксальным образом оказывается отменным
знатоком человеческих душ.
Из бесстрастности и природной успокоенности равнодушного рождается
беспристрастность -- столь редкое и ценное в человеческих отношениях
качество. Равнодушие, порождая беспристрастность, делает личность способной
к справедливым оценкам и хладнокровным решениям. Равнодушный человек
оказывается замечательным судьей в споре. Его холодность удачно остужает
горячность спорящих.
Однако не закралась ли в наше описание нелогичность? Ведь начали мы с
того, что восславили равнодушного за невмешательство в жизни людей. А теперь
приписали ему роль идеального судьи -- этого символа наиболее бесцеремонного
участия в человеческой судьбе. Впрочем, никакого противоречия в сказанном
нет. Равнодушный действительно не предпримет по своей инициативе ничего и не
станет вмешиваться в жизнь других. Иное дело, когда люди, подпавшие под
обаяние его беспристрастности, сами призывают его рассудить их или дать
совет. Ведь я не хочу сказать, что равнодушный человек лишен гордости, и
даже тщеславие бывает ему не чуждо. Оттого он, я полагаю, не без
удовольствия демонстрирует свой характер, занимая благодаря этому среди
людей почетное положение.
Редко к кому относятся столь хорошо, как к человеку последовательно
равнодушному и мало кто получает от окружающих такое уважение, как он.
Впрочем, и уважение людей, и достигнутое среди них почетное положение мало
беспокоят и мало вдохновляют его. Нехотя, играючи, отстраненно перебирает он
свое достояние, глядит на собственную жизненную участь удивленно, как будто
не с ним это все происходит. Через все, что творится вокруг него и что
творит сам равнодушный, проступает для него ощущение скуки. Никакая оценка
-- ни стояния. Тускло мерцает огонек чувств равнодушного человека, высшим
счастьем которого есть тихое удовлетворение, а вечным неотступным спутником
-- тоска.
Равнодушный человек -- это тот, кто раз и навсегда оставил нас в покое.
Боже, окружи нас равнодушными людьми!
Они при любых обстоятельствах остаются невзыскательны к нашим
недостаткам; они игнорируют наши слабости и ошибки; они никогда не помешают
нам заниматься тем, что мы сами выбрали, и никогда -- слышите: никогда! --
не нарушат назойливым вниманием наше душевное равновесие -- столь редкое и
хрупкое достояние в нынешнее бурное время!
Мне жаль равнодушного -- этого столь достойного человека, никогда не
посягающего на нашу жизнь и не стремящегося подверстать ее под свою мерку.
Жаль, потому что равнодушие превращается в тяжкую душевную болезнь, развитие
которой приводит одержимого этим недугом к полнейшей безучастности ко всему.
Разросшееся равнодушие делает человека безучастным даже к самому себе. Он
оказывается по ту сторону всех происходящих на его глазах событий, и даже
коллизии собственной жизни не колеблют его безмятежности. Что, казалось бы,
проку в таком состоянии? Бесплодность и отрешенность его очевидны.
Однако именно потому, что силой своего душевного недуга безучастный
человек становится потусторонен миру, именно по этой причине он превращается
в идеального созерцателя действительности. Равнодушный -- искусный
наблюдатель чужого волнения и изощренный ценитель его. Собственная
бесстрастность помогает ему лучше угадывать тончайшие оттенки движений чужой
души. Оттого именно равнодушный человек, который по натуре своей не
испытывает к людям интереса, парадоксальным образом оказывается отменным
знатоком человеческих душ.
Из бесстрастности и природной успокоенности равнодушного рождается
беспристрастность -- столь редкое и ценное в человеческих отношениях
качество. Равнодушие, порождая беспристрастность, делает личность способной
к справедливым оценкам и хладнокровным решениям. Равнодушный человек
оказывается замечательным судьей в споре. Его холодность удачно остужает
горячность спорящих.
Однако не закралась ли в наше описание нелогичность? Ведь начали мы с
того, что восславили равнодушного за невмешательство в жизни людей. А теперь
приписали ему роль идеального судьи -- этого символа наиболее бесцеремонного
участия в человеческой судьбе. Впрочем, никакого противоречия в сказанном
нет. Равнодушный действительно не предпримет по своей инициативе ничего и не
станет вмешиваться в жизнь других. Иное дело, когда люди, подпавшие под
обаяние его беспристрастности, сами призывают его рассудить их или дать
совет. Ведь я не хочу сказать, что равнодушный человек лишен гордости, и
даже тщеславие бывает ему не чуждо. Оттого он, я полагаю, не без
удовольствия демонстрирует свой характер, занимая благодаря этому среди
людей почетное положение.
Редко к кому относятся столь хорошо, как к человеку последовательно
равнодушному и мало кто получает от окружающих такое уважение, как он.
Впрочем, и уважение людей, и достигнутое среди них почетное положение мало
беспокоят и мало вдохновляют его. Нехотя, играючи, отстраненно перебирает он
свое достояние, глядит на собственную жизненную участь удивленно, как будто
не с ним это все происходит. Через все, что творится вокруг него и что
творит сам равнодушный, проступает для него ощущение скуки. Никакая оценка
-- ни стояния. Тускло мерцает огонек чувств равнодушного человека, высшим
счастьем которого есть тихое удовлетворение, а вечным неотступным спутником
-- тоска.
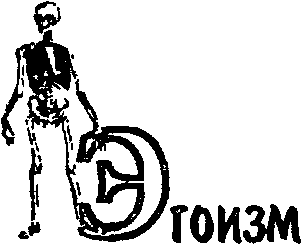 Эгоизм -- основа жизненных основ. Нет эгоизма -- нет человека. Причем,
благодаря эгоизму, каждый начинает существовать не только для себя, но и для
окружающих. Кто сам себя не замечает, на того и другие не обратят внимания.
Вопреки расхожему мнению, эгоист -- чрезвычайно приспособленное для
дружбы существо. Он с редкой непринужденностью принимает заботу о себе,
отчего заботящийся получает полное удовлетворение и возвышается в
собственных глазах. Люди совестливые и предупредительные нелегко принимают
заботу о себе; на всякое проявление внимания они стремятся ответить
сторицей. Это чрезвычайно хлопотная в общении вещь; и она вдвойне досадна в
общении дружеском. Эгоист, к счастью, начисто лишен подобного недостатка.
Он, следовательно, способствует росту чужого самоуважения и гордости. Эгоист
лишен угодливости и потому его отношения к окружающим наполнены редким
здоровьем. Он никогда никого не обижает, ибо никто от него ничего не ждет. С
полным основанием, поэтому, мы можем всех, кто упрекает эгоиста в подавлении
чужой личности, объявить лжецами.
Главная особенность эгоиста -- полное подчинение собственному "я". Его
исходный завет -- "не считается ни с кем, кроме себя!" Поэтому эгоизм,
говорят, порождает рознь. А я скажу: "Хвала этой розни!" Не способны к
единению те, кто прежде розни!" Не способны к единению те, кто прежде не
обрели сами себя. Лишь тот, кто для себя есть; кто знает, в чем его
собственная суть, достоинство и смысл, способен ощутить нужду в другом и
объединиться с ним. Нет единства без уважения к достоинству каждого. А
только тот способен увидеть и ценить достоинство другого, кто имеет
достоинство в себе: кто знает, что значит "я" и сколь нелегкое дело это "я"
иметь.
Мечтающие о славном объединении, в котором все забудут отличия друг от
друга, на самом деле мечтают либо о том, чтобы мир танцевал под их погудку,
либо о том, чтобы нашлась рука, которая распорядится их судьбой. Это мечты о
массе, и выдают они человека массы, который не хочет к себе иного отношения,
чем отношения к частице, пылинке, комочку грязи. Ему страшно и одиноко в
жизни, требующей от него собственной ответственности, собственного выбора,
своего суждения. Инстинктивно ищет он, кому передоверить жизнь и участь
свою, а не найдя -- злобствует. Не найдя, кому подчиниться, он начинает
повелевать. Ибо и повелением своим он отказывается от ответственности, и
повелением он возлагает судьбу свою на другого. Лишь в роли раба или
господина -- а это одна и та же роль -- успокаивается мечтающий о
"единстве".
Эгоист органически не способен к такой жизни. Хорошо зная себя, и зная
то, что ему недостает, он ценит качества, которых сам лишен. Единство для
него -- восполнение собственной ограниченности, преодоление ее. Эгоист
хорошо знает, кто ему нужен, и потому он объединяется лишь с тем, кто ему
поможет. Общность, достигаемая эгоистичными людьми -- всегда конкретное
единство, делающее их сильнее и не подменяющее сущности их самих. Этим они
разительно отличаются от человека массы, для которого "единство" -- способ
сохранить себя в своем безмятежном ничтожестве: в слиянии с тем, что превыше
его. Напротив, для эгоиста "единство" -- всегда свободный союз. Во всяком,
самом глубоком и прочном объединении с другими, он сохраняет свободу воли.
Эгоист -- вот подлинно свободное существо. С эгоистического самоощущения
начинается обретение каждым свободы.
В эгоизме человеческая натура является во всей ее полноте и
содержательности (или бессодержательности, если натура такова). Эгоизм
противоположен лжи: он беспощадно обнажает человека. Тогда -- если личность
душевно богата, если в ней живет нечто, интересное людям,-- глазам нашим
явится талант, самобытный характер, необыкновенная судьба. Не будь же
эгоистичности -- этого беспечного, своевольного и безоглядного следования
своей натуре -- люди находились бы в опасности навсегда остаться среди
чужих, давно сношенных и пустых форм существования, покорно принимая их за
свой мир. Но нет! берет свое эгоистическое чувство и человек отвергает
довлеющие над ним формы бытия, и не боится общественных предписаний, и не
робеет перед неисчислимыми толпами, чье существование, даже будучи рутинным
и бессмысленным, желает представить себя нормальным. И более того: чем оно
бессмысленнее, с тем большим Жаром желает выдать себя за образец. Только
эгоист способен удержаться от следования ему. Священная заповедь: "Быть
самим собой" -- ты осталась бы пустым суесловием, не будь мощного душевного
импульса, заключенного в эгоизме!
Эгоизм -- основа жизненных основ. Нет эгоизма -- нет человека. Причем,
благодаря эгоизму, каждый начинает существовать не только для себя, но и для
окружающих. Кто сам себя не замечает, на того и другие не обратят внимания.
Вопреки расхожему мнению, эгоист -- чрезвычайно приспособленное для
дружбы существо. Он с редкой непринужденностью принимает заботу о себе,
отчего заботящийся получает полное удовлетворение и возвышается в
собственных глазах. Люди совестливые и предупредительные нелегко принимают
заботу о себе; на всякое проявление внимания они стремятся ответить
сторицей. Это чрезвычайно хлопотная в общении вещь; и она вдвойне досадна в
общении дружеском. Эгоист, к счастью, начисто лишен подобного недостатка.
Он, следовательно, способствует росту чужого самоуважения и гордости. Эгоист
лишен угодливости и потому его отношения к окружающим наполнены редким
здоровьем. Он никогда никого не обижает, ибо никто от него ничего не ждет. С
полным основанием, поэтому, мы можем всех, кто упрекает эгоиста в подавлении
чужой личности, объявить лжецами.
Главная особенность эгоиста -- полное подчинение собственному "я". Его
исходный завет -- "не считается ни с кем, кроме себя!" Поэтому эгоизм,
говорят, порождает рознь. А я скажу: "Хвала этой розни!" Не способны к
единению те, кто прежде розни!" Не способны к единению те, кто прежде не
обрели сами себя. Лишь тот, кто для себя есть; кто знает, в чем его
собственная суть, достоинство и смысл, способен ощутить нужду в другом и
объединиться с ним. Нет единства без уважения к достоинству каждого. А
только тот способен увидеть и ценить достоинство другого, кто имеет
достоинство в себе: кто знает, что значит "я" и сколь нелегкое дело это "я"
иметь.
Мечтающие о славном объединении, в котором все забудут отличия друг от
друга, на самом деле мечтают либо о том, чтобы мир танцевал под их погудку,
либо о том, чтобы нашлась рука, которая распорядится их судьбой. Это мечты о
массе, и выдают они человека массы, который не хочет к себе иного отношения,
чем отношения к частице, пылинке, комочку грязи. Ему страшно и одиноко в
жизни, требующей от него собственной ответственности, собственного выбора,
своего суждения. Инстинктивно ищет он, кому передоверить жизнь и участь
свою, а не найдя -- злобствует. Не найдя, кому подчиниться, он начинает
повелевать. Ибо и повелением своим он отказывается от ответственности, и
повелением он возлагает судьбу свою на другого. Лишь в роли раба или
господина -- а это одна и та же роль -- успокаивается мечтающий о
"единстве".
Эгоист органически не способен к такой жизни. Хорошо зная себя, и зная
то, что ему недостает, он ценит качества, которых сам лишен. Единство для
него -- восполнение собственной ограниченности, преодоление ее. Эгоист
хорошо знает, кто ему нужен, и потому он объединяется лишь с тем, кто ему
поможет. Общность, достигаемая эгоистичными людьми -- всегда конкретное
единство, делающее их сильнее и не подменяющее сущности их самих. Этим они
разительно отличаются от человека массы, для которого "единство" -- способ
сохранить себя в своем безмятежном ничтожестве: в слиянии с тем, что превыше
его. Напротив, для эгоиста "единство" -- всегда свободный союз. Во всяком,
самом глубоком и прочном объединении с другими, он сохраняет свободу воли.
Эгоист -- вот подлинно свободное существо. С эгоистического самоощущения
начинается обретение каждым свободы.
В эгоизме человеческая натура является во всей ее полноте и
содержательности (или бессодержательности, если натура такова). Эгоизм
противоположен лжи: он беспощадно обнажает человека. Тогда -- если личность
душевно богата, если в ней живет нечто, интересное людям,-- глазам нашим
явится талант, самобытный характер, необыкновенная судьба. Не будь же
эгоистичности -- этого беспечного, своевольного и безоглядного следования
своей натуре -- люди находились бы в опасности навсегда остаться среди
чужих, давно сношенных и пустых форм существования, покорно принимая их за
свой мир. Но нет! берет свое эгоистическое чувство и человек отвергает
довлеющие над ним формы бытия, и не боится общественных предписаний, и не
робеет перед неисчислимыми толпами, чье существование, даже будучи рутинным
и бессмысленным, желает представить себя нормальным. И более того: чем оно
бессмысленнее, с тем большим Жаром желает выдать себя за образец. Только
эгоист способен удержаться от следования ему. Священная заповедь: "Быть
самим собой" -- ты осталась бы пустым суесловием, не будь мощного душевного
импульса, заключенного в эгоизме!
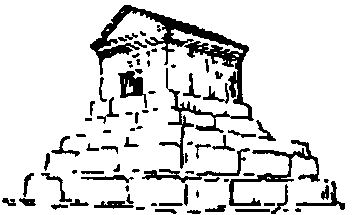
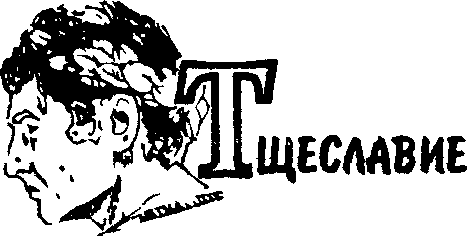 Тщеславие, о сколь ты ярко и наивно! Подобно ребенку, ты тянешься к
блестящим предметам, радуясь безделице и упиваясь сущим пустяком. Человек
тщеславный ищет славы, ему неможется без ее света -- пусть неяркого,
бледного света, или хотя бы отблеска. Так простейший организм оживает под
солнечным лучом и, наоборот, застывает недвижно в сумерках.
Под тщеславием понимают человека, увлеченного вещами пустыми. Однако не
торопитесь выказывать презрение. Это весьма благодетельная склонность, ибо
как бы без нее существовала социальная жизнь, предлагающая людям никчемные
цели и занятия?
Тщеславный человек обычно простодушен, и мы должны быть благодарны ему,
что он находит удовлетворение в простом и малом. Он не соперник честолюбцу,
не конкурент мыслителю, от него нечего ждать подвоха -- если, конечно,
учитывать особенность его характера. Достаточно усладить тщеславца небольшой
порцией лести -- и, право же, он превратится в приятнейшего человека. С ним
легко, не нужно напрягаться и трудиться над установлением добрых отношений.
Тщеславный человек сохраняет и оживляет наши силы -- подобно красочной
кинокомедии; он забавен -- как мыльный пузырь; он мил, любезен и легко
становится полезен -- спасибо ему за это!
Милое тщеславие! ты -- поплавок, за который можно ухватиться в
жизненных бурях; ты -- та щепочка, которая авось, да и выручит.
Тщеславие, о сколь ты ярко и наивно! Подобно ребенку, ты тянешься к
блестящим предметам, радуясь безделице и упиваясь сущим пустяком. Человек
тщеславный ищет славы, ему неможется без ее света -- пусть неяркого,
бледного света, или хотя бы отблеска. Так простейший организм оживает под
солнечным лучом и, наоборот, застывает недвижно в сумерках.
Под тщеславием понимают человека, увлеченного вещами пустыми. Однако не
торопитесь выказывать презрение. Это весьма благодетельная склонность, ибо
как бы без нее существовала социальная жизнь, предлагающая людям никчемные
цели и занятия?
Тщеславный человек обычно простодушен, и мы должны быть благодарны ему,
что он находит удовлетворение в простом и малом. Он не соперник честолюбцу,
не конкурент мыслителю, от него нечего ждать подвоха -- если, конечно,
учитывать особенность его характера. Достаточно усладить тщеславца небольшой
порцией лести -- и, право же, он превратится в приятнейшего человека. С ним
легко, не нужно напрягаться и трудиться над установлением добрых отношений.
Тщеславный человек сохраняет и оживляет наши силы -- подобно красочной
кинокомедии; он забавен -- как мыльный пузырь; он мил, любезен и легко
становится полезен -- спасибо ему за это!
Милое тщеславие! ты -- поплавок, за который можно ухватиться в
жизненных бурях; ты -- та щепочка, которая авось, да и выручит. 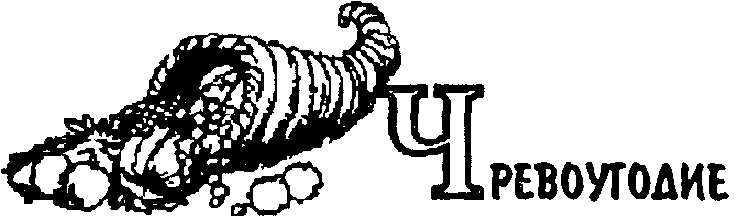 Чревоугодием называют насыщение плоти, минуту ее неприкрытого
торжества. Первое ощущение вкуса жизни мы получаем благодаря пище. Здесь, в
процессе еды, большой внешний мир впитывается и усваивается людьми,
превращаясь в основу основ Их "я" -- в телесность.
Изысканной пищей человек возбуждает свое тело и приводит его в
желательное для себя расположение. Тончайшие запахи разнообразных яств... Не
только в теле, во всем человеческом существе возбуждаете вы вожделение.
Противно природе живого не повиноваться зову того, что питает жизнь. И
потому не знает исключений закон телесного пристрастия: для всякого человека
есть тот вид яств, которому он так же покорен, как суровейшему требованию
долга, как заветной своей мечте, как желанию любимого существа.
В том, чтобы съесть что-нибудь -- первое утешение наше и первая
поддержка в час невзгоды. О нет, я не хочу унизить помощь преданного друга,
совет мудрого наставника, самоотверженность бросающегося на выручку. Перед
всяким, даже самым скромным проявлением искреннего сочувствия и бескорыстной
помощи я благоговейно склоняю голову. Но мне непонятно в то же время, почему
в пренебрежении остаются многие неприметные мелочи, которые оказывают нашей
душе столь необходимую поддержку? Еда -- одна из таких "мелочей", и роль ее
в стабилизации человеческой жизни -- и не только жизни, самой судьбы! --
трудно переоценить. Благодаря трапезе наша жизнь вновь входит в колею
привычного, размеренного существования. И пусть это только иллюзия, пусть на
самом деле случилось непоправимое, пусть наша участь печальна -- но трапеза
внушает нам надежду жить. Даже ложная, эта надежда не может не согреть на
мгновение нашу душу, не может не внушить хотя бы мимолетной бодрости. Даже
приговоренный к смерти, быть может, благодарен последнему ощущению вкуса
жизни, которым дарит его незатейливая пища. Однако не будем говорить о вещах
столь печальных...
В чревоугодии многие религиозные проповедники исстари усматривали
греховное угождение плоти, губящее человека. Презирая все телесное, они,
разумеется, не могли отнестись терпимо к той изысканной заботе о
наслаждениях тела, которая заключена в чревоугодии. Согласимся, что спасение
души -- главная забота человека. Однако он -- существо во плоти; тело -- не
менее существенная его часть. Тот, кто в этом сомневается, пусть попробует
обменять свое тело на вторую душу. Забавно и грустно будет смотреть на его
существование, лишенное прелести видеть, слышать, осязать, впитывать запахи,
чувствовать тепло и холод, каждой минутой бытия ощущать свою смертность, и
оттого неистово желать жить! Как убога личность того, кто безразличен к
наслаждениям любви, кто лишен возможности кожей ощутить благосклонность или
неприятие окружающих. Удручающая картина перед глазами! Долой двоедушие! Да
здравствует тело и источник его силы -- здоровый желудок!
Здесь мы должны развеять несколько наветов, облыжно возводимых на
чревоугодие. Первый -- отождествление чревоугодия и прожорливости. Спору
нет, умеющий угождать своему желудку, умеет ублажать его обильно. Однако
важнее в чревоугодии -- разнообразие яств, умение соткать тонкое полотно
вкусовых ощущений, не смешать их в неверных пропорциях и не нарушить строгих
закономерностей сочетания различных блюд. Изысканная пища воспитывает
умеренность потребностей и утонченность их. К сожалению, искусство
чревоугодия давно захирело. В нашем тусклом мире от него остался жалкий
ублюдок -- обжорство, тем отвратительнее, чем голоднее предающийся ему.
Разве угадаешь в этом постыдном потомке изящного, утонченного предка?
Второй поклеп -- в неопрятности чревоугодия, в неэстетичности его
проявлений. Я убежден, что чревоугодие -- не менее высокое искусство, чем
живопись, литература или музыка. И напрасно думают, что все имеют к нему
способности -- было бы что есть. Нет, как и во всяком ином виде
человеческого самоутверждения, здесь необходима особая одаренность; но и она
приносит плоды лишь после долгого труда. Угождающий чреву, если он
достаточно воспитан своей страстью, весьма переборчив в еде, и уже поэтому
опрятен. Даже удовлетворяющее его вкус блюдо он никогда не станет есть как
попало. Ведь каждому яству присущ свой церемониал его отведывания. В
процессе принятия пищи должна установиться гармония между едой и
человеческим организмом. В открытии законов этой гармонии и следовании им --
смысл чревоугодия. И потому вполне развившееся чревоугодие порождает
гурманство -- эту искусную поэтизацию еды.
Из изложенного ясно, что чревоугодники -- вовсе не те, кто бездумно
набивают себе брюхо. Среди тех, кто никак не может быть обвинен в
чревоугодии, встречаются и такие, кто ест сверх меры, и те, что недоедают.
Как тех, так и других объединяет равнодушное, пренебрежительное,
невнимательное отношение к собственному телу и задаче установления гармонии
между ним и средой. Они не понимают, что в трапезе заключен один из высоких
смыслов человеческой жизни, и что обеденный стол способен обогатить личность
не меньше, чем самый прекрасный концерт, пейзаж или незаурядный поступок. И
так же, как не приученные к музыкальной гармонии уши слышат в изысканных
мелодиях лишь шум, так и за разнообразнейшим столом лишенному дара
чревоугодия дана лишь одна скудная возможность -- насытиться. Одна слепая
мысль -- "наедайся!" -- придет в голову такому человеку. Но сколь бедно,
сколь ничтожно это стремление по сравнению с теми возможностями, которые
таит наше чрево!
Чревоугодием называют насыщение плоти, минуту ее неприкрытого
торжества. Первое ощущение вкуса жизни мы получаем благодаря пище. Здесь, в
процессе еды, большой внешний мир впитывается и усваивается людьми,
превращаясь в основу основ Их "я" -- в телесность.
Изысканной пищей человек возбуждает свое тело и приводит его в
желательное для себя расположение. Тончайшие запахи разнообразных яств... Не
только в теле, во всем человеческом существе возбуждаете вы вожделение.
Противно природе живого не повиноваться зову того, что питает жизнь. И
потому не знает исключений закон телесного пристрастия: для всякого человека
есть тот вид яств, которому он так же покорен, как суровейшему требованию
долга, как заветной своей мечте, как желанию любимого существа.
В том, чтобы съесть что-нибудь -- первое утешение наше и первая
поддержка в час невзгоды. О нет, я не хочу унизить помощь преданного друга,
совет мудрого наставника, самоотверженность бросающегося на выручку. Перед
всяким, даже самым скромным проявлением искреннего сочувствия и бескорыстной
помощи я благоговейно склоняю голову. Но мне непонятно в то же время, почему
в пренебрежении остаются многие неприметные мелочи, которые оказывают нашей
душе столь необходимую поддержку? Еда -- одна из таких "мелочей", и роль ее
в стабилизации человеческой жизни -- и не только жизни, самой судьбы! --
трудно переоценить. Благодаря трапезе наша жизнь вновь входит в колею
привычного, размеренного существования. И пусть это только иллюзия, пусть на
самом деле случилось непоправимое, пусть наша участь печальна -- но трапеза
внушает нам надежду жить. Даже ложная, эта надежда не может не согреть на
мгновение нашу душу, не может не внушить хотя бы мимолетной бодрости. Даже
приговоренный к смерти, быть может, благодарен последнему ощущению вкуса
жизни, которым дарит его незатейливая пища. Однако не будем говорить о вещах
столь печальных...
В чревоугодии многие религиозные проповедники исстари усматривали
греховное угождение плоти, губящее человека. Презирая все телесное, они,
разумеется, не могли отнестись терпимо к той изысканной заботе о
наслаждениях тела, которая заключена в чревоугодии. Согласимся, что спасение
души -- главная забота человека. Однако он -- существо во плоти; тело -- не
менее существенная его часть. Тот, кто в этом сомневается, пусть попробует
обменять свое тело на вторую душу. Забавно и грустно будет смотреть на его
существование, лишенное прелести видеть, слышать, осязать, впитывать запахи,
чувствовать тепло и холод, каждой минутой бытия ощущать свою смертность, и
оттого неистово желать жить! Как убога личность того, кто безразличен к
наслаждениям любви, кто лишен возможности кожей ощутить благосклонность или
неприятие окружающих. Удручающая картина перед глазами! Долой двоедушие! Да
здравствует тело и источник его силы -- здоровый желудок!
Здесь мы должны развеять несколько наветов, облыжно возводимых на
чревоугодие. Первый -- отождествление чревоугодия и прожорливости. Спору
нет, умеющий угождать своему желудку, умеет ублажать его обильно. Однако
важнее в чревоугодии -- разнообразие яств, умение соткать тонкое полотно
вкусовых ощущений, не смешать их в неверных пропорциях и не нарушить строгих
закономерностей сочетания различных блюд. Изысканная пища воспитывает
умеренность потребностей и утонченность их. К сожалению, искусство
чревоугодия давно захирело. В нашем тусклом мире от него остался жалкий
ублюдок -- обжорство, тем отвратительнее, чем голоднее предающийся ему.
Разве угадаешь в этом постыдном потомке изящного, утонченного предка?
Второй поклеп -- в неопрятности чревоугодия, в неэстетичности его
проявлений. Я убежден, что чревоугодие -- не менее высокое искусство, чем
живопись, литература или музыка. И напрасно думают, что все имеют к нему
способности -- было бы что есть. Нет, как и во всяком ином виде
человеческого самоутверждения, здесь необходима особая одаренность; но и она
приносит плоды лишь после долгого труда. Угождающий чреву, если он
достаточно воспитан своей страстью, весьма переборчив в еде, и уже поэтому
опрятен. Даже удовлетворяющее его вкус блюдо он никогда не станет есть как
попало. Ведь каждому яству присущ свой церемониал его отведывания. В
процессе принятия пищи должна установиться гармония между едой и
человеческим организмом. В открытии законов этой гармонии и следовании им --
смысл чревоугодия. И потому вполне развившееся чревоугодие порождает
гурманство -- эту искусную поэтизацию еды.
Из изложенного ясно, что чревоугодники -- вовсе не те, кто бездумно
набивают себе брюхо. Среди тех, кто никак не может быть обвинен в
чревоугодии, встречаются и такие, кто ест сверх меры, и те, что недоедают.
Как тех, так и других объединяет равнодушное, пренебрежительное,
невнимательное отношение к собственному телу и задаче установления гармонии
между ним и средой. Они не понимают, что в трапезе заключен один из высоких
смыслов человеческой жизни, и что обеденный стол способен обогатить личность
не меньше, чем самый прекрасный концерт, пейзаж или незаурядный поступок. И
так же, как не приученные к музыкальной гармонии уши слышат в изысканных
мелодиях лишь шум, так и за разнообразнейшим столом лишенному дара
чревоугодия дана лишь одна скудная возможность -- насытиться. Одна слепая
мысль -- "наедайся!" -- придет в голову такому человеку. Но сколь бедно,
сколь ничтожно это стремление по сравнению с теми возможностями, которые
таит наше чрево!
 Нет столь черствого человека, который бы хоть чем-то не бывал тронут.
Но, в то же время, мы не можем все принимать близко к сердцу, да и немногое
того заслуживает. Лишь сентиментальный иного мнения. Душа его трепещет,
когда остальные равнодушны; глаза полны слез, когда у других сухи. Нельзя не
порадоваться столь редкой чуткости. Но вот незадача: во всем этом больше
демонстраций, чем искренних переживаний.
Сентиментальными порывами стремятся умилостивить мир -- чтобы он стал
мягок и уступчив. Но кто действительно кроток и мягок, тому незачем взывать
к миру, требуя от него той же мягкости и податливости.
Сентиментальный невольно ищет зрителя, демонстрируя себя в трогательных
качествах. Этим он выдает в себе искусного обольстителя. Все для
сентиментальной души принимает ласкательно-уменьшительный вид; своей
растроганностью она ко всему снисходит. И этим, может быть невольно,
унижает.
Сентиментальность кем-то справедливо названа обратной стороной
злорадства, которое, кстати сказать, также выполняет свою полезную миссию.
Поскольку без зла нельзя определить, в чем состоит благо, постольку
радующийся злу предвещает грядущее добро. И потому следует приветствовать
проявления злорадства так же, как мы радуемся птичьим трелям, возвещающим
весну.
В отличие от злорадного, сентиментальный человек умиляется. Он
умиляется всему, что не доставляет ему забот, и что поэтому особенно сильно
трогает его чувствительное сердце. Вообще сентиментальность -- это
постоянная готовность взволноваться и умилиться. Так, сентиментальный
человек способен растрогаться самыми глупыми вещами. Это чрезвычайно
полезная для общества черта душевного склада. Без сентиментальности не
возникла бы благотворительность -- ни личная, ни государственная, и тогда
тысячи бедствий обрушились бы на низшие социальные слои. Не будь
сентиментальных людей, кто бы всем сердцем откликнулся на мероприятия
правительства, кто бы млел от лицезрения знаменитостей, на чьих бы глазах
выступали слезы счастья от воспоминаний об историческом прошлом? Поистине,
все остальные чувства -- лишь иссушенная пустыня по сравнению с
сентиментальностью, благотворно смягчающей климат общественной жизни.
Нет столь черствого человека, который бы хоть чем-то не бывал тронут.
Но, в то же время, мы не можем все принимать близко к сердцу, да и немногое
того заслуживает. Лишь сентиментальный иного мнения. Душа его трепещет,
когда остальные равнодушны; глаза полны слез, когда у других сухи. Нельзя не
порадоваться столь редкой чуткости. Но вот незадача: во всем этом больше
демонстраций, чем искренних переживаний.
Сентиментальными порывами стремятся умилостивить мир -- чтобы он стал
мягок и уступчив. Но кто действительно кроток и мягок, тому незачем взывать
к миру, требуя от него той же мягкости и податливости.
Сентиментальный невольно ищет зрителя, демонстрируя себя в трогательных
качествах. Этим он выдает в себе искусного обольстителя. Все для
сентиментальной души принимает ласкательно-уменьшительный вид; своей
растроганностью она ко всему снисходит. И этим, может быть невольно,
унижает.
Сентиментальность кем-то справедливо названа обратной стороной
злорадства, которое, кстати сказать, также выполняет свою полезную миссию.
Поскольку без зла нельзя определить, в чем состоит благо, постольку
радующийся злу предвещает грядущее добро. И потому следует приветствовать
проявления злорадства так же, как мы радуемся птичьим трелям, возвещающим
весну.
В отличие от злорадного, сентиментальный человек умиляется. Он
умиляется всему, что не доставляет ему забот, и что поэтому особенно сильно
трогает его чувствительное сердце. Вообще сентиментальность -- это
постоянная готовность взволноваться и умилиться. Так, сентиментальный
человек способен растрогаться самыми глупыми вещами. Это чрезвычайно
полезная для общества черта душевного склада. Без сентиментальности не
возникла бы благотворительность -- ни личная, ни государственная, и тогда
тысячи бедствий обрушились бы на низшие социальные слои. Не будь
сентиментальных людей, кто бы всем сердцем откликнулся на мероприятия
правительства, кто бы млел от лицезрения знаменитостей, на чьих бы глазах
выступали слезы счастья от воспоминаний об историческом прошлом? Поистине,
все остальные чувства -- лишь иссушенная пустыня по сравнению с
сентиментальностью, благотворно смягчающей климат общественной жизни.
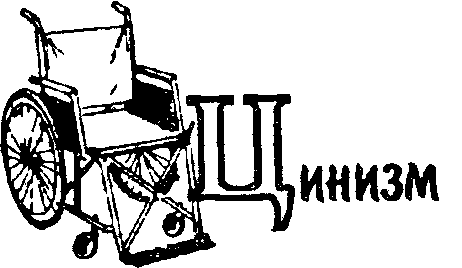 С мрачным предчувствием приступаю я к оправданию этого порока. Кажется
мне, что негодующие читатели именно в цинизме обвинят меня всего скорее. И
если мое предчувствие верно, получится тогда, что, оправдывая циника, я
выгораживаю себя. А это совершенно против моих правил, и я подумал даже, не
оставить ли мне циничность не освещенной, как будто и не существующей, тем
самым давая будущим критикам право наклеить на меня этот ярлык.
Да, так думал я, и совсем уже было склонился к этой мысли, но затем
устыдился собственного малодушия и сказал себе: "Даже если бы я был прав,
что ж из этого? Ведь циничность черта столь широко распространенная, что не
найдя ее благих сторон, я невольно огорчу всех тех многих, кому она присуща.
Разве это гражданственно?" И вот я решаюсь. Начнем.
Циничный человек -- это нравственный инвалид, жестоко пострадавший в
жизненных бурях. Только люди, склонные к благородству и великодушию, только
те, кто привыкли наивно и простодушно принимать окружающую действительность,
лишь бескорыстные и нежные натуры способны превратиться в подлинно глубоких
и последовательных циников.
Часто цинизм путают с пошлостью, и хотя известное родство во внешних
выражениях между ними есть, однако не менее глубоко и различие. Пошлость
закономерно присуща чрезвычайно самодовольному, уверенному в себе,
гарантированному существованию. Цинизм же всегда характеризует жизнь,
лишенную основы. Он сам, во многом, есть не что иное, как тоска за этой
основой и протяжный вой от ее отсутствия.
Потому-то и сказано, что подлинным циником может стать лишь человек,
глубоко и Полнокровно принимавший жизнь, возлагавший на нее светлые надежды,
и тем самым глубоко укорененный в ней. Крах этого счастливого приятия бытия
и есть утрата жизненной основы, ведущая к цинизму -- этой вечной и
безысходной тоске за утраченным. Лишь зная, что ты утратил, лишь мучимый
проклятыми, отвергнутыми, но бессознательно живущими воспоминаниями, человек
ощущает всю остроту страдания, его душевная боль достигает предела, а значит
до крайней степени своей беспощадности доходит цинизм.
Если бы государство лучше разбиралось в душах своих подданных, оно
устроило бы пансионаты для циников, где за ними ухаживали бы так же, как за
инвалидами, потерпевшими в боях за отечество. Ведь не что иное, как подлость
окружающей жизни сломила эти изначально чистые и склонные к благу натуры.
Да, может быть, они оказались недостаточно сильны и упорны, однако кто смеет
упрекнуть их за это?
Движимый порывом милосердия, предлагаю открыть фонд вспомоществования
циникам; эта мера будет достойным начинанием общественной
благотворительности. В качестве ее девиза предлагаю слова: "Не вы оказались
столь слабы, а жизнь была слишком немилосердна". Поддерживайте мой призыв!
И, как теперь стало модно завершать обращения к общественности, вносите
деньги на счет 12345 в Потеряйбанке.
С мрачным предчувствием приступаю я к оправданию этого порока. Кажется
мне, что негодующие читатели именно в цинизме обвинят меня всего скорее. И
если мое предчувствие верно, получится тогда, что, оправдывая циника, я
выгораживаю себя. А это совершенно против моих правил, и я подумал даже, не
оставить ли мне циничность не освещенной, как будто и не существующей, тем
самым давая будущим критикам право наклеить на меня этот ярлык.
Да, так думал я, и совсем уже было склонился к этой мысли, но затем
устыдился собственного малодушия и сказал себе: "Даже если бы я был прав,
что ж из этого? Ведь циничность черта столь широко распространенная, что не
найдя ее благих сторон, я невольно огорчу всех тех многих, кому она присуща.
Разве это гражданственно?" И вот я решаюсь. Начнем.
Циничный человек -- это нравственный инвалид, жестоко пострадавший в
жизненных бурях. Только люди, склонные к благородству и великодушию, только
те, кто привыкли наивно и простодушно принимать окружающую действительность,
лишь бескорыстные и нежные натуры способны превратиться в подлинно глубоких
и последовательных циников.
Часто цинизм путают с пошлостью, и хотя известное родство во внешних
выражениях между ними есть, однако не менее глубоко и различие. Пошлость
закономерно присуща чрезвычайно самодовольному, уверенному в себе,
гарантированному существованию. Цинизм же всегда характеризует жизнь,
лишенную основы. Он сам, во многом, есть не что иное, как тоска за этой
основой и протяжный вой от ее отсутствия.
Потому-то и сказано, что подлинным циником может стать лишь человек,
глубоко и Полнокровно принимавший жизнь, возлагавший на нее светлые надежды,
и тем самым глубоко укорененный в ней. Крах этого счастливого приятия бытия
и есть утрата жизненной основы, ведущая к цинизму -- этой вечной и
безысходной тоске за утраченным. Лишь зная, что ты утратил, лишь мучимый
проклятыми, отвергнутыми, но бессознательно живущими воспоминаниями, человек
ощущает всю остроту страдания, его душевная боль достигает предела, а значит
до крайней степени своей беспощадности доходит цинизм.
Если бы государство лучше разбиралось в душах своих подданных, оно
устроило бы пансионаты для циников, где за ними ухаживали бы так же, как за
инвалидами, потерпевшими в боях за отечество. Ведь не что иное, как подлость
окружающей жизни сломила эти изначально чистые и склонные к благу натуры.
Да, может быть, они оказались недостаточно сильны и упорны, однако кто смеет
упрекнуть их за это?
Движимый порывом милосердия, предлагаю открыть фонд вспомоществования
циникам; эта мера будет достойным начинанием общественной
благотворительности. В качестве ее девиза предлагаю слова: "Не вы оказались
столь слабы, а жизнь была слишком немилосердна". Поддерживайте мой призыв!
И, как теперь стало модно завершать обращения к общественности, вносите
деньги на счет 12345 в Потеряйбанке.
 Сластолюбие -- слово, несравненно беднее того смысла, который призвано
выразить. Слова живут самостоятельной жизнью. В них есть своя плотность и
свой цвет. Иногда звучание слова оказывается богаче содержанием, нежели его
смысл. Тогда оно само выходит на первый план, оставляя значение глубоко в
тени. Тогда речь употребляет музыкальность слова, а не вкладываемое в него
точное значение. И лучше бы такие слова называть нотами, или мелодиями.
Сластолюбие, к сожалению, не из их числа. Это слово лжет. Оно скорее
вызывает ассоциацию сластей, чем напоминает о сладострастных наслаждениях
жизни. Но, может быть, в этом несоответствии сказывается умное коварство
слова, его нежелание выдавать свою тайну и превращать в публичное и всем
доступное наиболее интимную и глубокую часть жизни? Кто знает...
Человеческий язык вообще несправедлив к любовным наслаждениям. Словно
нарочно, выражающие эту страсть слова двусмысленны и не заявляют своего
значения прямо. Они как будто скрываются в тени, оставаясь в ней смутными,
трудно угадываемыми силуэтами. Протяни к ним руку, попытайся нетерпеливо
стиснуть в кулак -- и словно тень Эвридики растают легкие видения, отлетая с
печальным криком в непроглядный мрак.
Природа сделала величайший дар людям, разделив человеческое существо на
два пола. В вожделении, ухаживании, любовной ласке и соитии кроется
величайшее наслаждение на свете. Уже этого одного достаточно, чтобы понять и
разделить страсть тех, кто стремится к этому наслаждению. Однако наслаждение
-- при всей глубине и упоительности этого чувства -- слишком простое слово,
чтобы выразить всю ту наполненность жизни, которую приобретает
сладострастный человек. Соединение мужского и женского начал -- это и
бесценный стимул существования, это поддержка в скорби и унынии, это
источник творческих сил, это глубочайшая радость бытия и может быть лучший
способ его познания. Все, что есть в жизни красочного, увлекательного,
трагического; все, что в ней дышит, манит, очаровывает, грозит; все, что
полно истомы, загадки, неги и торжества -- все это (загадки, прелести и силы
жизни) оживают и предстают в самом прекрасном и глубоком своем виде в
моменты близости мужчины и женщины. Кто отвернется от этого богатства, кто
осудит эту высшую породненность со всем сущим? Какой невежа воспротивится
священному призыву жизни, порождающей жизнь!
Впрочем, нет другого человеческого чувства, которое вызывало бы большие
споры, разногласия и непримиримость мнений. Деспотичные, тупые, склонные к
самодурству натуры с особой яростью ощущают в себе проснувшееся вожделение.
Привыкшие над всеми властвовать, всему предписывать свою мерку, они
ненавидят силу, которая сама овладевает ими и властно увлекает их за собой.
Слабый, неуверенный в себе, обделенный природой человек страдает,
ощущая призыв своей плоти. Чем сильнее он жаждет, тем глубже отчаивается. И
от этой неразделенной страсти он впадает в исступление и готов проклясть то,
о чем мечтает сильнее всего и что наполняет его грезы.
"Взыграла похоть", -- трепещет аскет, когда его протестующее против
искусственных обязательств тело заявляет о себе. Разве не такие аскеты все
те, кто установил себе или бессознательно принял систему искусственных норм,
которыми он пытается укротить то, что всего сильнее на свете? Он скрежещет
зубами в слепом напряжении, и творит истовые заклинания, и надевает тяжкие
вериги, дабы изнурить свою плоть и тем охранить ее от соблазнов
сладострастия. Но не в силах спастись несчастный. Не лукавый, не телесный
изъян, не душевная извращенность заявляет себя в сладострастном вожделении.
Это требует своего жизнь; и нет живого существа, способного противиться ее
могучему зову.
Презирающие сластолюбие как нечто постыдное и нечистое, не понимают,
что наслаждение, которому предаются со вкусом и глубиной чувства, не менее
целомудренно, чем самое суровое воздержание. Не душа -- а тело, самая
таинственная, великая и мудрая часть человеческого существа. В жизни плоти
скрыты сокровеннейшие источники творчества, разума и счастья. И там же
истоки величайших трагедий, печалей и бед. В теле таится уникальная
возможность ощущения жизни и открытия ее загадок. И потому сластолюбие --
самое острое ощущение жизненности.
Острой, чуткой, проясненной становится впечатлительность человека. Все
его существо, каждая клеточка дышит окружающим миром: вдыхая его краски,
события, запахи, звуки, вкус. Опьянение жизнью делает невозможным расчет и
заставляет каждого повиноваться лишь самому себе. И если суждены смертному
мгновения счастья и упоения, они наступают в тот миг, когда мы поглощены
стихией сладострастия.
Сластолюбие -- слово, несравненно беднее того смысла, который призвано
выразить. Слова живут самостоятельной жизнью. В них есть своя плотность и
свой цвет. Иногда звучание слова оказывается богаче содержанием, нежели его
смысл. Тогда оно само выходит на первый план, оставляя значение глубоко в
тени. Тогда речь употребляет музыкальность слова, а не вкладываемое в него
точное значение. И лучше бы такие слова называть нотами, или мелодиями.
Сластолюбие, к сожалению, не из их числа. Это слово лжет. Оно скорее
вызывает ассоциацию сластей, чем напоминает о сладострастных наслаждениях
жизни. Но, может быть, в этом несоответствии сказывается умное коварство
слова, его нежелание выдавать свою тайну и превращать в публичное и всем
доступное наиболее интимную и глубокую часть жизни? Кто знает...
Человеческий язык вообще несправедлив к любовным наслаждениям. Словно
нарочно, выражающие эту страсть слова двусмысленны и не заявляют своего
значения прямо. Они как будто скрываются в тени, оставаясь в ней смутными,
трудно угадываемыми силуэтами. Протяни к ним руку, попытайся нетерпеливо
стиснуть в кулак -- и словно тень Эвридики растают легкие видения, отлетая с
печальным криком в непроглядный мрак.
Природа сделала величайший дар людям, разделив человеческое существо на
два пола. В вожделении, ухаживании, любовной ласке и соитии кроется
величайшее наслаждение на свете. Уже этого одного достаточно, чтобы понять и
разделить страсть тех, кто стремится к этому наслаждению. Однако наслаждение
-- при всей глубине и упоительности этого чувства -- слишком простое слово,
чтобы выразить всю ту наполненность жизни, которую приобретает
сладострастный человек. Соединение мужского и женского начал -- это и
бесценный стимул существования, это поддержка в скорби и унынии, это
источник творческих сил, это глубочайшая радость бытия и может быть лучший
способ его познания. Все, что есть в жизни красочного, увлекательного,
трагического; все, что в ней дышит, манит, очаровывает, грозит; все, что
полно истомы, загадки, неги и торжества -- все это (загадки, прелести и силы
жизни) оживают и предстают в самом прекрасном и глубоком своем виде в
моменты близости мужчины и женщины. Кто отвернется от этого богатства, кто
осудит эту высшую породненность со всем сущим? Какой невежа воспротивится
священному призыву жизни, порождающей жизнь!
Впрочем, нет другого человеческого чувства, которое вызывало бы большие
споры, разногласия и непримиримость мнений. Деспотичные, тупые, склонные к
самодурству натуры с особой яростью ощущают в себе проснувшееся вожделение.
Привыкшие над всеми властвовать, всему предписывать свою мерку, они
ненавидят силу, которая сама овладевает ими и властно увлекает их за собой.
Слабый, неуверенный в себе, обделенный природой человек страдает,
ощущая призыв своей плоти. Чем сильнее он жаждет, тем глубже отчаивается. И
от этой неразделенной страсти он впадает в исступление и готов проклясть то,
о чем мечтает сильнее всего и что наполняет его грезы.
"Взыграла похоть", -- трепещет аскет, когда его протестующее против
искусственных обязательств тело заявляет о себе. Разве не такие аскеты все
те, кто установил себе или бессознательно принял систему искусственных норм,
которыми он пытается укротить то, что всего сильнее на свете? Он скрежещет
зубами в слепом напряжении, и творит истовые заклинания, и надевает тяжкие
вериги, дабы изнурить свою плоть и тем охранить ее от соблазнов
сладострастия. Но не в силах спастись несчастный. Не лукавый, не телесный
изъян, не душевная извращенность заявляет себя в сладострастном вожделении.
Это требует своего жизнь; и нет живого существа, способного противиться ее
могучему зову.
Презирающие сластолюбие как нечто постыдное и нечистое, не понимают,
что наслаждение, которому предаются со вкусом и глубиной чувства, не менее
целомудренно, чем самое суровое воздержание. Не душа -- а тело, самая
таинственная, великая и мудрая часть человеческого существа. В жизни плоти
скрыты сокровеннейшие источники творчества, разума и счастья. И там же
истоки величайших трагедий, печалей и бед. В теле таится уникальная
возможность ощущения жизни и открытия ее загадок. И потому сластолюбие --
самое острое ощущение жизненности.
Острой, чуткой, проясненной становится впечатлительность человека. Все
его существо, каждая клеточка дышит окружающим миром: вдыхая его краски,
события, запахи, звуки, вкус. Опьянение жизнью делает невозможным расчет и
заставляет каждого повиноваться лишь самому себе. И если суждены смертному
мгновения счастья и упоения, они наступают в тот миг, когда мы поглощены
стихией сладострастия.
 Безвольный подобен снулой рыбе, которая судорожно открывает рот и, не в
силах удержаться в естественном положении, то и дело переворачивается кверху
брюхом, беспомощно пошевеливая плавниками.
Желание безвольного человека угасает раньше, чем превратится в
определенное намерение, подкрепленное действием. Подобно слабым огням
зажигаются и тут же гаснут побуждения, в самый ответственный момент дела
душой овладевают колебания и сомнения, принятое решение так и остается
навсегда лишь мыслью, а когда результат все же случайно достигнут,
безвольного охватывает апатия и отвращение к обретенному. Когда надо
действовать -- безвольный уклоняется. Когда же событие свершилось, приняв
нежелательный поворот -- он сетует на нерасторопность других и выставляет
себя провидцем. Тот, в ком воля слаба, любит также угрожать и поучать, и
делает это тем охотнее, чем решительнее требуется действовать. Безвольный
человек находится в вечном смятении, постоянно одолевают его тревоги,
неуверенность и покорность, и чаще всего чувствует он себя обреченным.
Однако эти же состояния, тяжко обременяющие душевную жизнь безвольного
человека, делают его неспособным к активному злу. Ему попросту не хватает
необходимой для злого дела целеустремленности. Часто безвольный человек
вообще отрешается от всех дел мира и, неспособный к деяниям, отдается
движению жизненной стихии и лишь созерцает происходящее. Постепенно
увиденное откладывается в нем слой за слоем и так -- нежданно-негаданно --
складываются в душе наслоения богатого жизненного опыта. Именно потому, что
безвольный не склонен к предприимчивости, самоутверждению и вмешательству в
ход дел, он становится великолепным и внимательным свидетелем. Случайный
собеседник, с удивлением открывающий в другом кладезь ярких жизненных
впечатлений и мудрых наблюдений, редко догадается, что источником этого
сокровища явилось прежде всего бессилие воли.
Из безвольных людей вырастают осторожные, мудрые, надежные советчики.
Люди любят давать советы, но обычно они совершенно бездарны, ибо выражают
индивидуальный опыт, не облагороженный размышлением. Такие советы еще
бессмысленнее, чем могли бы быть, поскольку люди дают их с той степенью
уверенности и безапелляционности, с какой они никогда не поступали в своей
жизни. Ведь советуя, они ни за что в конечном свете не отвечают.
Безвольный человек -- счастливое исключение в ряду ретивых советчиков.
Во-первых, потому что опыт его -- след вершившийся вокруг него жизни, а не
результат собственного самоутверждения, которое делает личность чрезвычайно
предвзятой. Во-вторых, советы являются для него чуть ли не единственным
жизненным действием -- в них он проявляет себя и к ним, поэтому, относится
предельно ответственно. Вообще грустно думать о безвольном человеке. В нем
живет самое печальное одиночество. И лучшим оправданием безволию служит то
естественное чувство сожаления, которое охватывает душу при мысли о
безвольной натуре. Ведь все, что вызывает жалость, достойно нежности и
любви.
Безвольный подобен снулой рыбе, которая судорожно открывает рот и, не в
силах удержаться в естественном положении, то и дело переворачивается кверху
брюхом, беспомощно пошевеливая плавниками.
Желание безвольного человека угасает раньше, чем превратится в
определенное намерение, подкрепленное действием. Подобно слабым огням
зажигаются и тут же гаснут побуждения, в самый ответственный момент дела
душой овладевают колебания и сомнения, принятое решение так и остается
навсегда лишь мыслью, а когда результат все же случайно достигнут,
безвольного охватывает апатия и отвращение к обретенному. Когда надо
действовать -- безвольный уклоняется. Когда же событие свершилось, приняв
нежелательный поворот -- он сетует на нерасторопность других и выставляет
себя провидцем. Тот, в ком воля слаба, любит также угрожать и поучать, и
делает это тем охотнее, чем решительнее требуется действовать. Безвольный
человек находится в вечном смятении, постоянно одолевают его тревоги,
неуверенность и покорность, и чаще всего чувствует он себя обреченным.
Однако эти же состояния, тяжко обременяющие душевную жизнь безвольного
человека, делают его неспособным к активному злу. Ему попросту не хватает
необходимой для злого дела целеустремленности. Часто безвольный человек
вообще отрешается от всех дел мира и, неспособный к деяниям, отдается
движению жизненной стихии и лишь созерцает происходящее. Постепенно
увиденное откладывается в нем слой за слоем и так -- нежданно-негаданно --
складываются в душе наслоения богатого жизненного опыта. Именно потому, что
безвольный не склонен к предприимчивости, самоутверждению и вмешательству в
ход дел, он становится великолепным и внимательным свидетелем. Случайный
собеседник, с удивлением открывающий в другом кладезь ярких жизненных
впечатлений и мудрых наблюдений, редко догадается, что источником этого
сокровища явилось прежде всего бессилие воли.
Из безвольных людей вырастают осторожные, мудрые, надежные советчики.
Люди любят давать советы, но обычно они совершенно бездарны, ибо выражают
индивидуальный опыт, не облагороженный размышлением. Такие советы еще
бессмысленнее, чем могли бы быть, поскольку люди дают их с той степенью
уверенности и безапелляционности, с какой они никогда не поступали в своей
жизни. Ведь советуя, они ни за что в конечном свете не отвечают.
Безвольный человек -- счастливое исключение в ряду ретивых советчиков.
Во-первых, потому что опыт его -- след вершившийся вокруг него жизни, а не
результат собственного самоутверждения, которое делает личность чрезвычайно
предвзятой. Во-вторых, советы являются для него чуть ли не единственным
жизненным действием -- в них он проявляет себя и к ним, поэтому, относится
предельно ответственно. Вообще грустно думать о безвольном человеке. В нем
живет самое печальное одиночество. И лучшим оправданием безволию служит то
естественное чувство сожаления, которое охватывает душу при мысли о
безвольной натуре. Ведь все, что вызывает жалость, достойно нежности и
любви.
 В угоднике каждый находит себя. Нет, не поймите меня в том смысле, что
я каждого обвиняю в угодничестве. Речь о том, что угодник продолжает наше
собственное "я". Послушно следуя прихотливым изгибам нашего нрава, он являет
полную картину собственного характера каждого. Великая ценность такого
изображения состоит в том, что оно поставлено перед нашими глазами и
требуется лишь небольшое желание, чтобы рассмотреть себя во всех
подробностях.
Напрасно думают, что угодничество рождается лишь из безволия и
трусости. Нет, для искусного угождения требуются решительность, ум и
мужество. Ведь натуры людей чрезвычайно разнообразны и распознать их
нелегко. Угоднику необходимо точно определить, в чем таится душевная
склонность избранной персоны. И тут уж, определив, угодник должен
действовать смело и без колебаний -- иначе выгодный момент будет упущен.
Достичь успеха в угождении способен лишь тот, кто умеет быстро и безошибочно
распознавать свойства людей.
В протяжении веков мудрецы бились над проблемой того, как человеку
выявить собственную сущность: как сделать ясным то, что всегда скрыто от
нашего взора, но что неизменно присутствует во всяком движении души и в
любом действии. Однако до сих пор вполне однозначного и совершенно надежного
способа не выработано, и потому каждый может лишь догадываться о своем "я",
бесконечно обманываясь на свой счет. Если же счастливец и узнает свой
истинный облик, то достигает этого тяжким трудом и малоприятными
испытаниями. И ох как часто достигнутое его не радует
Угодник избавляет нас от всех этих забот. Он просто замечательное
открытие -- нежданная находка для всех, кто хочет узнать себя и к тому же не
очень этим огорчиться. Угодливый избавляет нас от всех трудов самопознания;
благодаря ему можно не корпеть годами над мудростью веков, покрываясь пылью
и под конец -- о горесть -- узнавая в себе нечто малолестное. Даже самому
глупому не составляет труда узнать себя и свои черты в том портрете, который
составляет угодник. Он -- наше правдивое зеркало; готовое скорее разбиться
на куски, чем солгать. Любая прихоть угождаемого -- закон для него; он
никогда не преступит его, чтобы взамен следовать собственным повадкам.
Редкий подвиг самоотречения являет нам искусчый угодник!
В угоднике каждый находит себя. Нет, не поймите меня в том смысле, что
я каждого обвиняю в угодничестве. Речь о том, что угодник продолжает наше
собственное "я". Послушно следуя прихотливым изгибам нашего нрава, он являет
полную картину собственного характера каждого. Великая ценность такого
изображения состоит в том, что оно поставлено перед нашими глазами и
требуется лишь небольшое желание, чтобы рассмотреть себя во всех
подробностях.
Напрасно думают, что угодничество рождается лишь из безволия и
трусости. Нет, для искусного угождения требуются решительность, ум и
мужество. Ведь натуры людей чрезвычайно разнообразны и распознать их
нелегко. Угоднику необходимо точно определить, в чем таится душевная
склонность избранной персоны. И тут уж, определив, угодник должен
действовать смело и без колебаний -- иначе выгодный момент будет упущен.
Достичь успеха в угождении способен лишь тот, кто умеет быстро и безошибочно
распознавать свойства людей.
В протяжении веков мудрецы бились над проблемой того, как человеку
выявить собственную сущность: как сделать ясным то, что всегда скрыто от
нашего взора, но что неизменно присутствует во всяком движении души и в
любом действии. Однако до сих пор вполне однозначного и совершенно надежного
способа не выработано, и потому каждый может лишь догадываться о своем "я",
бесконечно обманываясь на свой счет. Если же счастливец и узнает свой
истинный облик, то достигает этого тяжким трудом и малоприятными
испытаниями. И ох как часто достигнутое его не радует
Угодник избавляет нас от всех этих забот. Он просто замечательное
открытие -- нежданная находка для всех, кто хочет узнать себя и к тому же не
очень этим огорчиться. Угодливый избавляет нас от всех трудов самопознания;
благодаря ему можно не корпеть годами над мудростью веков, покрываясь пылью
и под конец -- о горесть -- узнавая в себе нечто малолестное. Даже самому
глупому не составляет труда узнать себя и свои черты в том портрете, который
составляет угодник. Он -- наше правдивое зеркало; готовое скорее разбиться
на куски, чем солгать. Любая прихоть угождаемого -- закон для него; он
никогда не преступит его, чтобы взамен следовать собственным повадкам.
Редкий подвиг самоотречения являет нам искусчый угодник!
 Низшей, презренной формой угодничества считается подхалимство. Кажется,
нет той степени пренебрежения собственным достоинством, до которой не
опустится подхалим. Заискиванием перед вышестоящим пронизано все его
поведение, каждый шаг и жест, слово и взгляд.
Вопреки распространенному мнению, подхалим вовсе не бездарность, только
и способная тешить самолюбие того, перед кем пресмыкается. Умение вести себя
подобострастно -- немалое искусство, заключающее в себе своеобразный талант
угодливого человека.
Подхалим подобен некоторым рыбам южных морей. Эти рыбы ухитряются
менять пол в зависимости от перемены ситуации. Если, например, умирает
самец, возглавлявший рыбий гарем, то одна из наиболее активных самок
превращается в самца и начинает верховодить над своими бывшими подругами. У
нее изменяются половые органы, она распоряжается самками и приобретает все
мужские повадки. Так и подхалим готов занять место того, чьи достоинства
превозносит. Своей лестью он заранее осваивается с положением и привыкает к
тем качествам, которые этому положению приличествуют.
Так что каждый, кто видит умелого подхалима, пусть знает: перед вами --
тайный властелин. Не упускайте случая заручиться его благосклонностью. Хотя
снискать искреннее расположение подхалима почти невозможно. Таков парадокс
этой натуры. Многое обещая, она ничего не отдает.
Низшей, презренной формой угодничества считается подхалимство. Кажется,
нет той степени пренебрежения собственным достоинством, до которой не
опустится подхалим. Заискиванием перед вышестоящим пронизано все его
поведение, каждый шаг и жест, слово и взгляд.
Вопреки распространенному мнению, подхалим вовсе не бездарность, только
и способная тешить самолюбие того, перед кем пресмыкается. Умение вести себя
подобострастно -- немалое искусство, заключающее в себе своеобразный талант
угодливого человека.
Подхалим подобен некоторым рыбам южных морей. Эти рыбы ухитряются
менять пол в зависимости от перемены ситуации. Если, например, умирает
самец, возглавлявший рыбий гарем, то одна из наиболее активных самок
превращается в самца и начинает верховодить над своими бывшими подругами. У
нее изменяются половые органы, она распоряжается самками и приобретает все
мужские повадки. Так и подхалим готов занять место того, чьи достоинства
превозносит. Своей лестью он заранее осваивается с положением и привыкает к
тем качествам, которые этому положению приличествуют.
Так что каждый, кто видит умелого подхалима, пусть знает: перед вами --
тайный властелин. Не упускайте случая заручиться его благосклонностью. Хотя
снискать искреннее расположение подхалима почти невозможно. Таков парадокс
этой натуры. Многое обещая, она ничего не отдает.
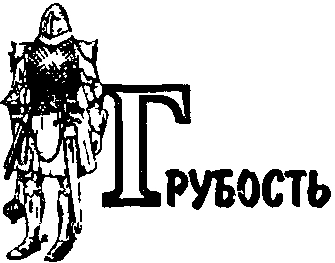 Грубый -- значит необработанный, необтертый, не пригнанный под
определенную мерку. Если так, то всякое проявление талантливости, и других
человеческих качеств, неминуемо выходящее за рамки обычного, следует счесть
грубостью. Ведь все выдающееся невольно унижает заурядность и пренебрегает
ее обыкновением. Разве не оскорблением заурядной натуры выглядит любое
проявление самобытной, яркой, оригинальной способности?
Грубиян поневоле стесняет окружающих. Он не стремится причинить им
вред, не желает унизить или оскорбить. Грубость отнюдь не тождественна
наглости или жестокости, хотя нередко приводит к бесцеремонным и уязвляющим
поступкам. Грубиян не стремится к злу, хотя часто его причиняет. Грубый
человек просто остается самим собой, он поступает в соответствии со
свойствами своей личности, он не умеет брать в расчет ни особенностей людей,
ни реальных обстоятельств. Единственный недостаток грубияна состоит в этой
простоте: в наивной неотесанной уверенности, что кроме него в мире никого
нет; или, по крайней мере, никого и ничего, с чем стоило бы сообразоваться.
Грубость, следовательно, проявление своего рода душевной близорукости.
В ней заключено безразличное отношение, не отличающее одно от другого, не
способное учесть своеобразия действительности. Однако эта же особенность
грубости выдает и своеобразное обаяние грубияна. Грубый человек -- сама
непосредственность (хотя нередко и обременительная). Он не умеет быть
приспособленцем. В нашем мире людей, поднаторевших в использовании масок,
безыскусность грубияна производит странное, но выгодное впечатление.
Кто груб, тот беспечен. А может быть и храбр. Ведь всякий человек
относится к жизни с вполне понятной осторожностью и даже опаской. Только
грубиян не замечает непростого норова окружающей реальности и совершенно
игнорирует его. Неудержимая схваченность собственной натурой, у которой он
оказывается в плену -- вот главное, что отличает грубого человека. Притом,
как следует из данного определения, подлинным грубияном может быть и тот,
кто не произнес ни одного бранного слова.
Неспособность грубияна прибегать к искусственным средствам
самоутверждения, которые давно стали обиходными для подавляющего
большинства, способна растрогать самого равнодушного. Грубияну претит
переступать через себя, прибегать к хитрости и лицемерию. Он стесняется
"делать вид", он органически не способен выражать то, что не является для
него естественным. Замечательное и для многих удивительное сочетание
грубости и застенчивости отнюдь не является случайным, а составляет, как мы
видим, закономерность жизни грубияна. Ведь грубиян, это тот, кто "не умеет
себя вести", кто может быть только самим собой, а не соблюдать установленный
порядок и следовать общепринятым манерам. Чувствуя эту свою неумелость,
грубиян, естественно, смущается; и тогда, чтобы не показаться смешным,
становится резок. Наиболее отчаянные вспышки грубости как раз и возникают из
ощущения нескладности собственного поведения и возникшего отсюда душевного
смятения.
Из приведенной характеристики грубости вытекают многие особенности
поведения грубияна. Так, грубый человек нетерпим к фальши и лицемерию. У
него чрезвычайно своеобразное отношение к "хорошему". Он считает, что обо
всем хорошем, проникновенном, нежном не говорят, ибо слово -- публично, а
все лучшее в человеке -- глубоко интимно. Все достойное находится внутри
нас, и там, не извлеченное на свет, не потревоженное словами, сокрытое, оно
и должно оставаться. Говорить можно лишь о повседневном, будничном, внешнем,
нежность же следует хранить в душе, полагает грубиян. Несомненно, грубой
натуре присуще в чем-то очень романтическое видение мира!
Из грубиянов нередко получаются прекрасные друзья. Вежливый,
предупредительный человек имеет очевидное преимущество перед грубым. И
все-таки: кого Бог хочет лишить друзей, того он наделяет неистребимой
вежливостью. Более всего вежливый человек боится побеспокоить и уязвить
другого, отчего он редко бывает вполне искренним. Он подчиняет свое
поведение требованиям хороших манер, а не собственным побуждениям и порывам.
Вследствие этого дружеские отношения лишаются непосредственности и столь
необходимых в дружбе искренности и самоотверженности. Напротив, грубиян
скорее готов разрушить сами дружеские отношения, чем изменить идее дружбы, в
основе которой лежит самоотверженная и бескорыстная забота о другом.
Друг-грубиян блюдет лучшее в нас вернее, чем мы сами. Дружески приняв наше
"я", он отстаивает его самоотверженно и упорно перед всем миром -- даже
перед нашими попытками изменить себе. Оттого грубиян весьма ценен в дружбе.
Берите грубиянов в друзья!
Грубости нельзя поддаваться, но к ней можно снисходить. Снисходить
очень простым способом: не обращая на нее внимания, не замечая ее вопиющей
бесцеремонности. Принимайте в расчет только чистое содержание того, что
предлагает грубая натура, игнорируя оскорбительную форму. Грубиян тяготеет к
демонстративности. Ваше же воздержанное поведение его обескуражит и,
лишенный противодействия, необходимого для возрастания грубости, он сникнет.
Спокойная независимость другого человека укрощает грубияна лучше всего.
Неприятная сторона грубости выражается в том, что природный грубиян
всегда чувствует свое превосходство над окружающим. Из этого ощущения
рождается пренебрежение ко всему, что попадается на глаза. Кто раз
подчинился грубости, тот подпал под отношения превосходства и подчинения.
Тогда грубые наклонности диктуют свое все безудержнее, в результате чего
поступки грубияна давят и уничтожают достоинство личности. Из этого
неизбежно возникает отчаянный протест живого существа, желающего сохранить
себя. Доведенные до предельного напряжения, отношения рвутся со скандалом,
горем, нередко завершаясь трагедией. Словом, безудержная грубость ведет к
беде. И оттого относитесь к грубияну терпимо, сдержанно -- но непреклонно.
Не пасуйте перед ним, и не отвечайте резкостью, примите его грубость как
бессмыслицу, как абсурдный поступок невменяемого существа. Поверьте, сам
грубиян будет Вам благодарен за столь нежное отношение, и отзовется на него
грубоватой, несколько бесцеремонной, но искренней преданностью.
Грубый -- значит необработанный, необтертый, не пригнанный под
определенную мерку. Если так, то всякое проявление талантливости, и других
человеческих качеств, неминуемо выходящее за рамки обычного, следует счесть
грубостью. Ведь все выдающееся невольно унижает заурядность и пренебрегает
ее обыкновением. Разве не оскорблением заурядной натуры выглядит любое
проявление самобытной, яркой, оригинальной способности?
Грубиян поневоле стесняет окружающих. Он не стремится причинить им
вред, не желает унизить или оскорбить. Грубость отнюдь не тождественна
наглости или жестокости, хотя нередко приводит к бесцеремонным и уязвляющим
поступкам. Грубиян не стремится к злу, хотя часто его причиняет. Грубый
человек просто остается самим собой, он поступает в соответствии со
свойствами своей личности, он не умеет брать в расчет ни особенностей людей,
ни реальных обстоятельств. Единственный недостаток грубияна состоит в этой
простоте: в наивной неотесанной уверенности, что кроме него в мире никого
нет; или, по крайней мере, никого и ничего, с чем стоило бы сообразоваться.
Грубость, следовательно, проявление своего рода душевной близорукости.
В ней заключено безразличное отношение, не отличающее одно от другого, не
способное учесть своеобразия действительности. Однако эта же особенность
грубости выдает и своеобразное обаяние грубияна. Грубый человек -- сама
непосредственность (хотя нередко и обременительная). Он не умеет быть
приспособленцем. В нашем мире людей, поднаторевших в использовании масок,
безыскусность грубияна производит странное, но выгодное впечатление.
Кто груб, тот беспечен. А может быть и храбр. Ведь всякий человек
относится к жизни с вполне понятной осторожностью и даже опаской. Только
грубиян не замечает непростого норова окружающей реальности и совершенно
игнорирует его. Неудержимая схваченность собственной натурой, у которой он
оказывается в плену -- вот главное, что отличает грубого человека. Притом,
как следует из данного определения, подлинным грубияном может быть и тот,
кто не произнес ни одного бранного слова.
Неспособность грубияна прибегать к искусственным средствам
самоутверждения, которые давно стали обиходными для подавляющего
большинства, способна растрогать самого равнодушного. Грубияну претит
переступать через себя, прибегать к хитрости и лицемерию. Он стесняется
"делать вид", он органически не способен выражать то, что не является для
него естественным. Замечательное и для многих удивительное сочетание
грубости и застенчивости отнюдь не является случайным, а составляет, как мы
видим, закономерность жизни грубияна. Ведь грубиян, это тот, кто "не умеет
себя вести", кто может быть только самим собой, а не соблюдать установленный
порядок и следовать общепринятым манерам. Чувствуя эту свою неумелость,
грубиян, естественно, смущается; и тогда, чтобы не показаться смешным,
становится резок. Наиболее отчаянные вспышки грубости как раз и возникают из
ощущения нескладности собственного поведения и возникшего отсюда душевного
смятения.
Из приведенной характеристики грубости вытекают многие особенности
поведения грубияна. Так, грубый человек нетерпим к фальши и лицемерию. У
него чрезвычайно своеобразное отношение к "хорошему". Он считает, что обо
всем хорошем, проникновенном, нежном не говорят, ибо слово -- публично, а
все лучшее в человеке -- глубоко интимно. Все достойное находится внутри
нас, и там, не извлеченное на свет, не потревоженное словами, сокрытое, оно
и должно оставаться. Говорить можно лишь о повседневном, будничном, внешнем,
нежность же следует хранить в душе, полагает грубиян. Несомненно, грубой
натуре присуще в чем-то очень романтическое видение мира!
Из грубиянов нередко получаются прекрасные друзья. Вежливый,
предупредительный человек имеет очевидное преимущество перед грубым. И
все-таки: кого Бог хочет лишить друзей, того он наделяет неистребимой
вежливостью. Более всего вежливый человек боится побеспокоить и уязвить
другого, отчего он редко бывает вполне искренним. Он подчиняет свое
поведение требованиям хороших манер, а не собственным побуждениям и порывам.
Вследствие этого дружеские отношения лишаются непосредственности и столь
необходимых в дружбе искренности и самоотверженности. Напротив, грубиян
скорее готов разрушить сами дружеские отношения, чем изменить идее дружбы, в
основе которой лежит самоотверженная и бескорыстная забота о другом.
Друг-грубиян блюдет лучшее в нас вернее, чем мы сами. Дружески приняв наше
"я", он отстаивает его самоотверженно и упорно перед всем миром -- даже
перед нашими попытками изменить себе. Оттого грубиян весьма ценен в дружбе.
Берите грубиянов в друзья!
Грубости нельзя поддаваться, но к ней можно снисходить. Снисходить
очень простым способом: не обращая на нее внимания, не замечая ее вопиющей
бесцеремонности. Принимайте в расчет только чистое содержание того, что
предлагает грубая натура, игнорируя оскорбительную форму. Грубиян тяготеет к
демонстративности. Ваше же воздержанное поведение его обескуражит и,
лишенный противодействия, необходимого для возрастания грубости, он сникнет.
Спокойная независимость другого человека укрощает грубияна лучше всего.
Неприятная сторона грубости выражается в том, что природный грубиян
всегда чувствует свое превосходство над окружающим. Из этого ощущения
рождается пренебрежение ко всему, что попадается на глаза. Кто раз
подчинился грубости, тот подпал под отношения превосходства и подчинения.
Тогда грубые наклонности диктуют свое все безудержнее, в результате чего
поступки грубияна давят и уничтожают достоинство личности. Из этого
неизбежно возникает отчаянный протест живого существа, желающего сохранить
себя. Доведенные до предельного напряжения, отношения рвутся со скандалом,
горем, нередко завершаясь трагедией. Словом, безудержная грубость ведет к
беде. И оттого относитесь к грубияну терпимо, сдержанно -- но непреклонно.
Не пасуйте перед ним, и не отвечайте резкостью, примите его грубость как
бессмыслицу, как абсурдный поступок невменяемого существа. Поверьте, сам
грубиян будет Вам благодарен за столь нежное отношение, и отзовется на него
грубоватой, несколько бесцеремонной, но искренней преданностью.
 Хитрец подобен канатоходцу, шагающему по проволоке высоко над толпой.
Ловкость его вызывает естественное восхищение, к которому примешивается
немалая доля страха от действия, происходящего в высоте. Толпа замирает,
трепещет, ужасается, она вся в напряжении, и при каждом удачном прыжке
гимнаста разражается восторженными криками.
Хитрец точно так же балансирует на острых и непредсказуемых гранях
жизненных событий, отважно и бестрепетно вступая в рискованное состязание с
обстоятельствами, людьми и различными могущественными силами (история знает
хитрецов, пытавшихся провести даже смерть). Уже одной этой отвагой и силой
духа он не може
Хитрец подобен канатоходцу, шагающему по проволоке высоко над толпой.
Ловкость его вызывает естественное восхищение, к которому примешивается
немалая доля страха от действия, происходящего в высоте. Толпа замирает,
трепещет, ужасается, она вся в напряжении, и при каждом удачном прыжке
гимнаста разражается восторженными криками.
Хитрец точно так же балансирует на острых и непредсказуемых гранях
жизненных событий, отважно и бестрепетно вступая в рискованное состязание с
обстоятельствами, людьми и различными могущественными силами (история знает
хитрецов, пытавшихся провести даже смерть). Уже одной этой отвагой и силой
духа он не може