---------------------------------------------------------------
The Bridge. Iain Banks
© Г. Корчагин, перевод, 2002
© А. Гузман, примечания, 2002
OCR by Vagrant: vagrant@bk.ru
"Лавка миров": http://lavka.cityonline.ru
---------------------------------------------------------------
Наиболее знаменитый роман автора скандальной "Осиной Фабрики". Снова
три плана повествования: потерявший память человек на исполинском мосту,
подменяющем целый мир; варвар, его верный меч и колдун-талисман в сказочной
стране; инженер-энергетик в Эдинбурге и его бурная личная жизнь. Что между
ними общего? Кто кому снится? И кто - один-единственный - в итоге проснется?
Посвящается Джеймсу Хейлу
В капкане. Раздавлен. Переплетен с обломками (с машиной следует
сродниться), тяжесть давит со всех сторон. Только не надо огня! Ради бога,
не надо огня! Блин! Вот тут болит. Чертов мост... Сам виноват, сам свалял
дурака (да, мост, будь он проклят, он цвета крови; видишь мост, видишь, как
человек гонит машину, видишь, что он не видит другой автомобиль, видишь
офигенно здоровенный ТРАХ-ТАРАРАХ, видишь, как истекает кровью водитель с
переломанными костями; кровью цвета моста. Да, сам виноват. Идиот!) Только
бы не загорелось! Кроваво-красный цвет. Кроваво-красный мост. Видишь, как
человек обливается кровью, как протекает машина. Красный радиатор, красная
кровь. Кровь - точно красное масло. А насос все качает... блин! Говорю:
"Блин, до чего же больно!" Насос качает, но жидкость бежит куда не надо,
протекает всюду, заливает все кругом. Может, сейчас еще и в зад въедут, и
поделом, но хоть огня пока нет, и на том спасибо. Интересно, сколько...
сколько уже прошло? Машины. Полицейские машины (бутерброды с джемом).
Бутерброд с джемом. Ты джем, а машина хлеб. Вместе - бутерброд с джемом.
Видишь, как человек истекает кровью. Сам виноват. Молись, чтобы никто другой
не пострадал (нет, не молись, ты же атеист, помнишь, всегда сквернословил
[мама: "не надо употреблять таких выражений"], всегда клялся, что атеистом
останешься и в окопе под огнем, что ж, приятель, настал твой час, ты
сочишься на розовато-серую дорогу, и в любой момент может вспыхнуть, или
вдруг и так травма несовместимая с жизнью, а еще другая машина может въехать
в зад, если еще кто-нибудь заглядится на этот чертов мост, так что коли
все-таки надумаешь молиться, то сейчас для этого самое подходящее время,
только, блин, япона мать, ДОЧЕГОЖЕБОЛЬНОГОСПОДИ [все в порядке, это не
ругательство, так, словечко для придания эмоциональной окраски фразе,
честное слово; Господь свидетель]! короче: ну ты, господи, и мерзавец.)
Сказано в точку, малыш. А что это за буквы? "MG" и "VS". И я: "233 FS"? А
как насчет?.. Где?.. Кто?.. Блин, собственное имя забыл. Так уже было
однажды, на вечеринке: надрался, наширялся и слишком резко встал, но сейчас
все по-другому. (И почему это я помню, как в тот раз память отшибло, а
сейчас имени своего вспомнить не могу? А дело-то, похоже, серьезное. Не
нравится мне все это. Надо отсюда сваливать поскорее.)
Я вижу обрыв в джунглях, увитый лианами мост и реку внизу. Появляется
огромный белый кот (я?), прыжками несется по тропе, заскакивает на мост.
Ягуар-альбинос (я?) по качающемуся мосту (что я вижу? где это? вот так оно
было на самом деле?) летит длинными красивыми скачками, белая смерть (ей бы
черной быть, но я, ха-ха, известный негативист) стремится пересечь мост...
Стоп машина. Сцена бледнеет, в ней появляются дыры, прогорает пленка
(огонь?!), застряла, изображение плавится, видимость разрушается (видишь,
как видимость разрушается?); ничто не выдерживает столь пристального
внимания. Остается лишь белый экран.
Боль. В груди - кольцо боли. Как тавро, как круглый отпечаток (я -
фигурка на проштемпелеванной марке? клочок пергамента с надписью: "Из
книг........... [Прошу закончить, выбрав
из списка:
а) Господа Бога, эсквайра
б) Природы (миссис)
в) Ч. Дарвина и сыновей
г) К. Маркса, Ltd.
д) Всех вышеперечисленных.]). Больно. Белый шум, белая боль. Сначала -
тяжесть со всех сторон, теперь - боль. Бесконечное разнообразие жизни. Я
движусь. Экий мобильный. Меня что, вырезали из обломков? Или вспыхнуло
пламя? Может, я просто умираю, выбеленный, обескровленный? (Сданный,
просроченный?) Ничего теперь не вижу (теперь вижу все). Я лежу на равнине, в
окружении гор (а может, на койке, в окружении... медицинских аппаратов?
людей? и тех, и других? (Приятель, это одно и то же, если взглянуть шире. Во
загнул.) А кому какое дело? Мне-то самому есть дело? Блин! Может, я уже
труп! Может, это жизнь после жизни... гм... А что если все остальное было
сном (ну да, точно) и я сейчас проснусь и окажусь ("Темнаястан-ция")... это
еще что?
Вы слышали? Я-то слышал?
Темная станция. Ну вот, опять. Звук, похожий на паровозный свисток.
Что-то куда-то отправляется. Что-то сейчас начнется или закончится, а может,
и начнется, и закончится. Что-то, а именно ТЕМНАЯСТАНЦИЯ я. Или не я (не
могу знать; сам не местный; с меня какой спрос).
Темная станция.
Ну ладно, ладно...
Темная станция, безлюдная и заколоченная, эхом вторила свистку
уходящего поезда. В вечернем сумраке звук этот казался сырым и холодным,
будто бы многое перенял от своей создательницы - струи отработанного пара из
котла. Сомкнутые в черный покров деревья впитывали звук, как впитывает влагу
плотная ткань; лишь кое-где целостность этого покрова нарушалась: там -
скалой, здесь - обрывом, чуть дальше - каменной осыпью; от них-то и
возвращались назад слабейшие отголоски.
После того как оборвался свист, я стоял и глядел на сиротливую станцию,
не спеша повернуться кругом, к безмолвной карете. Я напрягал слух, тщась
выловить из крутобокой долины хотя бы намек на деловитое пыхтение паровозной
трубы, на сосредоточенный перестук поршневых сердец, на досужую трескотню
клапанов и ползунов. Однако ни единый звук не тревожил бездвижности воздуха;
состав ушел. Черным по пасмурному небу рисовались острые коньки станционной
крыши и широкие дымовые трубы. Кое-где над скатами и закопченными кирпичами
висели клочки то ли тумана, то ли дыма. Казалось, мою одежду пропитал запах
угольной гари, отработанного пара.
Я все-таки повернулся и взглянул на карету. Траурно-черная, она была
заперта снаружи, запломбирована и обвязана толстыми кожаными ремнями. В
упряжке две кобылы нервно топтали палую листву на уходящей от станции
грунтовой дороге, взмахивали головами, пучили глазищи. Позвякивала упряжь,
подрагивала карета, из раздувающихся конских ноздрей струями бил пар.
Отправление поезда в лошадином исполнении.
Я осмотрел заколоченные окна и запертые двери кареты, подергал тугие
ремни и крепкие замки, потом забрался на козлы и взял вожжи. С высоты глянул
на тонущую в лесном мраке узкую дорогу. Дотянулся до кнута, но после
некоторых колебаний положил его назад - не хотелось нарушать его ударами
чарующую тишь долины. Ухватился за деревянный рычаг тормоза. По какому-то
загадочному капризу физиологии ладони взмокли, а во рту пересохло. Карету
потряхивало, - наверное, из-за топтания лошадей.
Небо над головой было скучно, однообразно Серым. Самые высокие горные
вершины вокруг меня, прорываясь из лесного покрова, почти сразу вонзались в
тусклую облачную рогожу; казалось, их иззубренные пики и острые гребни
смешали друг с другом вездесущий цепкий пар и тусклый, не дающий теней свет.
Я достал часы. Даже если все пойдет благополучно, вряд ли моя поездка
завершится до захода солнца. Я похлопал по карману, где лежали кремень и
трут, - не пропаду в потемках. Снова качнулась карета, в упряжке беспокойно
шевелились кони: переминались, изгибали гаси, выкатывали глаза с широкими
белками.
Больше задерживаться нельзя. Я убрал тормоз и погнал коней рысью.
Кренился и скрипел мой экипаж, тяжко погромыхивал на разбитой дороге, нес
меня прочь от темной станции, в черный лес.
Дорога шла в гору между деревьями, между полянками, через горбатые
деревянные мостики. В лесном сумраке и тиши бурлящие под мостами речушки
казались оазисами бледного свечения и хаотического шума.
Чем выше в гору я забирался, тем ощутимей свежел воздух. Словно
облаком, я был окутан паром дыхания кобыл и запахом их пота. Мой собственный
пот студил мне лоб и руки. Я полез в карман пальто за перчатками; пальцы
задели толстую рукоять лежащего в кармане сюртука револьвера. Я надел
перчатки, запахнул плотней пальто, а когда затягивал пояс, вспомнил о ремнях
и замках на карете и обернулся. Впрочем, темнота не позволила узнать, на
месте ли они.
Редел лес, склон набирал крутизну. Лошади уже с трудом рысили по колеям
на дороге; я приближался к нижней поверхности темно-серого покрова; щупальца
еле различимого облака сплетались друг с другом и вбирали в себя призрачный
пар из конских ноздрей. Долина внизу превратилась в черную бесформенную
бездну; ни единого проблеска, ни малейшего шевеления, ни тишайшего звука в
ее глубинах. И тут, когда я въезжал в облачную пелену, как будто стон
донесся из кареты; она резко накренилась - то колесо налетело на торчащий из
земли камень. Я уже осознанно нащупал пистолет, убеждая себя, что слышал
всего лишь скрип при трении деревянных деталей экипажа. Облако сгущалось.
Едва видимые обочь моей жалкой дороги корявые низкорослые деревца напоминали
уродливых карликов - часовых какой-нибудь призрачной крепости.
Я остановил лошадей в тумане на сравнительно пологом участке пути. Как
только язычки огня выровнялись в фонарях кареты, образовались два световых
конуса, и этим слабым лучам едва удалось выхватить из сумрака покрытые
потом, нервно вздрагивающие кобыльи головы. Но сосредоточенное шипение
фонарей мало-мальски успокаивало, приободряло меня. Их сияние позволило еще
раз, теперь уже как следует, проверить крепеж. Кое-что ослабло - бесспорно,
по вине многочисленных ухабов и камней на дороге. Управившись с этим делом,
я снова развернул фонари вперед. Рассеянные лучи упирались в туман, словно
тени на фотонегативе, тая больше, чем раскрывая.
Карета то выныривала из облака, то снова в него окуналась, а дорога,
хотя постепенно сглаживалась и делалась прямее, все меньше походила на
дорогу. Она вела к узкому проходу между скалами; туман мало-помалу
становился жиже. Справа и слева от меня фонари зашипели вроде бы поровнее,
поднабрались яркости их лучи. Я приближался к седловине - верхнему участку
перевала; я знал, что за ним лежит небольшое плато.
Последние жгутики тумана скользнули по блестящим конским бокам, по
опоясанной ремнями карете - словно гигантское привидение тщилось удержать
меня своими бесплотными пальцами. А наверху сияли звезды.
Кругом вонзались в ночную мглу серые вершины, иззубренные и чуждые.
Ограниченное утесами плато в ярком звездном свете тоже было серым, как
сталь; от камней у кареты, справа и слева, стелились плотные тени,
порожденные лучами фонарей. Дальше - сливались в океан облака и призрачные
волны омывали каменные архипелаги. Оглянувшись, я увидел горные пики с
противоположной стороны покинутой нами долины, а едва снова устремил взгляд
вперед, заметил огни приближающейся кареты.
Своим невольным содроганием я испугал коней, они заржали и попятились.
Я тотчас заработал вожжами, погнал лошадей вперед, коря себя за нервозность
и пытаясь в меру сил успокоить свое трусоватое сердце. Далекая карета была,
как и моя, оснащена двумя фонарями; она пока еще находилась на
противоположном краю окаймленной скалами седловины.
Я затолкал револьвер поглубже во внутренний карман и, взмахнув вожжами,
послал тяжко дышащих кобыл медленной рысью; даже на ровной дороге им это
давалось очень и очень нелегко. Встречные подрагивающие огни - две чуть-чуть
не долетевшие до земли звезды - теперь приближались заметно быстрее.
Близ центра плато, посреди россыпи валунов, кареты сбавили ход. Здесь
ширины дороги хватало только для одного экипажа, торившим ее людям пришлось
перенести уйму больших и малых камней на обочины. Впрочем, была оборудована
небольшая овальная площадка, чтобы могли разъехаться встречные повозки. И
площадка эта лежала как раз на полпути между моей и чужой каретами. Мне уже
удалось разглядеть двух белых коней, и, хотя мешало сияние фонарей, я видел
смутный силуэт восседающего на козлах человека. Я придержал кобыл, чтобы
оказаться на площадке одновременно со встречным экипажем. Другой возница
словно прочитал мои мысли - он тоже замедлил шаг своих коней.
Именно в этот миг и охватила меня странная, необъяснимая робость.
Внезапно по телу прошла сильная дрожь, словно от удара электрическим током
или как будто невидимая и бесшумная молния поразила меня с небес. Кареты
достигли противоположных краев площадки. Я принял вправо, а встречный экипаж
двинулся влево, и упряжки преградили друг другу путь. Кони остановились, не
дожидаясь команды от своих возниц. Я зацокал и натянул вожжи, дал задний
ход; так же поступил и незнакомец. Я замахал рукой темному силуэту, давая
понять, что на этот раз двинусь влево, освобождая ему справа проезд; он
махнул одновременно со мной. Карсты стояли. По жестам возницы я не мог
определить, понял ли он меня, и все же решил рискнуть. Я увлек своих
взмыленных лошадей влево, и снова другая карета двинулась так, словно ее
владелец вознамерился не пропустить меня, причем двинулся одновременно со
мной; казалось, мы действуем совершенно одинаково.
Мне осталось лишь признать свое поражение. Две пары лошадей стояли друг
против друга посреди участка ровной земли, освещенного четырьмя фонарями и
заполненного паром конского дыхания. Я решил на этот раз не трогаться с
места, а дождаться, когда проедет встречный экипаж.
Но и чужая карета оставалась совершенно неподвижной. Меня охватила
растерянность, все тело невольно напряглось. Я поддался искушению встать,
прикрыть глаза ладонью от света потрескивающих фонарей и вглядеться в
возницу, который точно так же рассматривал меня с другого конца этого
непреодолимого, по какой-то загадочной причине, отрезка пути. Да, незнакомец
тоже поднялся на ноги, словно был не живым человеком, а моим отражением в
зеркале; готов поклясться, что и он поднес ладонь к глазам.
Я обмер. В груди заколотилось сердце, а руки сделались липкими; даже
лайковые перчатки не скрадывали этого ощущения. Я кашлянул, прочищая горло,
и воззвал к незнакомцу:
- Сэр! Если угодно, проезжайте... - И осекся.
Другой возница заговорил - и умолк - одновременно со мной. Голос его не
был эхом моего, он произнес не те же слова, что и я. У меня даже не было
уверенности, что я слышал родной язык. Но тон был как две капли воды похож
на мой - тут я бы голову дал на отсечение. Меня объял гнев, я что есть сил
замахал вправо, а незнакомец, столь же энергично, - влево.
- Направо! - выкрикнул я и услышал его возглас.
Несколько мгновений я оставался в неподвижности; я не мог обманывать
себя, будто дрожь, пробегающая по телу, - обыкновенная реакция на
температуру воздуха. И не только для того я поспешил сесть, чтобы поехать
выбранным курсом, - обмякли ноги, и ослабшему от страха телу понадобилась
другая опора. Не глядя прямо на недруга (а как еще назвать человека, явно
вознамерившегося не давать тебе проезда?), я поднял кнут и защелкал им над
кобылами, заставляя их принять влево. Я не услышал щелканья другого бича, но
чужие кони, подобно моим, вздыбились, а затем двинулись вправо; несколько
секунд упряжки неслись навстречу, затем обе пары коней снова поднялись на
дыбы, звеня сбруей, брыкая передними ногами, мотая головами. Не столкнулись
лошади просто чудом. Я с криком поднялся и заработал кнутом, потянул на себя
вожжи, что было сил пытаясь объехать чужую карету. Снова напрасно -
казалось, встречный экипаж повторял каждое движение моего.
Наконец я заставил перепуганных лошадей попятиться; белые кони
напротив, ничуть не менее возбужденные, поступили точно так же. У меня
дрожали руки, на лбу выступил холодный пот. Я изо всех сил напрягал глаза,
но разглядеть загадочного противника не удавалось - сияние его фонарей
показывало лишь нечеткие контуры фигуры, а лицо оставалось неразличимым
пятном.
Но я был уверен, что передо мной не зеркало (хотя, при всей своей
абсурдности, это объяснение было тогда предпочтительней любого другого), и,
кроме того, чужие лошади были белыми, тогда как запряженная в мою карету
пара - темной. Что же дальше? Другого пути здесь нет, убранные с дороги
камни навалены на обочинах сплошной, в половину человеческого роста, стеной.
Если и найдется проем, достаточно широкий для кареты, по валунам далеко не
уедешь.
Я положил кнут и спустился на каменистую дорогу. Точно так же поступил
и другой возница, и при виде этого меня снова сковало необъяснимое
оцепенение. Почти невольно я обернулся и взглянул мимо запертой кареты на
дорогу за краем площадки. Вернуться тем же путем? Это казалось немыслимым.
Даже будь у меня обыкновенная, вполне земная задача, даже будь я заурядным
путником, намеренным лишь достичь отдаленной гостиницы или некоего городка
за перевалом, я бы вряд ли захотел повернуть обратно. От самой станции и до
этой седловины мне не попалось ни одной тропки, ответвлявшейся от моей
дороги. И я не слышал, чтобы где-нибудь в пределах дня езды был другой
перевал. А если еще учесть, что за груз у меня и сколь срочно я должен его
доставить... Иными словами, ничего не остается, кроме как ехать дальше своим
путем. Я плотнее запахнул ворот - только для того, чтобы незаметно прижать к
груди спрятанный револьвер. Ободрив себя таким образом и попытавшись собрать
в кулак всю волю, все здравомыслие, я едва не упустил из виду, что человек в
сиянии своих огней повторяет мои движения. Он, прежде чем зашагать вперед,
тоже поднял воротник пальто.
Одежда на незнакомце была похожа на мою, а впрочем, любое другое
облачение в столь прохладную погоду грозило бы воспалением легких. Пожалуй,
пальто у него было чуть подлинней моего. Сам он был немного плотней, чем я,
совсем немного. Я поравнялся с беспокойно дергающимися головами моих лошадей
- а он со своими. Наверное, еще ни разу в жизни мое сердце не билось так
сильно, так часто. Меня охватил незнакомый страх, он подталкивал навстречу
этой по-прежнему неразличимой фигуре. Словно мощнейшее магнитное поле, до
сих пор не позволявшее нашим каретам столкнуться или миновать друг друга,
теперь поменяло полюса. Неведомая сила заставляла меня шагать вперед, к
тому, чего я так боялся или должен был бояться. Вот так же некоторых людей
необъяснимо влечет бездна, на краю которой они стоят.
Он замер. И я замер. И тут на меня нахлынуло облегчение, я пережил миг
невыразимой радости, увидев, что у этого человека - не мое лицо. Оно было
квадратным, глаза посажены близко друг к другу и глубоко, а на верхней губе
чернели усы. Он глядел на меня, стоя в лучах моих фонарей, как я стоял в его
свете; он изучал мое лицо, вероятно, с таким же интересом и облегчением,
какие чувствовал я. Я было заговорил, но дальше слов "с кем имею честь?"
дело не зашло. Рот незнакомца исторг звуки в то же мгновение, что и мой. Это
было какое-то слово или короткое предложение, по всей видимости адресованное
мне, как и мои слова предназначались ему. Да, теперь уже я не сомневался,
что он говорит на иностранном языке. Но что это за язык, мне пока не удалось
определить. Я ждал, когда незнакомец снова заговорит, но он молчал, -
видимо, изучал мое лицо.
Мы одновременно качнули головами.
- Это сон, - тихо произнес я, в то время как он бормотал что-то свое. -
Этого не может быть, - продолжал я. - Это невозможно! Я сплю, и ты -
порождение моего разума.
Мы оба разом замолчали.
Я взглянул на его карету, а он посмотрел на мою. Внешне его экипаж мало
отличался от моего. Был ли тот обвязан ремнями, заперт и опломбирован, я не
мог судить, равно как и о том, так ли важно его содержимое, как и мой груз.
Внезапно я шагнул вбок, и незнакомец двинулся в то же мгновение, как
будто хотел преградить мне путь. Мы отступили друг от друга. Я уже
чувствовал его запах, какую-то непривычную, резкую парфюмерию, с примесью
несвежего запашка иноземной пряности или луковичного растения. У него чуть
сморщилось лицо, словно и от меня повеяло чем-то не особо приятным.
Отчего-то у него дернулась бровь, я вспомнил о револьвере. В мозгу
разыгралась абсурдная сцена, как мы выхватываем оружие и стреляем и пули
сталкиваются между нами в воздухе, расплющиваются в идеально круглую монету.
Мой несовершенный двойник улыбнулся, точно так же поступил и я. Мы покачали
головами. По крайней мере, этот жест не нуждался в переводе, хотя мне пришло
в голову, что медленный задумчивый кивок был бы столь же уместен. Мы
отступили на шаг и дружно оглядели безмолвную, стылую, дикую местность, как
будто в самом этом запустении кто-нибудь из нас мог найти что-то ободряющее,
или даже оба.
Я ничего ободряющего не увидел.
Каждый из нас повернулся, подошел к своей карете и забрался на козлы.
Некоторое время смутный силуэт сидящего во мгле за неровным сиянием
фонарей человека не шевелился (наверное, в точности как и я). Затем он
безнадежно пожал плечами (как и я), ссутулился, одной рукой взял вожжи -
стариковским, как мне показалось, движением (а я всему этому подражал, и на
меня тоже нахлынули старческая тоска, усталость и тяжесть, а холод - не чета
холоду ветра - пронизал все мое тело).
Он осторожно потянул вожжи, заставив коней запрокинуть головы; такой же
сигнал и я дал своей упряжке. Мы начали разворачиваться, каждый на своей
половине тесного разъезда, подавали свои кареты то вперед, то немного назад
и свистели коням.
"Когда мы окажемся вровень, - подумал я, - как боевые корабли сходятся
бортами, я выхвачу оружие и выстрелю". Возвращаться я не могу, и если он не
уступит дорогу, то буду прорываться с боем, потому что у меня нет выбора.
Наши неуклюжие колесницы медленно маневрировали. Его карета, как и моя,
была наглухо заперта и крепко обвязана. Он посмотрел на меня и неторопливо,
почти расслабленно, сунул руку за отворот пальто. Точно так же действовал и
я - запустил ладонь во внутренний карман сюртука и осторожно потянул
револьвер. Снимет ли недруг сейчас перчатку? Мы оба ждали. Наконец он
расстегнул перчатку на запястье, как и я, положил ее рядом с собой на
сиденье, а затем навел на меня оружие.
На спусковые крючки мы нажали одновременно. Раздались два тихих щелчка,
больше ничего.
Мы дружно отщелкнули барабаны. В свете фонаря я увидел, что боек бил по
капсюлю - на медной поверхности осталась крошечная вмятина. Либо капсюль
бракованный, либо порох отсырел. Такое не редкость.
Незнакомец посмотрел на меня, и улыбки наши были печальны. Оба спрятали
револьверы в карманы, затем окончательно развернули кареты и разъехались; я
повез свой страшный груз обратно в долину, под облачный покров, а он свой -
в другую долину.
- ...И тогда мы разом стреляем, вернее, нажимаем на спуск, и ничего не
случается. Оба патрона оказались негодными. Поэтому мы просто... улыбаемся
друг другу, с покорностью, наверное, разворачиваем кареты и едем восвояси, -
заканчиваю я свой рассказ.
Доктор Джойс глядит на меня поверх золотой оправы очков:
- Это и есть ваш сон?
Я киваю:
- И тут я проснулся.
- И все? - проявляется раздражение в голосе Джойса. - Больше ничего не
было?
- На этом сон закончился, - твердо произношу я.
На лице доктора Джойса отчетливо видится недоверие (и вряд ли можно
строго судить за это моего лечащего врача, ведь все вышеизложенное -
сплошное вранье), он качает головой, и трудно объяснить этот жест чем-либо
иным, кроме недовольства.
Мы стоим в центре зала о шести черных стенах, но без мебели. Это
теннисный корт, и близится конец гейма. Доктор Джойс - джентльмен лет
пятидесяти, в неплохой физической форме, хоть и чуть полноватый, - считает,
что лечение можно проводить в любой обстановке. Оба мы умеем махать
ракетками, поэтому предпочитаем играть здесь, а не сидеть в его кабинете. В
перерывах между розыгрышами очков я рассказываю свои сны.
Доктор Джойс румян и сед. Выбеленные временем кудри, розовое лицо,
розовые же, с веснушками и седыми волосками, руки и ноги торчат
соответственно из рукавов рубашки и штанин серых шорт. Однако глаза,
прячущиеся за очками в золотой оправе и цепочкой, голубые, их взгляд тверд,
остер и вовсе не подходит к румяной физиономии. Как будто в шмат сырого мяса
на блюде воткнули два осколка синего бутылочного стекла. Он тяжело дышит (в
отличие от меня), обильно потеет (а я только в последнем розыгрыше немножко
взмок) и глядит на меня с глубоким подозрением (вполне, как я уже сказал,
обоснованным).
- Проснулись? - спрашивает он.
Я стараюсь придать своему тону максимум возмущения:
- Да помилуйте, не могу же я контролировать свои сны!
(Это ложь.)
С глубоким профессиональным вздохом врач подцепляет ракеткой
пропущенный им в конце последнего розыгрыша мяч и пристально глядит на
стенку для подач.
- Ваша подача, Орр, - говорит он кисло.
Моя так моя. Подаю. Теннис - игра для двух игроков. У каждого участника
две ракетки: ударная и ведущая. Корт шестиугольный, покрашенный в черное;
мячей два, оба розовые. Благодаря сему последнему факту и тяжеловесной
разновидности юмора, которая на мосту считается остроумием, теннис прозван
"мужской игрой". У доктора Джойса стаж в ней побольше, чем у меня, но мой
партнер ниже ростом, больше весит и старше, да и с координацией движений у
него похуже. Я играю (по рекомендации физиотерапевта) всего лишь шесть
месяцев, но одерживаю верх в последнем розыгрыше, а значит, и в гейме без
особого труда, ведя по корту один мяч, пока Джойс неловко возится с другим.
И вот доктор стоит, пыхтит и прожигает меня взглядом - воплощенное
недовольство.
- Вы уверены, что больше ничего не было? - спрашивает он.
- Вполне, - отвечаю.
Доктор Джойс - толкователь моих снов. Он специализируется на анализе
сновидений и верит, что копание в моих кошмарах позволит узнать обо мне
больше, чем я сам способен рассказать (у меня амнезия). Он надеется, изучив
все добытые с помощью этого метода находки, затем каким-то образом
встряхнуть, вернуть к жизни мою усопшую память. Оп-ля! Один могучий скачок
воображения - и я исцелен. Вот уже полгода я честно лезу из кожи вон,
пытаясь ему помочь в этом благородном деле. Беда в том, что обычно мои сны
либо слишком сумбурны и их невозможно восстановить в деталях, либо слишком
банальны и просто не заслуживают исследования. В последнее время доктор явно
теряет терпение, и я, чтобы его не огорчать, придумал сон. Я очень надеялся,
что история о запертых каретах даст доктору Джойсу пищу для его желто-серых
зубов, но, судя по его кислой физиономии и вызывающему поведению, я дал
маху.
- Благодарю за игру, - говорит он.
- Всегда к вашим услугам, - улыбаюсь.
В душевой доктор Джойс бьет меня ниже пояса:
- Орр, как у вас с либидо? Нормально?
Он намыливает брюшко, я декорирую пенными кругами свою грудь.
- Да, доктор. А у вас?
Добрый доктор отворачивается.
- Я задаю этот вопрос, исходя из профессиональных соображений, -
объясняет он. - Мы, медики, считаем, что на сексуальной почве могут
возникнуть кое-какие проблемы. Если вы уверены, что... - Голос замирает,
Джойс заходит под струи воды - смыть пену.
Чего хочет добрый доктор? Чтобы я ему рекомендации предоставил?
Вымывшись, переодевшись и заглянув в бар при теннисном клубе, мы на
лифте поднимаемся на этаж, где расположена клиника доктора Джойса. В сером
костюме и розовом галстуке ему удобней, чем в спортивной форме, но он все
равно потеет. А мне в брюках, шелковой рубашке, жилете и сюртуке (правда,
сейчас перекинутом через руку) свежо и прохладно. Гудит на подъеме лифт -
класса "люкс": кожаные сиденья, растения в горшках. Доктору Джойсу угодно
присесть на скамью у стены, рядом с читающим газету лифтером. Врач достает
не очень свежий носовой платок и вытирает лоб.
- И что же, по вашему мнению, означает этот сон, Орр?
Я гляжу на чтеца-лифтера. В кабине, кроме нас троих, никого нет, но, на
мой взгляд, для столь приватной беседы даже присутствие обслуживающего
персонала - серьезная помеха. Не случайно же мы направляемся в клинику. Я
рассматриваю деревянные панели, кожаную обивку и маловпечатляющие
маринистские эстампы. И прихожу к выводу, что мне больше по вкусу лифты с
видом на море.
- Не имею представления, - отвечаю.
Вроде помнится, что раньше я думал, будто Джойс и призван раскрыть мне
значение моих снов, однако добрый доктор давно развеял это мое заблуждение,
и я уже не пытаюсь видеть сны, достаточно насыщенные смыслом для его
исследований.
- Но в том-то и дело, что вы должны иметь представление, - устало
говорит Джойс.
- Но не хочу вам рассказывать? - предполагаю я.
Доктор Джойс отрицательно качает головой:
- Наверное, просто не можете рассказать.
- Зачем же спрашиваете?
Лифт тормозит и останавливается. Клиника расположена примерно в
середине верхней половины моста, на равном удалении от вечно окутанного
паром железнодорожного яруса и одной из часто затягиваемых облаками верхушек
грандиозного сооружения. Доктор Джойс - человек весьма влиятельный, поэтому
его кабинеты находятся в пристройке на боку основной конструкции. Насколько
мне известно, такие помещения с видом на море столь же популярны, сколь и
дефицитны. Мы ждем, когда отворится дверь.
- Орр, вы должны спросить себя, - говорит доктор Джойс, - что означают
подобные сны в связи с мостом.
- С мостом? - гляжу на врача.
- Да, - кивает он.
- Чего-то я недопонял, - возражаю. - Ума не приложу, какая может быть
связь между мостом и снами вашего покорного слуги.
Врач снова пожимает плечами.
- Быть может, сон - это мост, - рассуждает он, пока разъезжаются
створки двери кабины. Вынимает из кармана пропуск, демонстрирует лифтеру. -
А быть может, мост - это сон.
(Очень ценная информация, ничего не скажешь.) Я показываю лифтеру
больничный браслет-пропуск и иду за добрым доктором по широкому, устланному
коврами коридору.
Браслет на моем правом запястье представляет собой пластмассовую
полоску. В нее заделано какое-то электронное устройство, хранящее мое имя и
адрес. Также оно излагает кому следует мой диагноз, показанную терапию и имя
лечащего врача. На полоске отпечатано мое имя: "Джон Орр". Вообще-то, имя не
настоящее, мне его дала администрация больницы, когда я туда попал. "Джон" -
потому что это распространенное и безобидное слово. Почему "Орр"? Когда меня
выловили из бурлящих вокруг исполинского гранитного быка вод, на груди
увидели большую багровую ссадину, почти идеальную окружность, впечатавшуюся
в мою плоть (и кость - у меня было сломано шесть ребер). Орр - первое слово
на "О", пришедшее в голову моей сиделке. По традиции имена
найденышам-несмышленышам дают медсестры, а при мне не обнаружили никакого
удостоверения личности, да и сам я не помнил, как меня зовут.
Надо добавить, что у меня все еще побаливает иногда грудь, как будто
удивительная фигурная отметина сохранилась во всей своей красе. И уж
конечно, на голове остались следы страшных ударов, из-за которых я потерял
память. Доктор Джойс склонен и боль в моей груди списывать на ту же травму,
что явилась причиной амнезии. По его мнению, в моей неспособности вспомнить
прошлое лишь отчасти виноваты ушибы головы. Возможно, я вдобавок пережил
какой-то психологический шок, а следовательно, разгадку амнезии надо искать
в моих сновидениях. Собственно говоря, потому-то он и взялся меня лечить. Я
- интересный случай, вызов его профессионализму. Он раскопает мое прошлое, и
не важно, сколько времени займет эта работа.
В прихожей клиники мы встречаем симпатичного молодого человека,
секретаря доктора. Этакий живчик и весельчак, не лезет в карман за
шуточкой-прибауточкой, всегда готов предложить чайку-кофейку или помочь
посетителю снять-надеть пальто. Его мордашка не знает мрачности и уныния,
раздражения и досады, и любые слова пациентов Джойса он воспринимает с
искренним любопытством. Он строен, хорошо одет, прилизан; запах его
одеколона приятен, но ненавязчив; прическа аккуратна и изящна и притом не
кажется искусственной. Следует ли добавлять, что все мои знакомые из числа
пациентов доктора Джойса откровенно презирают этого типа?
- Доктор! - восклицает секретарь. - Как я рад снова вас видеть!
Надеюсь, игра доставила вам удовольствие?
- Да, да, - без особого энтузиазма отвечает врач, оглядывая приемную.
Кроме секретаря здесь лишь двое людей: полицейский и некий тощий
настороженный субъект с густейшей перхотью на голове. Он сидит с закрытыми
глазами в одном из полудюжины кресел. Полицейский устроился на его плечах и
прихлебывает кофе. Доктор Джойс не удостаивает эту мизансцену повторного
взгляда. - Мне звонили? - обращается он к Молодому-Да-Раннему, а тот встает
и низко кланяется, сложив ладони домиком.
- Ничего срочного, сэр. Я все зафиксировал в хронологическом порядке,
список у вас на столе; в левой колонке - нумерация по ориентировочному
порядку приоритетности касательно ответов. Чашечку чая, доктор Джойс? Или,
может быть, кофе?
- Нет, спасибо, - отмахивается Джойс от Молодого-Да-Раннего и
скрывается в своем кабинете.
Я отдаю МДР свой сюртук, и МДР говорит:
- Доброе утро, мистер Орр! Можно, я возьму ваш?.. О, благодарю!
Надеюсь, игра доставила вам удовольствие, мистер Орр?
- Нет.
Полицейский все так же сидит на плечах тощего субъекта и глядит в
стенку, на его лице не то угрюмость, не то смущение.
- О господи! - Физиономия юного секретаря изображает последнюю степень
отчаяния. - Как досадно это слышать, мистер Орр! Может быть, вас взбодрит
чашечка кофе или чая?
- Нет, спасибо.
Я спешу вслед за врачом в кабинет. Доктор Джойс разглядывает список
звонков, лежащий под пресс-папье на его внушительном столе.
- Доктор, - говорю, - почему в вашей приемной полицейский сидит на
человеке верхом?
Врач смотрит на только что притворенную мной дверь.
- А-а... - произносит он, снова обращая взор на машинописный текст. -
Это мистер Беркли. У него нетипичная мания, он считает себя предметом
мебели. - Врач хмурится, стучит пальцем по какой-то строчке.
Я сажусь на пустой стул:
- В самом деле?
- Да. Причем каждый день он воображает себя чем-нибудь новым. Мы
приставляем к нему охранников с наказом потакать его бредням, насколько это
возможно.
- Вот оно что... А я-то подумал, это какая-то театральная труппа из
радикалов-минималистов. Как я догадываюсь, нынче мистер Беркли возомнил себя
креслом?
Доктор Джойс супится:
- Орр, не говорите ерунды. Вы же не поставите одно кресло на другое,
верно? Очевидно, он себя считает подушкой.
- Ну конечно, - киваю. - Но почему - полицейский?
- С мистером Беркли бывают проблемы - он то и дело входит в образ биде
в дамском туалете. Обычно он не так чтобы буен, но... - Доктор Джойс
секунду-другую рассеянно глядит в пастельно-розовый потолок, ищет нужное
слово, наконец изрекает: - Упорен. - И опять смотрит в список.
Я откидываюсь на спинку стула. В кабинете доктора Джойса пол из
тикового дерева, по нему абы как разбросаны ковры - сложной расцветки, с
банальными абстрактными рисунками. Под стать импозантному столу -
картотечный шкаф и парочка набитых томами книжных полок, а еще есть низкий
столик и вокруг него - изысканно безликие стулья, на одном из которых сижу
я. Половину стены кабинета занимает окно, но вид наружу закрыт
полупрозрачными вертикальными жалюзи. Они сияют в лучах утреннего солнца;
другого освещения в кабинете сейчас нет.
Доктор сминает в комок лист с аккуратно напечатанным текстом и бросает
в мусорную корзину. Выезжает на кресле из-за стола, останавливается передо
мной, берет со стола блокнот и кладет на колено, потом достает из нагрудного
кармана пиджака маленький автоматический карандаш.
- Итак, Орр, на чем мы с вами остановились?
- Кажется, последняя конструктивная идея из ваших уст - насчет того,
что мост может быть сном.
У доктора Джорджа опускаются уголки рта.
- A чем докажете, что мост не сон?
- А чем докажете, что все это не сон?
Доктор откидывается на спинку кресла, на лице - понимающее выражение.
- Вот именно.
- Ладно, доктор, так чем докажете, что это не сон? - улыбаюсь я. Врач
пожимает плечами.
- Спрашивать меня об этом бессмысленно, ведь я - из сна. - Он
наклоняется вперед. Я поступаю точно так же, мы едва не сталкиваемся носами.
- Что означает запертая карета? - произносит он.
- Надо полагать, я чего-то боюсь, - рычу в ответ.
- И чего же вы боитесь? - шипит в упор Джойс.
- Сдаюсь. Скажите вы.
Еще несколько секунд мы играем в гляделки. Победа в итоге за мной.
Доктор выпрямляет спину и выдыхает с таким присвистом, что я даже
недоумеваю: может, кресло под ним надувное и в кожзаменителе образовалась
дырка? Он что-то записывает в блокнот и деловито спрашивает:
- Как идет ваше расследование? Я чую подвох. Щурюсь:
- О чем это вы?
- Пока вы находились в больнице, да и после выписки, до недавнего
времени вы держали меня в курсе. Говорили, что выясняете насчет моста. Тогда
вам это казалось исключительно важным.
Я снова откидываюсь в кресле:
- Да, я пытался кое-что выяснить.
- Но потом опустили руки, - кивает доктор, записывая.
- Я пытался. Писал во все конторы, бюро, департаменты, библиотеки,
институты и газеты подряд. Ночи напролет переводил чернила, неделями
просиживал в прихожих, приемных и коридорах. Кончилось все это писчим
спазмом, жуткой простудой и вызовом в Комиссию по (пере)расходу прожиточных
средств амбулаторными пациентами - там не могли поверить, что я вбухал
столько денег в переписку.
- И что вы обнаружили? - забавляется доктор Джойс.
- Пытаться узнать что-то стоящее абсолютно бессмысленно.
- И что же вы считаете стоящим?
- Где находится мост? Что с чем соединяет? Сколько лет назад построен?
И так далее.
- Неужели ваши поиски оказались совершенно неудачны?
- Сомневаюсь, чтобы удача имела ко всему этому какое-то отношение.
Похоже, просто никого ничего не волнует. Мои письма исчезали без следа, или
возвращались нераспечатанными, или сопровождались ответами на неизвестных
мне языках. Более того, их не могли прочесть и все, к кому я обращался.
- Хорошо, хорошо, - машет ладонью врач. - У вас проблема с языками, не
правда ли?
Да, у меня проблема с языками. В любой секции моста разных языков - до
дюжины: специальные жаргоны, созданные разными гильдиями много лет назад,
измененные и развитые с тех пор до такой степени, что совершенно непонятны
посторонним. Сейчас уже никто не возьмется сказать, когда и при каких
обстоятельствах они зародились. Как выяснилось по моем выходе из комы, я
говорил на языке персонала и администрации - это официальный,
государственный язык моста. Но все остальные, кого ни возьми, знают еще как
минимум один язык, обычно связанный с их профессией или общественным
статусом; я же этой способности лишен. Когда я выхожу на кишащие народом
главные улицы, добрая половина разговоров для моих ушей звучит сущей
абракадаброй. Меня такая языковая избыточность лишь немного раздражает, а
вот тяжелым параноикам из числа пациентов доктора Джойса на этой почве
наверняка должны мерещиться заговоры.
- Да, но дело не только в этом. Я искал сведения о постройке, об
исходном предназначении моста. Искал старые книги, газеты, журналы,
звукозаписи и фильмы. Искал информацию о том, что находится за пределами
моста или было здесь до его появления. И ничего не нашел. Все исчезло. То ли
потеряно, то ли украдено, то ли уничтожено, а может, просто какой-нибудь
бардак с каталогами. Вы, кстати, в курсе, что только в этой секции
ухитрились потерять целую библиотеку? Потерять! Библиотеку! Ничего, а? Как
это вообще можно - целую библиотеку потерять?
Доктор Джойс пожимает плечами.
- Читатели иногда теряют библиотечные книги... - успокаивающе начинает
он, но я возмущенно перебиваю:
- Да господи боже ты мой! Целую библиотеку! Целую библиотеку! А в ней
книг были десятки тысяч, я узнавал. Настоящих книг! И подшивок журналов, и
документов, и карт, и... - Я ловлю себя на том, что начинаю волноваться. -
Третья городская архивно-историческая библиотека потеряна, и, судя по всему,
потеряна безвозвратно. Она зарегистрирована в этой секции моста, она
упоминается тысячи раз, и не счесть ссылок на хранившиеся в ней книги и
документы, и есть даже свидетельства посещавших ее людей. Но никто ее не
может найти. Никто даже не знает о ней ничего, кроме этих ссылок. Похоже,
искать не очень-то и старались. Вы что думаете, доктор, какие-нибудь
библиотекари там или библиофилы позаботились снарядить поисковую экспедицию?
Черта с два! Я вас прошу, позвоните мне, если наткнетесь на любые сведения о
Третьей городской. - Я откидываю голову на спинку кресла и складываю руки на
груди, а врач знай себе строчит карандашом в блокноте.
- Вам кажется, что информацию, которую вы ищете, скрывают от вас
намеренно? - Он вопросительно поднимает бровь.
- По крайней мере, будь дело так, моя борьба имела бы какой-то смысл.
Нет, доктор, я не считаю, что здесь кроется чей-то злой умысел. Скорей
неразбериха и некомпетентность, апатия и бестолковщина. Бороться тут
бесполезно, это все равно что месить кулаками туман.
- Ну хорошо, - натянуто улыбается врач; его глаза точно посиневший от
старости лед. - Так что же вы обнаружили? И на чем остановились, где
сдались?
Я отвечаю:
- Доктор, я обнаружил, что мост очень велик. Он чрезвычайно высокий и
длинный, уходит за горизонт в обоих направлениях. Я залез на радиобашенку на
верхнем ярусе и насчитал пару дюжин таких же красных шпилей в обеих туманных
далях: и по направлению к Городу, и по направлению к Королевству. (Ни того
ни другого я оттуда не увидел. Я вообще не видел суши с тех пор, как меня
прибило волнами к мосту, если не считать островков, на которых зиждется
каждая третья опора.) Его высота - минимум полторы тысячи футов. В каждой
секции живет шесть или семь тысяч человек, и, возможно, вместительная
способность моста этим не ограничивается. Думаю, его костяк строился с тем
расчетом, чтобы выдержать и большую плотность населения.
Форма? Возьмусь описать мост с помощью букв. В поперечном разрезе, в
самой широкой части, он здорово смахивает на букву "А", причем перекладинка
- это железнодорожный ярус. В вертикальной проекции центральная часть каждой
секции - это буква "Н", поставленная на "X". В обе стороны от центра друг за
другом отходят еще шесть "X", постепенно уменьшаясь в размерах, пока не
встречаются с узкими межопорными пролетами, каждый из которых имеет девять
собственных маленьких "X". Пролеты соединяют друг с другом концы больших "X"
и завершают черновую форму нашей конструкции. Алле-оп! Вот вам и мост!
- И все? - недоуменно моргает доктор Джойс. - Он очень велик - и все?
- Все, что мне было нужно узнать.
- Потому вы и сдались?
- Иначе это переросло бы в манию. Теперь же я собираюсь просто жить в
свое удовольствие. У меня очень недурственная квартира, вполне приличное
денежное пособие от больницы, и я его трачу, как мне заблагорассудится:
покупаю красивые вещи, посещаю картинные галереи, хожу в театр, концертный
зал и кино, читаю. У меня есть приятели, в основном инженеры, я понемножку
занимаюсь спортом, как вы могли уже заметить; надеюсь, что меня примут в
яхт-клуб... Скучать не приходится. Не могу сказать, что это отказ от борьбы.
Просто я сейчас здесь, с вами, и отлично провожу время.
Доктор Джойс на удивление резко встает, бросает блокнот на стол и
расхаживает взад-вперед между перегруженными книжными полками и светящимися
жалюзи. Он хрустит суставами пальцев. Я рассматриваю свои ногти. Он качает
головой:
- Орр, мне кажется, что вы относитесь ко всему этому недостаточно
серьезно. - Он подходит к окну, поворачивает жалюзи, открывая ясный
солнечный день: голубое небо, белые облака. - Подойдите.
Со вздохом и улыбочкой, означающей: "ну если вам так уж хочется", я иду
к доброму доктору.
Впереди, почти в тысяче футов внизу, море. Сейчас оно синее, в
барашках. Видны крапинки редких яхт и рыбацких суденышек, кружат чайки. Но
доктор показывает в сторону. Одна из стен его кабинета - стеклянная, и через
нее виден бок моста.
Клиника Джойса находится в больничном комплексе, который горделиво
возвышается над основной конструкцией и смахивает на энергично растущую
опухоль. Отсюда, под таким острым углом, элегантная грация моста несколько
размыта, он кажется загроможденным и чересчур массивным.
Его покатые ребристые красновато-коричневые бока вздымаются от
гранитных цоколей, до которых почти тысяча футов. Эти плитчатые опоры
увешаны, усыпаны гроздьями атрибутов вторичной и третичной архитектуры:
крытыми переходами и шахтами лифтов, дымовыми трубами и порталами кранов,
кабелями и трубопроводами, антеннами, вымпелами и флагами всевозможных форм,
размеров и расцветок. Пристройки есть и большие, и маленькие: офисы,
служебные и жилые помещения, мастерские, магазины - все они лепятся
угловатыми ракушками из металла, стекла и дерева к исполинским трубам и
переплетающимся балкам, все они выступают, вылезают, выпирают из
первоначальных элементов моста, как нежные внутренние органы - через
бесчисленные грыжевые ворота.
- Что вы видите? - спрашивает доктор Джойс.
Я вглядываюсь, как будто стою перед какой-нибудь знаменитой картиной и
мне предложили полюбоваться тончайшей работой кисти.
- Доктор, - отвечаю, - я вижу офигенно здоровенный мостище.
Доктор Джойс резко дергает за шнур, обрывает его наверху; жалюзи
остаются незакрытыми. Он судорожно всасывает воздух, возвращается за стол,
усаживается и царапает в блокноте. Я подхожу к нему.
- Видите ли, Орр, - говорит он, строча карандашом, - ваша проблема в
том, что вы слишком многое принимаете на веру.
- В самом деле? - невинным тоном откликаюсь я. Интересно, что это -
профессиональное мнение или сугубо частная попытка задеть мое самолюбие?
За окном медленно появляется люлька мойщика окон. Доктор Джойс не
замечает. Человек в люльке стучит по стеклу.
- Доктор, кажется, пришла пора мыть ваши окна, - говорю я.
Врач оглядывается; мойщик поочередно стучит по оконному стеклу и по
своим ручным часам. Джойс мотает головой и снова утыкается взглядом в
блокнот.
- Нет, это мистер Джонсон, - объясняет он. Человек в люльке прижимается
к стеклу носом.
- Тоже пациент?
- Да.
- Позвольте-ка самому догадаться... Он себя мнит мойщиком стекол.
- Он и есть мойщик стекол, причем отменный. Просто он не желает
возвращаться в клинику, уже пять лет не вылезает из люльки. Власти начинают
беспокоиться.
Теперь я взираю на мистера Джонсона с уважением: приятно видеть
человека, влюбленного в свою работу. У него ветхая, захламленная люлька, в
ней полно бутылок, банок, есть чемоданчик, непромокаемый брезент и на краю -
что-то наподобие раскладушки. С другого конца люлька уравновешена
разнообразными инструментами для мытья. Мистер Джонсон постукивает по окну
Т-образным стеклоочистителем.
- Он к вам заходит или вы к нему выходите? - интересуюсь у эскулапа,
приближаясь к окну.
- Ни то ни другое. Говорим через открытое окно. - (Я слышу, как он
убирает блокнот в выдвижной ящик. Когда я поворачиваюсь, он уже стоит и
смотрит на часы.) - Однако сегодня он явился рановато. Мне нужно на
заседание комиссии. - Врач жестами пытается объяснить это мистеру Джонсону,
а тот трясет рукой с часами и подносит их к уху.
- А что с бедным мистером Беркли? Мы тут с вами разговариваем, а он
небось так и служит опорой закону.
- Ему тоже придется обождать. - Доктор достает какие-то бумаги из
другого ящика и укладывает их в тонкий атташе-кейс.
- Как жаль, что бедный мистер Беркли не считает себя гамаком, - говорю
я, а тем временем мистер Джонсон уезжает в люльке прочь с моих глаз. - Тогда
они с мистером Джонсоном могли бы зависать тут у вас на пару.
Добрый доктор недовольно кривит рот:
- Увидимся позже, Орр.
- Ну разумеется, доктор. - Я направляюсь к выходу.
- Завтра приходите, если что-нибудь приснится.
- Конечно, конечно. - Я отворяю дверь.
- А знаете что, Орр? - серьезным тоном произносит доктор Джойс,
возвращая серебряный автоматический карандаш в нагрудный карман. - Вы
слишком легко сдаетесь.
Я обдумываю эти слова, затем киваю:
- Ага, док, тут вы совершенно правы.
В приемной подлиза-секретарь помогает мне надеть сюртук (по которому
тем временем успел прогуляться платяной щеткой).
- Итак, мистер Орр, как прошел сегодняшний сеанс? Надеюсь, успешно?
- Еще как успешно! Прогресс налицо. Семимильные шаги к выздоровлению.
Полезная беседа, что и говорить.
- О, да это звучит ободряюще!
- Просто словами не передать, до чего ободряюще.
Чтобы спуститься на первый этаж, я вхожу в кабину одного из главных
лифтов. В ней, огромной, в окружении толстых ковров, хрустальных люстр,
надраенной бронзы и красного дерева, я беру у стойки бара чашечку капуччино,
удобно сажусь и внимаю струнному квартету, расположившемуся на фоне
прозрачной стены медленно опускающейся кабины.
Позади меня, за овальным столом, внутри огороженного шнуром
прямоугольника, заседают десятка два бюрократов и их помощников. Они
обсуждают сложную проблему, возникшую в ходе совещания, которое, согласно
афишке на небольшом стенде у самого края ограждения, посвящено
стандартизации контрактных спецификаций при объявлении тендера на оснащение
локомотивов каналами скоростной загрузки топливом (угольная пыль, с учетом
защиты от случайного возгорания).
Из лифта выхожу на открытую улицу над главным железнодорожным ярусом.
Это вымощенный металлом проспект для пешеходов, велосипедистов и рикш,
сравнительно прямо пролегающий через основную конструкцию моста и пристройки
- кафе, магазины и киоски, понатыканные где попало и загромождающие этот
кипучий ярус.
Улица, носящая помпезное название "бульвар Королевы Маргарет", лежит
близ внешнего края моста; здания с одной стороны бульвара образуют часть
нижней кромки зиккурата вторичной архитектуры, вписанного в исходный каркас.
С другой стороны бульвара здания примыкают к главным фермам, и чередующиеся
проемы открывают вид на море и небо.
Длинная и узкая улица наводит меня на мысли о старинных городах, где
наобум построенные здания упираются друг в друга, нависая над улицами,
кишащими людскими толпами. Здешняя картина очень похожа: толчея и
мельтешение пешеходов, велосипедистов; этот тянет за собой тележку; тот
толкает вперед тачку; эти несут портшез; вон там рикша крутит педали
трехколесного экипажа. И все тараторят на разных языках. А одеты - кто во
что горазд: одни - в форменное, другие - в цивильное. И все вместе образуют
бурный поток уличного движения, с уймой водоворотов и течений, поперечных, а
то и противных основному потоку. Картинка - точно в артерии спятили кровяные
тельца.
Я стою снаружи, высоко над улицей, на платформе перед дверью лифта.
Шум суетливой толпы, беспрестанное шипение и лязг, скрежет и топот
перекрываются воем клаксонов и гудками поездов с нижнего уровня,
напоминающими вопли грешников из механизированной преисподней; то и дело
раскатывается глухой гром, и все более ощутимая с каждой секундой вибрация
говорит о приближении тяжелого поезда, и вот пробиваются сквозь перекрытия и
взмывают над толпой клубы белого пара.
Наверху, где положено быть небу, смутно виднеются вдали мостовые фермы,
но обзору препятствуют пар и дым, затмевающие свет, что просачивается между
элементами конструкции, сквозь фасеты зараженных человечками офисов и
квартир. Фермы вздымаются в головокружительную высь и оттуда с величавостью
и чопорностью грандиозного кафедрального собора взирают на грубую профанацию
- позднейшие пристройки.
Где-то сбоку - нарастающий шум; голоса клаксонов сливаются в немыслимую
какофонию. Расступающийся транспортный поток прорезает черная повозка,
влекомая юным рикшей. Ну ясно - это везут инженера. Пользоваться рикшами
вправе только важные чиновники и курьеры основных гильдий. Просто зажиточным
разрешено перемещаться в портшезах. Правда, на самом деле мало кто из них
пользуется этой привилегией - лифты и трамваи быстрее носильщиков. Есть еще
один вариант: велосипед. Но на мосту все колесное облагается налогом,
исключение - только для моноциклов. Нередко случаются аварии.
Опережающие повозку гудки исходят из-под ног ливрейного рикши. У него
под каждой подметкой - клаксончик. Люди узнают эти звуки и успевают
посторониться.
Я нахожу приют в кафе - надо прикинуть в спокойной обстановке, чем бы
заняться после ленча. Можно поплавать - есть весьма недурственный малолюдный
бассейн, парой уровней ниже моих апартаментов. А можно позвонить инженеру
Бруку, он со товарищи имеет привычку в послеполуденное время играть в карты,
если этой компании не удается придумать занятие поинтересней. Еще вариант:
сесть на трамвай и поискать новые картинные галереи - я уже с неделю не
покупал картин.
Способов убить время хватает, и один другого лучше; во мне просыпается
сладкий зуд предвкушения. Допив кофе с ликером, я выхожу на улицу и снова
окунаюсь в деловито-суетливую атмосферу городской жизни.
Возвращаясь в свою секцию моста по внешнему пролету, кидаю из окна
трамвая в узкий промежуток между опорами монетку. Это традиция - сбрасывать
с моста мелочь, на удачу.
Вот и ночь приблизилась. Вечер удался: я поплавал в бассейне, пообедал
в теннисном клубе, прогулялся в гавани. Немного устал, но пока любовался
тихо покачивающимися на волнах высокими яхтами, ко мне пришла идея.
Я вытягиваюсь в шезлонге у себя в гостиной и во всех деталях продумываю
свой очередной сон для доброго доктора.
Затем подготавливаю письменный стол и направляюсь к вмонтированному в
стену против кресла телеэкрану. Когда он включен, мне лучше работается.
Большинство передач - барахло, жвачка для безмозглых: идиотские викторины,
"мыльные оперы" и тому подобное. Но временами я все равно смотрю их в
надежде увидеть что-нибудь снятое не на мосту. Сейчас я нахожу поздний
канал, транслирующий телеспектакль, вроде бы из жизни рудокопов на каком-то
близлежащем островке. Сбавляю звук до шепота - чтобы и слышно было, и не
отвлекало. Сажусь за стол, беру авторучку.
Телевизор вдруг шипит. Я оборачиваюсь. Экран заволокло зеленой мутью,
динамик издает белый шум. Может, настройка сбилась? Собираюсь выключить, но
тут изображение возвращается. Правда, звука нет, даже шипение прекратилось.
Экран показывает мужчину на больничной койке, в окружении медтехники.
Все - черно-белое и рябое. Я поворачиваю регулятор громкости, но даже на
максимуме только едва слышное шипение. Ко рту, носу и руке лежащего
подведены шланги, а глаза у него закрыты. Наверное, он жив, хоть и не видно,
что дышит. Переключаю каналы - везде та же картина: мужчина, койка,
аппаратура.
Камера опускается, показывает кровать, кусок стены и незанятый стульчик
возле койки. Такое впечатление, будто пациент дышит на ладан, даже в
монохромном изображении видно, что в лице ни кровинки. Тощие кисти лежат на
белой простыне совершенно неподвижно, а та рука, что с подведенной к
запястью трубкой, почти прозрачна. Лицо худое, в синяках и ссадинах, словно
он побывал в хорошей драке. Волосы мышиного цвета; на макушке - заплаткой -
лысина. В общем, по виду - серенький, плюгавенький, заурядненький
человечишко.
Жаль беднягу. Снова пытаюсь найти что-нибудь в эфире, но каналы точно
сговорились показывать только эту грустную сцену. А может, мою антенну
замкнуло на камеру мониторинга в какой-то больнице? Завтра позвоню куда
следует, пускай чинят. Секунду-другую я еще гляжу на неподвижную, безмолвную
сцену и выключаю телевизор.
И возвращаюсь к столу. Надо же наконец сочинить новый сон для
дражайшего эскулапа. Какое-то время пишу, но раздражает отсутствие
привычного звукового фона, и странное чувство появляется, когда сидишь
спиной к выключенному телевизору. С авторучкой и бумагой перебираюсь на
постель. Допишу и усну. А если что и на самом деле приснится, утром не
вспомню.
Вот что я написал.
Весь день мы сражались под топазовым небом, а оно медленно затягивалось
облаками, словно дымом наших пушек и бушующих внизу пожаров. Закат окрасил
эти облака смертным багрянцем, а под ногами у нас палубы были скользкими от
крови. Но все же мы отчаянно сопротивлялись, хоть и мерк свет дня, и таяло
наше число, и вот уже осталась четверть от экипажа. Точно щепки, валялись
кругом убитые и умирающие; величавые краски и позолота нашего корабля
выгорели или закоптились; рухнули мачты, а паруса, совсем еще недавно пышные
и гордо выпяченные, как грудь воина-героя, теперь обгорелыми лохмотьями
свисали с пеньков, оставшихся от мачт, или покрывали заваленные обломками
палубы, где гулял огонь и стонали смертельно раненные. Офицеры наши погибли,
шлюпки были разбиты ядрами или изувечены огнем.
Объятый пламенем корабль тонул, и характер его неминуемой кончины
зависел лишь от того, что раньше достигнет крюйт-камер - вода или
прожорливый огонь. На усеянных крошевом рангоута волнах качалось вражеское
судно - и выглядело оно не намного лучше нашего. У противника осталась
единственная мачта, и та была надломлена, а одиноко висевший на ней парус
был изрешечен ядрами и картечью. Мы изо всех сил пытались лишить врага
остатков парусного вооружения, но вышли все скованные попарно цепями ядра и
не осталось в живых метких пушкарей. И порох на палубе был на исходе.
Неприятельский корабль повернулся к нам носом и пошел на сближение. Мы
подготовили пушки к последнему залпу, а потом взяли кто абордажную саблю,
кто пистолет. Раненых приходилось бросать на милость судьбы. На нашем судне
не уцелело реев, не к чему было принайтовить канат, чтобы перелететь на нем
через чужой фальшборт, и мы собирались прыгать в миг столкновения кораблей.
Вражеское судно тоже безмолвствовало, перед ним медленно плыл черный дым его
пушек, растекался над тускло-красными волнами. Потом чужой дым смешался с
нашим - корабли сблизились.
И вот соприкоснулись истерзанные крутобокие корпуса. Мы бросились в
рукопашную, покидая свою обреченную палубу.
При столкновении неприятель лишился последней мачты. Миг спустя суда
разошлись. Как и мы, враги не пустили в ход абордажные крючья и багры. Крича
и оступаясь, мы бежали по палубе чужого галеона, а наш корабль медленно
относило течением. Оказалось, что нам не с кем сражаться - только мертвецы и
умирающие остались на палубе чужого судна. Мы не нашли ни пороха, ни ядер,
лишь поднимающуюся в трюмах воду и расползающийся огонь. Мы не нашли шлюпок,
лишь обломки и головешки.
Измученные и смирившиеся с судьбой, мы собрались на расколотом,
накрененном юте. В дымчатом, мерцающем свете пожара смотрели мы, как растет
кровавое, усеянное щепой пространство океана между нами и нашим кораблем.
Мачты его были в огне, паруса дымились. В воде горело его отражение -
багровое, перевернутое, призрачное.
Сквозь дым смотрели мы на врагов, а они на нас.
Мои апартаменты расположены почти на самом верху секции, недалеко от
угла. В плане секция имеет шестиугольную форму. Есть подозрение, что на этой
верхотуре я оказался не случайно - доктор Джойс балует "жемчужины" своей
коллекции психов. Комнаты здесь широки и высоки, стены со стороны моря не
что иное, как остекленные прогоны моста. С тысячедвухсотфутовой высоты можно
смотреть, как тут говорят, "вниз по течению". И даже кое-что разглядеть,
если видимость не слишком ограничена серыми тучами - а в них мост утопает
частенько.
Когда я здесь поселился, в комнатах было хоть шаром покати. Я сделал
косметический ремонт, обзавелся полезной и изящной мебелью, а также
скромной, но тщательно подобранной коллекцией небольших картин и статуэток.
Среди картин преобладают виды моста и моря. Есть несколько недурных
изображений яхт и рыболовецких судов. Скульптура преимущественно
фигуративная - рабочие-мостовики, запечатленные в бронзе.
Я совершаю утренний туалет. Одеваюсь неторопливо и продуманно. Гардероб
у меня роскошный. Если уж мне позаботились выделить такую уйму добротных
костюмов, было бы просто невежливо одеваться абы как. Встречают-то все же по
одежке. Не то чтобы она способна многое о тебе сказать, но ты сам способен
многое сказать с ее помощью.
Низкоквалифицированная обслуга моста носит форменные спецовки,
работягам не надо по утрам ломать голову, что надеть. Но тут и конец моей
зависти к их житью-бытью. Поражает, с какой покорностью они приняли свою
судьбу и ради верного куска хлеба отказались от каких бы то ни было попыток
сделать карьеру. Довольные жизнью винтики, каждый - на своем месте и
держится за это место, как краска держится за металл. Впрочем, это их
проблемы; я же ни за какие коврижки не согласился бы всю жизнь чистить
канализацию или рубить в шахте уголь.
Я расчесываю волосы (черные как смоль и неплохо вьющиеся, отчего
кажутся пышными), выбираю широкий галстук и карманные часы с подходящей к
нему эмалировкой. Недолго любуюсь собой в зеркало: высокий, импозантный,
даже аристократичный. Проверяю, ровно ли видны манжеты, хорошо ли сидит
жилет, не подвернулся ли воротник и так далее.
Я готов завтракать. Надо бы застелить кровать, да и вчерашнюю одежду
стоило бы почистить или, на худой конец, спрятать. Но и это не моя забота -
больница присылает уборщиков, те к своим обязанностям относятся серьезно.
Осталось только выбрать шляпу... но тут возникает заминка.
Включился телевизор. Защелкал, зашипел. Проходя через гостиную, я
сначала думаю, что ошибся, это не телевизор заработал, а протекает вода или
газ. Но нет, экран в стене светится. И показывает то же, что и прежде:
больничную койку и человека на ней. Немое, статичное, монохромное
изображение. Нажимаю выключатель, изображение пропадает. Включаю - больной
появляется. Смена каналов ничего не дает. Правда, освещение на этот раз
другое, - похоже, в стене позади всей аппаратуры есть окно. Ищу другие
детали. Но изображение недостаточно четкое, мне не прочесть на аппаратах
надписи. Я даже не понимаю, на каком они языке. Но как это может быть, чтобы
телевизор включался сам по себе? Выключаю и слышу доносящийся снаружи
монотонный гул.
В окно вижу голубизну - день выдался погожий. Со стороны Королевства
появляется группа самолетов - три одинаковых, нескладных на вид одномоторных
моноплана. Они летят мимо моста четким строем, столбиком, самый нижний - на
одном уровне со мной, средний - на полсотни футов выше, верхний - в
полусотне футов над средним. Двигатели гудят, вращающиеся пропеллеры
блестят, точно громадные стеклянные диски, а из хвостов вырываются - такое
впечатление, будто совершенно беспорядочно, - клочки темного дыма. Эти тучки
висят в небе, вытягиваются в какие-то бессмысленные каракули. Длинный
прерывистый след похож на дощатый забор; он показывает траекторию самолетов
и исчезает в стороне Города.
Это меня и возбуждает, и озадачивает. Еще ни разу с тех пор, как
оказался на мосту, я не видел самолетов. Не видел даже летающих лодок, хотя
инженеры-мостовики, вне всяких сомнений, способны их строить и пилотировать.
У этих самолетов я не заметил шасси, нет и поплавков, и вообще это не
похоже на морскую авиацию. Может быть, у них убирающиеся в фюзеляж колеса?
Наверное, это так; наверное, самолеты прилетели с наземного аэродрома. Эта
мысль должна бы меня ободрить.
Клочки дыма уплывают к Городу, несомые слабым ветерком, по пути тают в
широком синем небе. Затихает вдали шум самолетных поршневых двигателей.
Кажется, будто есть какой-то смысл в истончающемся дымном рисунке, в этих
триграммах с четким интервалом и дистанцией друг между другом. Я любуюсь
неторопливо искажающимися штришками, жду, когда они превратятся в буквы, или
цифры, или еще какие-нибудь узнаваемые фигуры, но через несколько минут
остается только неразличимая тусклая завеса, и она колышется, точно
гигантский грязный шарф из кисеи, и сносится к Городу.
Я, не зная, что и думать, качаю головой.
Уже возле двери вспоминаю об испортившемся телевизоре. Но когда пытаюсь
позвонить ремонтникам, выясняется, что не работает и телефон - издает только
ряд протяжных, не совсем одинаковых по длительности гудков. Пора идти.
Предположим, что мир - по крайней мере мост - сошел с ума, но разве это
повод пропускать завтрак?
В коридоре у двери лифта я узнаю соседа. Он следит за бронзовой
стрелкой на оформленном под часовой циферблат указателе этажей над
сдвинутыми дверными створками, нетерпеливо барабанит по полу ногой. На нем
униформа старшего табельщика. Он слегка вздрагивает от неожиданности - ковер
приглушил мои шаги.
- Доброе утро, - приветствую соседа, пока стрелка указателя медленно
ползет вверх. Табельщик неопределенно хмыкает, достает из кармана часы,
глядит; нога стучит все нервозней.
- Вы самолетов, случайно, не видели? - спрашиваю.
Он недоуменно смотрит на меня:
- Извините, вы о чем?
- О самолетах. Которые только что пролетели... и десяти минут не
прошло.
Табельщик таращится. Затем косится на мое запястье, замечает больничный
пластмассовый браслет. Гудит лифт.
- Ах да, самолеты, - говорит сосед. - Ну конечно.
Створки двери плавно расходятся. Я знаком предлагаю ему войти первым,
табельщик оглядывает деревянную облицовку и бронзовую фурнитуру ожидающего
лифта. Снова глядит на часы, бормочет: "Прошу извинить" - и торопливо уходит
по коридору.
Спускаюсь в одиночестве. Лифт с негромким рокотом ползет по шахте. Сижу
на подковообразной кожаной скамье, смотрю, как в углу в аквариуме дрожит
вода. У двери замечаю телефон.
У него увесистая медная трубка. Секунду-другую ничего не слышу, потом -
короткое тихое пиканье; сначала оно кажется похожим на гудки телефона в моих
апартаментах. Оно быстро сменяется довольно неприветливым голосом:
- Оператор. Да? Что вам угодно?
Испытываю своего рода облегчение:
- Мне "Ремонт и техобслуживание", пожалуйста.
- Что-что? Прямо сейчас?
Лифт тормозит, приближаясь к нужному мне этажу.
- Ладно, ничего. - Вешаю трубку.
Выхожу из лифта в одну из верхних галерей, там быстрым шагом, мимо
магазинчиков со свежими продуктами, доставленными на утренних поездах,
добираюсь до закусочной "Завтрак на траве". По пути задерживаюсь только у
цветочного стенда и выбираю гвоздику - она будет отлично контрастировать с
моими часами и жилетом.
В закусочной окон нет, стены забраны деревом и расписаны зелеными
пасторалями - опытная рука художника чувствуется, а вот убедительности нет.
Зато здесь тихая, спокойная атмосфера. Высокие потолки, приглушенный свет,
толстые ковры и тонкий фарфор. Мне указывают на любимый столик у дальней
стенки. На столике - сложенная газета, почти целиком посвященная
незначительным изменениям в правилах и законах, движению и обслуживанию
транспорта, должностным перестановкам и уходу в отставку (или на тот свет)
администраторов, а еще - крайне скучным собраниям каких-то общественных
организаций и в высшей степени замысловатым спортивным и прочим играм,
популярным у тутошней знати.
Я заказываю рыбное филе, пряные ягнячьи почки, гренку и кофе. Отодвигаю
газету, поднимаю глаза к картине на противоположной стене. Поросший
изумрудно-яркой травой покатый холмик в окаймлении вечнозеленых кустарников,
в россыпи ярких цветов. За неглубокой лощиной - горы с лесистыми склонами и
голыми макушками, их контуры четко очерчены солнечным светом.
Интересно, пейзаж написан с натуры или это лишь фантазия художника?
Вот и кофе. Я еще не видел на мосту ни одного кофейного дерева. Ягнячьи
почки тоже доставлены сюда извне. Откуда именно? На мосту ходят выражения
"выше по течению", "ниже по течению", мы говорим "к Городу" или "к
Королевству". Наверное, суша есть (а иначе зачем бы мост?). Но как далеко
она отсюда?
Я искал и разнюхивал, как мог, - у меня ведь и с языками проблемы, и
доступ сыщику-любителю далеко не в каждый уголок моста открыт. Потратил
несколько месяцев и ничуть не приблизился к разгадке природы или
местонахождения Города и Королевства. Они так и остались туманным "не знаю
что, не знаю где".
Я давно прекратил эти поиски, осточертело на каждом шагу вязнуть в
тлетворной бюрократической трясине. Сложилось впечатление, что любой мой
вопрос насчет размеров моста, его предназначения и истории постройки так
долго кочует по многочисленным инстанциям, перефразируясь, уточняясь,
очищаясь, приглаживаясь и приукрашиваясь, а также отфутболиваясь в другие
департаменты и кабинеты, что к тому моменту, когда попадает в чьи-нибудь
действительно компетентные руки, успевает утратить всякий смысл... А если и
сохранит его остатки каким-то чудом, то любой ответ, пусть даже сравнительно
внятный и мировоззренчески осмысленный, с еще большей вероятностью выродится
в полнейшую околесицу, пока доберется до адресата.
Все это копание настолько вымотало меня, что одно время я всерьез
подумывал укрыться на транзитном поезде и махнуть на поиски проклятого
Города или Королевства. Официально моя свобода передвижений ограничена двумя
перегонами поезда - это двенадцать секций моста и примерно столько же миль в
каждом направлении. Браслет на запястье служит пропуском в этих пределах и
сообщает кондукторам, на какое отделение больницы высылать счет за билет.
Двадцать четыре мили - это, конечно, щедро, однако тюремная зона не станет
волей, если раздвинуть ее границы.
Ехать зайцем я не решился. Рассудил, что лучше вернуть утраченные
территории у себя в черепушке, чем разведывать забытые пространства вовне.
Но окончательно от этой затеи я не отказываюсь. Дождусь выписки - а там
поглядим.
- Орр, с добрым утром.
Мне изволил составить компанию мистер Брук, инженер, - я с ним знаком
еще с больницы. Он невысок, смугл, выглядит так, будто на него ежесекундно
давит тяжелый пресс. Брук неуклюже усаживается напротив меня и кривится.
- Доброе утро, Брук.
- Видел эти чертовы?.. - Недовольная мина прорисовывается четче.
- ... Самолеты? Да. А ты?
- Нет, только дым. Какова наглость, а?!
- Не одобряешь?
- Не одобряю? - (Похоже, мой вопрос озадачил Брука.) - Одобрять или не
одобрять - это не мое дело. Но если хочешь знать, я позвонил своему
знакомому в "Грузоперевозки и расписание", и там никто ничего не знает об
этих... самолетах. Никто ничего не санкционировал! Попомни мои слова: скоро
покатятся головы!
- А что, есть законы, запрещающие летать?
- Нет законов, которые разрешают. Вот в чем штука, Орр. Видишь ли, друг
мой любезный, нельзя допускать, чтобы люди шатались где им вздумается и
вытворяли что захотят просто потому, что им так нравится, просто потому, что
им это взбрело в голову. Необходимы... э-э... какие-то рамки. - Он
укоризненно качает головой, глядя на меня. - Знаешь, Орр, странные у тебя
иногда возникают мысли.
- Кто бы спорил.
Брук заказывает себе кеджери. В больнице мы лежали в одной палате, и
его тоже лечил доктор Джойс. Брук занимал должность старшего инженера,
специализировался на распределении веса моста по морскому дну и получил
травму - что-то там с кессоном, поддерживающим гранитную опору. Физически
Брук уже выздоровел, но не оправился от затяжной бессонницы. Что-то в его
облике и манерах наводило меня на мысли о плохом освещении, казалось, даже
под прямыми лучами солнца он ухитряется оставаться в тени.
- Знаешь, сегодня было еще кое-что странное, - говорю.
Он вроде бы настораживается:
- В самом деле?
Я рассказываю о человеке на больничной койке, о самовключающемся
телевизоре и забарахлившем телефоне. Похоже, у Брука отлегло от сердца.
- А, вот ты о чем? Ну, такое часто случается. Готов поспорить, где-то
закоротило провода, вот и вся загадка. Свяжись с "Ремонтом и
техобслуживанием" и доставай тамошних лежебок, пока не пришлют кого-нибудь.
- Так и сделаю.
- Как там наш шарлатан?
- Джойс? Все еще возится со мной. У меня пошли кое-какие сны, но,
боюсь, они... чересчур структурированы для доброго доктора. Мой рассказ он
фактически пропустил мимо ушей. Упрекнул меня за прекращение поисков.
Брук сокрушенно цокает языком:
- Видишь ли, Орр, он, конечно, врач и все такое, но на твоем месте я бы
не тратил времени на все эти... - он замолкает, подыскивая хлесткий эпитет,
и не находит, - расспросы. Очень маловероятно, что они тебя куда-нибудь
приведут. И уж памяти не вернут, не надейся. И еще: стоит ли глазеть, как
школьница, на такую дребедень? - Он машет рукой в сторону пасторального
пейзажа на стене и хмурится, словно углядел на лакированных панелях какую-то
малозаметную гадость.
- Брук! - укоризненно смотрю на него. - Неужели тебе самому не хочется
увидеть что-нибудь, кроме моста? Горы, лес, пустыню? Ты хоть представь...
- Друг мой любезный, - мрачно-терпеливым, почти усталым тоном говорит
он, глядя, как официант наливает ему кофе, - а ты хоть представляешь,
сколько под нашими опорами залегает самых разных горных пород?
Чувствую, что напросился на лекцию по геологии, но это хоть шанс съесть
пряные почки - они уже поданы и остывают.
- Нет, - признаю.
- Так я отвечу. Не меньше семи чистых, не считая десятков переходных.
Представлены все комплексы: и осадочный, и метаморфический, и магматические
- интрузивный и экструзивный. Мощнейшие толщи базальтов, долеритов,
кальцитов и карбоновых песчаников, базальт-трахитовые агломераты,
базальтовые лавы, третичный и старый красный песчаники, и уймища сланцевого
песка, и все это - в сложных складках, еще даже не закартированных...
Больше мне никаких пород не переварить.
- Ты клонишь к тому, - говорю я, когда появляется кеджери и Брук
обрушивает на тарелку мощный солевой снегопад, а затем посыпает перцем,
точно слоем вулканического пепла, - что пытливому уму мост предлагает более
чем достаточно и нет нужды привлекать ресурсы извне?
- Точно так.
Я бы сказал, скорее приблизительно, чем точно, - ну да Бог ему, Бруку,
судья. Кое-что за пределами моста определенно есть. Что-то я смутно, но
припоминаю. Кажется, у меня в голове сохранились абстракции, зыбкие
представления о вещах, которых на мосту не найти: о ледниках, соборах,
автомобилях... список почти бесконечен. Но в деталях ничего не вспомнить,
образы на ум нейдут. Я нормально освоился с единственным языком, которым
владею, а также с обычаями и нравами моста (любые обычаи и нравы - в той или
иной степени продукт воспитания), но, хоть убейте, ничего не могу сказать о
том, где и чему я учился, под чьим, так сказать, крылышком рос. Все-то у
меня есть, кроме памяти. Фигурально выражаясь, у других в распоряжении
энциклопедии и журналы, а у меня... карманный словарик.
- Так-то оно так, Брук, - говорю. - Но, похоже, на мосту очень уж
многое не подлежит обсуждению. Для начала: секс, религия, политика...
Он замирает - вилка с кеджери не донесена до рта.
- Да, но... - смущенно мямлит он, - что же тут такого?.. Если мужчина
женат, или, допустим, у девушки лицензия, или... Да черт возьми, Орр! -
Кладет вилку на тарелку. - Вечно ты талдычишь: "религия, политика"! Что
конкретно ты имеешь в виду?
Похоже, он это всерьез. Во что я ввязываюсь? Сейчас - разговор с этим
субъектом, а после - сеанс у доктора Джойса, так, что ли? Тем не менее
ближайшие десять минут я пытаюсь что-то растолковать Бруку. Когда наконец
умолкаю, он говорит:
- Гм... не возьму в толк, почему ты употребляешь два слова. Для меня
это одно и то же.
Я откидываюсь на спинку стула и потрясенно восклицаю:
- Брук, тебе бы философом быть!
- Кем-кем? Фило?..
- Да ладно, ладно. Доедай кеджери, а то остынет.
Трамваем добираюсь до секции, где располагается доктор Джойс. На
верхнем ярусе - сутолока и грохот; полно рабочих. Они сидят на грязных
скамьях и читают газеты с крупным шрифтом и фотографиями. Что их интересует,
можно даже не гадать: спорт и лотерея. Это сталевары и сварщики, на их
комбинезонах из грубой ткани нет карманов, зато полно мелких прожженных дыр.
Труженики о чем-то толкуют между собой, а на меня не обращают внимания.
Время от времени мне вроде бы удается уловить словечко-другое - не мой ли
родной это язык, только сильно искаженный? - но чем больше я слушаю, тем
меньше понимаю. Хотелось бы дождаться трамвая класса "люкс", но так я
опоздаю на прием к доктору Джойсу, а я стараюсь быть пунктуальным.
Скоростным лифтом добираюсь до уровня, где расположена клиника. В
кабине играет фоновая музыка, но, как всегда, в моих ушах это звучит
полукакофонией, абсурдной мешаниной из красивых аккордов и варварских
бессвязных звуков, - впечатление такое, будто вся музыка на мосту
закодирована. Раньше я надеялся услышать что-нибудь знакомое, что и сам мог
бы насвистывать, - но в конце концов сдался.
Почти всю дорогу со мной в кабине едет юная леди. Она стройненькая и
смуглая; она скромно глядит в пол. У нее длинные черные ресницы и идеально
очерченные щеки. Спутница моя носит великолепного покроя длинную юбку и
короткий жакет, и я ловлю себя на любовании - как восхитительно поднимаются
и опускаются точеные груди под белым шелком! Ни разу не взглянув на меня,
девушка покидает лифт и оставляет за собой лишь аромат духов - легкий,
мгновенно тающий.
Я сосредоточенно разглядываю фотографию, что висит на темной деревянной
облицовочной панели возле двери лифта. Этот старый, с оттенком сепии, снимок
показывает процесс строительства трех секций моста. Они стоят порознь, и
ничто не связывает их, кроме условного в своей незавершенности сходства. Из
них торчат трубы и балки, бурые стальные плоскости испещрены лесами и
массивными паровыми кранами; в таком виде секции имеют почти шестиугольную
форму. Дата на снимке отсутствует.
Клиника пропитана запахом краски. Двое рабочих в белых комбинезонах
вносят через двери стол. В приемной пусто, лишь белые полотнища лежат на
полу, и рабочие ставят стол посреди комнаты. Я заглядываю в кабинет - там
тоже пусто и тоже пол накрыт белым. Со стеклянной дверной панели убрана
табличка с именем доктора Джойса.
- В чем дело? - спрашиваю рабочих. Они смотрят на меня как на
неодушевленный предмет и отворачиваются.
Снова - лифт. У меня дрожат руки.
Но, слава Богу, больничная регистратура осталась на месте. Приходится
ждать, пока регистратор объяснит, куда идти, молодой супружеской чете с
маленьким ребенком. Вот они отправляются по длинному коридору, и наступает
моя очередь.
- Я ищу офис доктора Джойса, - говорю сидящей за столом полной суровой
тетке. - Он был в офисе тридцать четыре двадцать два. Я еще вчера туда
приходил и с ним виделся. Но он, похоже, переселился.
- Вы пациент?
- Меня зовут Джон Орр. - Я даю ей прочесть на браслете остальные
сведения обо мне.
- Минуточку. - Она поднимает телефонную трубку.
Я сажусь на мягкую скамью посреди регистратуры, которая окружена
коридорами; они расходятся, как спицы от ступицы колеса. Те, что покороче,
ведут на открытый воздух. Ветерок колышет мягкие белые занавеси. Женщина за
столом беседует по телефону то с одним человеком, то с другим. Наконец она
кладет трубку.
- Мистер Орр, доктор Джойс теперь находится в офисе тридцать семь ноль
четыре.
Она рисует, как мне добраться до нового офиса. У меня в груди тупо ноет
- там живет кольцевидное эхо боли.
- Мистер Брук шлет вам свои наилучшие пожелания.
Доктор Джойс поднимает глаза от записей, моргают серовато-розоватые
веки. Я рассказываю сон про галеоны и обмен абордажными партиями. Он слушает
не перебивая, время от времени кивает, изредка хмурится и делает пометки в
блокноте. Потом я умолкаю, и затягивается пауза.
- Мистер?.. - недоуменно переспрашивает доктор Джойс. Тонкий серебряный
карандаш нависает над блокнотом, точно крошечный кинжальчик.
- Мистер Брук, - напоминаю. - Поступил из хирургии почти одновременно
со мной. Инженер, страдает бессонницей. Вы его лечите.
- А-а!.. - говорит через секунду доктор Джойс. - Вот вы о ком! - И
опять склоняется над блокнотом.
Новые помещения доктора Джойса еще грандиознее прежних: тремя этажами
выше, больше по площади. Все это говорит о том, что дела его продолжают идти
в гору. У него теперь и референт, и секретарь в приемной. Да, к прискорбию
моему, это крутое восхождение выдержал и МДР. "Мистер Орр, да вы прекрасно
выглядите! Как я рад вас видеть! Присаживайтесь! Позвольте взять ваше
пальто. Чашечку кофе? Или чая?"
Серебряный карандашик отправляется в нагрудный карман.
- Итак, - разминает кисти врач, - что вы извлекли из этого сна?
Ну вот, снова-здорово!
- Док, - говорю, рассчитывая фамильярным тоном для начала подействовать
ему на нервы, - хоть убейте, ничего сказать не могу. Не моя профессия, сами
понимаете. А как насчет вашего просвещенного мнения?
Доктор Джойс секунду-другую спокойно глядит на меня. Затем встает и
бросает блокнот на стол. Подходит к окну, стоит, глядит наружу и часто
кивает.
- Орр, я вам выскажу свое мнение, - поворачивается ко мне. - Я думаю,
что оба эти сна, и сегодняшний, и вчерашний, ровным счетом ничего нам не
дали.
- Да? - спрашиваю. Эх, черт побери, а я так старался! Откашливаюсь,
изрядно раздосадованный. - И что теперь делать будем?
У доктора Джойса странно блестят голубые глаза. Он выдвигает ящик из
стола, достает большой альбом с моющимися пластиковыми страницами и
фломастер, вручает их мне. На страницах альбома в основном незаконченные
рисунки и тесты с чернильными кляксами.
- Раскройте на последней странице, - говорит добрый доктор.
Я дисциплинированно листаю до конца. На последней странице - два
рисунка.
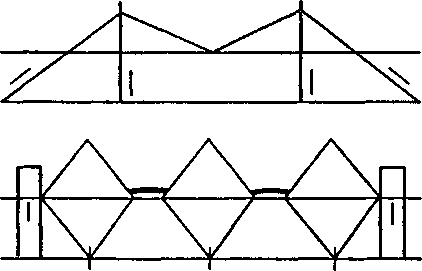 - Что делать? - спрашиваю. Все это как-то по-детски.
- Видите короткие черточки? Четыре на верхнем рисунке, пять - на
нижнем?
- Да.
- Дорисуйте стрелочки, чтобы получились соответствующие векторы силы.
Я открываю рот, чтобы спросить, но Джойс вскидывает руку:
- Больше я вам ничего сказать не могу. Не имею права давать подсказки
или отвечать на вопросы.
Я беру фломастер, пририсовываю, что велено, и отдаю альбом доктору. Он
глядит и кивает.
- Ну что? - спрашиваю.
- Что "ну что"? - Он достает из выдвижного ящика тряпку и протирает
страницу, а я кладу фломастер на стол.
- Я правильно сделал? Врач пожимает плечами.
- Что такое "правильно"? - грубовато спрашивает он, пряча альбом,
фломастер и тряпку обратно в ящик. - Будь это экзаменационный вопрос, я бы
счел, что вы с ним справились. Но мы не на экзамене по физике. Это всего
лишь психологический тест, и он должен был о вас кое-что рассказать. - Он
снова царапает в блокноте серебряным карандашом с выдвижным грифелем.
- И что же он обо мне рассказал? Джойс опять пожимает плечами, глядя в
свои записи.
- Не знаю, - отвечает он ворчливо. - Что-то должен был рассказать, но
что именно - не знаю. Пока.
Очень хочется садануть по его серовато-розоватому носу.
- Понятно, - киваю. - Что ж, надеюсь, я был чем-то полезен для развития
медицины.
- И для меня. - Доктор Джойс смотрит на часы. - Хорошо, думаю, на
сегодня все. Запишитесь на завтра, просто на всякий случай, но, если никаких
снов не будет, позвоните, и мы отменим встречу. Согласны?
- Ну и ну! Да вы просто мигом обернулись, мистер Орр! И как оно прошло?
Как по маслу? - Безупречно вышколенный секретарь врача помогает мне надеть
пальто. - Не успели прийти и сразу уходите? А как насчет кофе?
- Нет, спасибо.
Я гляжу на мистера Беркли и полицейского - они снова в приемной. Мистер
Беркли в позе эмбриона лежит на боку, а охранник сидит в кресле и попирает
своего подопечного стопами.
- Мистер Беркли сегодня - пуфик для ног, - гордо сообщает мне
Молодой-Да-Ранний.
В просторных помещениях верхнего яруса высокие потолки, в безлюдных
коридорах широкие толстые ковры густо пахнут сыростью. На стенах - панели из
тика и красного дерева, в окнах - бронзовые рамы; стекла голубоватые, как
хрусталь с примесью свинца; за ними виднеется окутанное туманом море. В
стенных нишах, точно слепые призраки, старые изваяния давно забытых
бюрократов. Огромные, потемневшие от времени полотнища знамен наверху - как
тяжелые рыбацкие сети, развешенные на просушку. Их легонько колышет
прохладный сквозняк, тот самый, что шевелит древнюю пыль в сумрачных высоких
коридорах.
В получасе блуждания от клиники я обнаруживаю старый лифт напротив
гигантского круглого окна с видом на море. Окно ничто так сильно не
напоминает, как циферблат стеклянных часов без стрелок. Дверь в кабину
открыта, внутри на высоком стуле почивает седой старик. На нем длинная
бордовая ливрея с блестящими пуговицами, тонкие руки скрещены на животе,
окладистая борода распластана по груди, и в ритме дыхания поднимается и
опускается седая голова.
Я кашляю. Старик не просыпается. Я стучу по торцу дверной створки:
- Эй!
Он вздрагивает всем телом, отнимает руки от живота и, чтобы не полететь
со стула, хватается за рычаги управления лифтом. Щелчок, и створки идут
навстречу друг другу со стоном и скрипом. Но беспорядочно машущие руки снова
ударяют по медным рычагам, заставляя створки расступиться.
- Простите, сэр! Как вы меня напугали! Решил вздремнуть, а тут вы
пожаловали. Входите, сэр. На который вам этаж?
Просторный, с целую комнату величиной, лифт полон разномастных стульев,
щербатых зеркал и потускневших от пыли гобеленов. Если только это не трюк с
зеркалами, то лифт имеет в плане форму буквы "L". Иначе говоря, таких я еще
не видал.
- К поездам, пожалуйста.
- Сию секунду!
Престарелый лифтер цепляется морщинистой дланью за рычаги управления.
Створки двери скрежещут, стучат друг о дружку, но несколько толчков ладонью
и точно нацеленных ударов кулаком по медной пластине с рычагами помогают
лифтеру привести кабину в движение. Она погромыхивает, величаво идет вниз;
дрожат зеркала, дребезжит мебель, легкие скамьи и стулья пошатываются на
неровно постеленном ковре. Старец лихачески раскачивается на высоком стуле и
крепко держится за медный поручень под пультом управления. Я слышу, как
лязгают зубы моего попутчика. Я страхуюсь с помощью отполированного до
блеска поручня. Тот сильно разболтан - ходит ходуном. Где-то над головой -
жуткие звуки, словно рвется металл.
Изображая невозмутимость, читаю пожелтевшую инструкцию на стене. На ней
перечислены обслуживаемые этим лифтом этажи и находящиеся на них отделы,
службы и другие структуры. Один из верхних пунктов притягивает мое внимание
как магнитом. Эврика!
- Послушайте, - говорю старику. Он поворачивает голову, трясясь, как
паралитик, и глядит на меня. Я стучу по листу на стенке:
- Я передумал. Хочу вот на этот этаж. На пятьдесят второй. В Третью
городскую библиотеку.
Несколько секунд старик в отчаянии глядит на меня, потом берется
дрожащей рукой за дребезжащий рычаг и опускает его до отказа. После чего
судорожно хватается за бронзовый поручень и зажмуривает глаза.
С воем, скрежетом, стуком, тряской и боковой качкой кабина меняет свой
курс на противоположный. От ужасающего толчка я чуть не падаю, старик
слетает со своего высокого стула. Валятся и остальные стулья. Лопается
зеркало, с потолка срывается лампа и повисает на проводе, конвульсивно
дергаясь, точно висельник; это сопровождается градом штукатурки и пыли.
Мы останавливаемся. Старик сбивает ладонями пыль с плеч, поправляет
ливрею и шляпу, поднимает стул и нажимает какие-то кнопки. Мы движемся
вверх, причем довольно гладко.
- Простите! - кричу лифтеру. Он дико смотрит на меня, затем так же дико
озирается, словно пытается сообразить, вину в каком таком ужасном
преступлении я только что взял на себя. - Я не ожидал, что остановка и
перемена направления будут столь... драматичными, - выкрикиваю.
Он таращится на меня в полном недоумении, затем озирает дребезжащий
пыльный интерьер своего крошечного царства. Лифтер явно не в силах понять,
что меня так взволновало.
Мы останавливаемся. Лифт по прибытии не звенит, нет, - его колокол, чьи
мощь и тон уместней были бы в кафедральном соборе, сотрясает воздух в
кабине. Старик в страхе глядит вверх.
- Приехали, сэр!
Он открывает двери и отскакивает назад перед сценой кромешного хаоса. Я
несколько секунд изумленно пучу глаза, затем медленно выхожу из кабины.
Старый лифтер пугливо выглядывает из дверного проема.
Похоже, здесь произошла ужасная катастрофа. Огромный вестибюль усыпан
обломками, виден огонь, поваленные фермы, вперемешку - трубы и балки.
Грудами лежит битый кирпич, свисают порванные кабели. Мечутся люди в форме,
с пожарными шлангами, носилками и другими, неизвестными мне инструментами.
Повсюду висит густой дым. Взрывы, завывание сирен, визг клаксонов,
мегафонные вопли... Даже для наших несколько оглохших от колокола ушей этот
шум-гам невыносим. Что же тут происходит?
- Силы небесные! - Старый лифтер кашляет. - Не очень-то похоже на
библиотеку, а, сэр?
- Да уж... - соглашаюсь, наблюдая, как перед нами десяток пожарников
толкают какую-то штуковину вроде насоса по заваленному обломками полу. - А
вы уверены, что это тот самый этаж?
Лифтер сверяется с указателем этажей, бьет по защитному стеклу
артритным кулачком.
- Еще как уверен, сэр! - Он извлекает откуда-то очки, водружает на нос
и снова разглядывает указатель. Снаружи, в гуще проводов, что-то взрывается
с черным дымом и фонтаном искр; ближайшие люди спешат укрыться. Некто в
высокой шляпе и ярко-желтой форме замечает нас и машет мегафоном. Мы
остаемся на месте. Он направляется к нам, перешагивает через несколько
носилок с человеческими телами.
- Эй, вы! - кричит он. - Кто такие и кой черт вас сюда принес?
Мародеры? Некрофилы? А? Чего вам тут надо? А ну пошли вон!
- Я ищу Третью городскую архивно-историческую библиотеку, - отвечаю
хладнокровно.
Он машет мегафоном себе за спину, указывая на картину разрушения:
- А мы, по-твоему, чем занимаемся? Понял, кретин? А теперь вали отсюда!
- Он тычет мегафоном мне в грудь и уносится, словно ураган. Я вижу, как он
спотыкается о носилки с пострадавшим, а затем направляется к расчету
громадного насоса. Мы с лифтером переглядываемся. Он закрывает двери.
- Хамло и скотина. Верно, сэр? - Похоже, он немного расстроен. - Теперь
куда, сэр? К поездам?
- Гм... Ну да... Пожалуйста. - Снова берусь за держащийся на честном
слове медный поручень, и кабина несет нас вниз. - Интересно, что там
случилось-то?
Старик пожимает плечами:
- А бог его знает, сэр. На верхних уровнях чего только не случается.
Иногда такое увидишь... - Он качает головой, присвистывает сквозь зубы. - Вы
бы, сэр, наверное, не поверили.
- Да уж, - соглашаюсь уныло. - Мог бы и не поверить.
В полдень я выигрываю гейм в теннисном клубе, потом проигрываю.
Единственная тема разговора - самолеты и их дымовая тайнопись.
Большинство посетителей клуба - технократы и бюрократы - восприняли
загадочный полет как возмутительную выходку, "с которой необходимо что-то
делать". Я спрашиваю корреспондента газеты, не слышал ли он что-нибудь о
страшном пожаре на этаже, где должна находиться Третья городская библиотека,
но он даже о такой библиотеке не слышал, а уж о какой-то аварии на верхних
ярусах - и подавно. Но он попробует выяснить.
Из клуба я звоню в "Ремонт и техобслуживание" и рассказываю о своем
телевизоре и телефоне. Обедаю в клубе, а вечером иду в театр на какую-то
муть: дочка сигнальщика влюбилась в туриста, а тот оказался сыном
железнодорожного начальника да вдобавок обрученным - это он перед свадьбой
решил гульнуть "на стороне". После второго акта я ухожу.
Дома, когда я раздеваюсь, из кармана пальто выпадает бумажный комочек.
На нем смазанный рисунок - это регистраторша в больнице показывала, как
добраться до клиники доктора Джойса. Вот как он выглядит:
- Что делать? - спрашиваю. Все это как-то по-детски.
- Видите короткие черточки? Четыре на верхнем рисунке, пять - на
нижнем?
- Да.
- Дорисуйте стрелочки, чтобы получились соответствующие векторы силы.
Я открываю рот, чтобы спросить, но Джойс вскидывает руку:
- Больше я вам ничего сказать не могу. Не имею права давать подсказки
или отвечать на вопросы.
Я беру фломастер, пририсовываю, что велено, и отдаю альбом доктору. Он
глядит и кивает.
- Ну что? - спрашиваю.
- Что "ну что"? - Он достает из выдвижного ящика тряпку и протирает
страницу, а я кладу фломастер на стол.
- Я правильно сделал? Врач пожимает плечами.
- Что такое "правильно"? - грубовато спрашивает он, пряча альбом,
фломастер и тряпку обратно в ящик. - Будь это экзаменационный вопрос, я бы
счел, что вы с ним справились. Но мы не на экзамене по физике. Это всего
лишь психологический тест, и он должен был о вас кое-что рассказать. - Он
снова царапает в блокноте серебряным карандашом с выдвижным грифелем.
- И что же он обо мне рассказал? Джойс опять пожимает плечами, глядя в
свои записи.
- Не знаю, - отвечает он ворчливо. - Что-то должен был рассказать, но
что именно - не знаю. Пока.
Очень хочется садануть по его серовато-розоватому носу.
- Понятно, - киваю. - Что ж, надеюсь, я был чем-то полезен для развития
медицины.
- И для меня. - Доктор Джойс смотрит на часы. - Хорошо, думаю, на
сегодня все. Запишитесь на завтра, просто на всякий случай, но, если никаких
снов не будет, позвоните, и мы отменим встречу. Согласны?
- Ну и ну! Да вы просто мигом обернулись, мистер Орр! И как оно прошло?
Как по маслу? - Безупречно вышколенный секретарь врача помогает мне надеть
пальто. - Не успели прийти и сразу уходите? А как насчет кофе?
- Нет, спасибо.
Я гляжу на мистера Беркли и полицейского - они снова в приемной. Мистер
Беркли в позе эмбриона лежит на боку, а охранник сидит в кресле и попирает
своего подопечного стопами.
- Мистер Беркли сегодня - пуфик для ног, - гордо сообщает мне
Молодой-Да-Ранний.
В просторных помещениях верхнего яруса высокие потолки, в безлюдных
коридорах широкие толстые ковры густо пахнут сыростью. На стенах - панели из
тика и красного дерева, в окнах - бронзовые рамы; стекла голубоватые, как
хрусталь с примесью свинца; за ними виднеется окутанное туманом море. В
стенных нишах, точно слепые призраки, старые изваяния давно забытых
бюрократов. Огромные, потемневшие от времени полотнища знамен наверху - как
тяжелые рыбацкие сети, развешенные на просушку. Их легонько колышет
прохладный сквозняк, тот самый, что шевелит древнюю пыль в сумрачных высоких
коридорах.
В получасе блуждания от клиники я обнаруживаю старый лифт напротив
гигантского круглого окна с видом на море. Окно ничто так сильно не
напоминает, как циферблат стеклянных часов без стрелок. Дверь в кабину
открыта, внутри на высоком стуле почивает седой старик. На нем длинная
бордовая ливрея с блестящими пуговицами, тонкие руки скрещены на животе,
окладистая борода распластана по груди, и в ритме дыхания поднимается и
опускается седая голова.
Я кашляю. Старик не просыпается. Я стучу по торцу дверной створки:
- Эй!
Он вздрагивает всем телом, отнимает руки от живота и, чтобы не полететь
со стула, хватается за рычаги управления лифтом. Щелчок, и створки идут
навстречу друг другу со стоном и скрипом. Но беспорядочно машущие руки снова
ударяют по медным рычагам, заставляя створки расступиться.
- Простите, сэр! Как вы меня напугали! Решил вздремнуть, а тут вы
пожаловали. Входите, сэр. На который вам этаж?
Просторный, с целую комнату величиной, лифт полон разномастных стульев,
щербатых зеркал и потускневших от пыли гобеленов. Если только это не трюк с
зеркалами, то лифт имеет в плане форму буквы "L". Иначе говоря, таких я еще
не видал.
- К поездам, пожалуйста.
- Сию секунду!
Престарелый лифтер цепляется морщинистой дланью за рычаги управления.
Створки двери скрежещут, стучат друг о дружку, но несколько толчков ладонью
и точно нацеленных ударов кулаком по медной пластине с рычагами помогают
лифтеру привести кабину в движение. Она погромыхивает, величаво идет вниз;
дрожат зеркала, дребезжит мебель, легкие скамьи и стулья пошатываются на
неровно постеленном ковре. Старец лихачески раскачивается на высоком стуле и
крепко держится за медный поручень под пультом управления. Я слышу, как
лязгают зубы моего попутчика. Я страхуюсь с помощью отполированного до
блеска поручня. Тот сильно разболтан - ходит ходуном. Где-то над головой -
жуткие звуки, словно рвется металл.
Изображая невозмутимость, читаю пожелтевшую инструкцию на стене. На ней
перечислены обслуживаемые этим лифтом этажи и находящиеся на них отделы,
службы и другие структуры. Один из верхних пунктов притягивает мое внимание
как магнитом. Эврика!
- Послушайте, - говорю старику. Он поворачивает голову, трясясь, как
паралитик, и глядит на меня. Я стучу по листу на стенке:
- Я передумал. Хочу вот на этот этаж. На пятьдесят второй. В Третью
городскую библиотеку.
Несколько секунд старик в отчаянии глядит на меня, потом берется
дрожащей рукой за дребезжащий рычаг и опускает его до отказа. После чего
судорожно хватается за бронзовый поручень и зажмуривает глаза.
С воем, скрежетом, стуком, тряской и боковой качкой кабина меняет свой
курс на противоположный. От ужасающего толчка я чуть не падаю, старик
слетает со своего высокого стула. Валятся и остальные стулья. Лопается
зеркало, с потолка срывается лампа и повисает на проводе, конвульсивно
дергаясь, точно висельник; это сопровождается градом штукатурки и пыли.
Мы останавливаемся. Старик сбивает ладонями пыль с плеч, поправляет
ливрею и шляпу, поднимает стул и нажимает какие-то кнопки. Мы движемся
вверх, причем довольно гладко.
- Простите! - кричу лифтеру. Он дико смотрит на меня, затем так же дико
озирается, словно пытается сообразить, вину в каком таком ужасном
преступлении я только что взял на себя. - Я не ожидал, что остановка и
перемена направления будут столь... драматичными, - выкрикиваю.
Он таращится на меня в полном недоумении, затем озирает дребезжащий
пыльный интерьер своего крошечного царства. Лифтер явно не в силах понять,
что меня так взволновало.
Мы останавливаемся. Лифт по прибытии не звенит, нет, - его колокол, чьи
мощь и тон уместней были бы в кафедральном соборе, сотрясает воздух в
кабине. Старик в страхе глядит вверх.
- Приехали, сэр!
Он открывает двери и отскакивает назад перед сценой кромешного хаоса. Я
несколько секунд изумленно пучу глаза, затем медленно выхожу из кабины.
Старый лифтер пугливо выглядывает из дверного проема.
Похоже, здесь произошла ужасная катастрофа. Огромный вестибюль усыпан
обломками, виден огонь, поваленные фермы, вперемешку - трубы и балки.
Грудами лежит битый кирпич, свисают порванные кабели. Мечутся люди в форме,
с пожарными шлангами, носилками и другими, неизвестными мне инструментами.
Повсюду висит густой дым. Взрывы, завывание сирен, визг клаксонов,
мегафонные вопли... Даже для наших несколько оглохших от колокола ушей этот
шум-гам невыносим. Что же тут происходит?
- Силы небесные! - Старый лифтер кашляет. - Не очень-то похоже на
библиотеку, а, сэр?
- Да уж... - соглашаюсь, наблюдая, как перед нами десяток пожарников
толкают какую-то штуковину вроде насоса по заваленному обломками полу. - А
вы уверены, что это тот самый этаж?
Лифтер сверяется с указателем этажей, бьет по защитному стеклу
артритным кулачком.
- Еще как уверен, сэр! - Он извлекает откуда-то очки, водружает на нос
и снова разглядывает указатель. Снаружи, в гуще проводов, что-то взрывается
с черным дымом и фонтаном искр; ближайшие люди спешат укрыться. Некто в
высокой шляпе и ярко-желтой форме замечает нас и машет мегафоном. Мы
остаемся на месте. Он направляется к нам, перешагивает через несколько
носилок с человеческими телами.
- Эй, вы! - кричит он. - Кто такие и кой черт вас сюда принес?
Мародеры? Некрофилы? А? Чего вам тут надо? А ну пошли вон!
- Я ищу Третью городскую архивно-историческую библиотеку, - отвечаю
хладнокровно.
Он машет мегафоном себе за спину, указывая на картину разрушения:
- А мы, по-твоему, чем занимаемся? Понял, кретин? А теперь вали отсюда!
- Он тычет мегафоном мне в грудь и уносится, словно ураган. Я вижу, как он
спотыкается о носилки с пострадавшим, а затем направляется к расчету
громадного насоса. Мы с лифтером переглядываемся. Он закрывает двери.
- Хамло и скотина. Верно, сэр? - Похоже, он немного расстроен. - Теперь
куда, сэр? К поездам?
- Гм... Ну да... Пожалуйста. - Снова берусь за держащийся на честном
слове медный поручень, и кабина несет нас вниз. - Интересно, что там
случилось-то?
Старик пожимает плечами:
- А бог его знает, сэр. На верхних уровнях чего только не случается.
Иногда такое увидишь... - Он качает головой, присвистывает сквозь зубы. - Вы
бы, сэр, наверное, не поверили.
- Да уж, - соглашаюсь уныло. - Мог бы и не поверить.
В полдень я выигрываю гейм в теннисном клубе, потом проигрываю.
Единственная тема разговора - самолеты и их дымовая тайнопись.
Большинство посетителей клуба - технократы и бюрократы - восприняли
загадочный полет как возмутительную выходку, "с которой необходимо что-то
делать". Я спрашиваю корреспондента газеты, не слышал ли он что-нибудь о
страшном пожаре на этаже, где должна находиться Третья городская библиотека,
но он даже о такой библиотеке не слышал, а уж о какой-то аварии на верхних
ярусах - и подавно. Но он попробует выяснить.
Из клуба я звоню в "Ремонт и техобслуживание" и рассказываю о своем
телевизоре и телефоне. Обедаю в клубе, а вечером иду в театр на какую-то
муть: дочка сигнальщика влюбилась в туриста, а тот оказался сыном
железнодорожного начальника да вдобавок обрученным - это он перед свадьбой
решил гульнуть "на стороне". После второго акта я ухожу.
Дома, когда я раздеваюсь, из кармана пальто выпадает бумажный комочек.
На нем смазанный рисунок - это регистраторша в больнице показывала, как
добраться до клиники доктора Джойса. Вот как он выглядит:
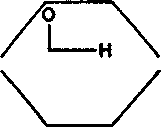 Рассматриваю, и чем-то он мне не нравится. Голова кружится, и комната
будто бы накренилась, словно я все еще в ветхой L-образной кабине лифта
рядом со стариком в ливрее, который совершает очередной опасный, не
предусмотренный инструкциями маневр. Мысли на миг расплываются и
смешиваются, как те дымные сигналы загадочных самолетов (и, обморочно
пошатываясь, я сам на мгновение кажусь себе чем-то дымным и бесформенным,
хаотичным и зыбким, как туманы, что клубятся у верхних ярусов
моста-исполина, покрывая влагой, точно потом, слои старой краски на его
фермах и балках).
Из этого странного ступора меня выдергивает звонок телефона. Я поднимаю
трубку, но слышу только знакомые регулярные гудки.
- Алло? Алло?
В ответ - гудки. Опускаю трубку. Телефон звонит снова, и все
повторяется. На сей раз я кладу трубку рядом с аппаратом и накрываю
подушкой. Включать телевизор даже не пытаюсь, знаю, что я там увижу.
Уже идя к кровати, замечаю, что все еще держу клочок бумаги. Я бросаю
его в мусорное ведро.
За моей спиной лежит пустыня, впереди - море. Пустыня - золотая, море -
синее; они встречаются, как соперничающие времена. Море живет в настоящем,
оно сверкает барашками, вздымается белыми валами, и ухает вниз, и бьется в
песчаный берег, и его прилив - как дыхание... Пустыня движется медленно, но
верно, ее высокие рассыпчатые волны ползут по безжизненной земле под
гребенкой невидимого ветра.
Меж пустыней и морем, утонув наполовину и в той, и в другом, лежит
древний город.
Он изъеден ветром, песком и водой. Подобно зернышку, он угодил меж
крутящимися мельничными жерновами - каменные строения не устояли перед
разрушительной силой ветра.
Я был один, я бродил в полуденной жаре, белым призраком витал между
грудами обломков. Тени своей я не видел, она тянулась назад от ног.
Темные с розовым оттенком камни лежали кругом в полнейшем беспорядке.
Сгинуло большинство улиц, их давным-давно погребли крадущиеся пески. Склоны
барханов были испещрены ветхими арками, вывалившимися перемычками, кусками
поверженных стен. У бахромчатой кромки берега разрозненные останцы каменной
кладки противостояли набегам волн. Чуть дальше из моря выступали
накренившиеся башни и фрагмент арки, словно кости давно утонувшего чудовища.
Над пустыми дверными проемами и забитыми песком окнами я видел резные
фризы. Я рассматривал удивительные полусточенные фигурки и символы и пытался
разгадать их смысл. Несомый ветром песок истончил иные стены и балки до
ширины вытесанных на них знаков; сквозь кроваво-алый камень просвечивало
голубое небо.
- А ведь мне знакомо это место, - ни к кому не обращаясь, проговорил я.
- Я вас знаю, - сказал я безмолвным развалинам.
В стороне от городища стояла исполинская статуя. Изваяние с могучим
торсом и мужской головой, высотой в три-четыре человеческих роста,
располагалось между пеной прибоя и кромкой молчаливых руин. В незапамятные
времена у него отвалились или были отбиты руки. Ветер и песок чуть ли не до
блеска отшлифовали сколы на культях. Одна сторона массивного туловища и
головы накопила следы бесчинств ветра, но другая половина осталась
узнаваемой: большой обнаженный живот, на груди - всевозможные украшения, в
том числе ожерелья толщиной с манильский канат. На широкой плеши - корона,
ухо оттянуто тяжелыми кольцами, в носу тоже кольцо. Как и смысла резных
символов, я не смог разгадать выражения изъязвленного временем лика: то ли
жестокость, то ли горечь, то ли равнодушие очерствелой души ко всему кроме
песка и ветра.
Я поймал себя на том, что шепчу, глядя в выпученные каменные глаза:
- Мох? Мокко?
Но от великана - никакого содействия. Имена тоже ветшают, хоть и
медленно. Сначала искажаются, потом сокращаются, наконец забываются.
На пляже перед городом, в некотором отдалении от каменного истукана, я
заметил человека. Он был низок, хром и горбат, он стоял по колено в
прибойной пене, омывавшей его темные лохмотья, бил по воде тяжелой цепью и
громко проклинал все и вся.
Тяжелый горб клонил его голову книзу, грязные патлы тугими жгутами
свисали до самой воды; иногда словно седой волос выбивался из этой темной
гущи - длинная струя слюны падала на воду и уплывала прочь.
Всякий раз, когда он вскидывал и резко опуская правую руку, на море
обрушивалась цепь - дюжина тронутых ржавчиной, но поблескивающих тяжелых
чугунных звеньев на гладкой деревянной рукояти. Вокруг под размеренными и
непрекращающимися ударами пенилась и пузырилась вода и темнела от поднятого
со дна песка.
Горбун по-крабьи сместился на шаг в сторону, вытер рукавом рот и
возобновил порку. Он непрерывно бормотал, пока взлетала и падала, поднимая
брызги, тяжелая цепь. Я долго стоял за его спиной на берегу и наблюдал. Вот
он снова прервал экзекуцию, вытер лицо и сделал еще шаг в сторону. Ветер
взметнул изорванные одежды, подкинул засаленные космы. Эти же порывы трепали
и мой ветхий наряд. Должно быть, горбун уловил в шуме прибоя посторонний
звук, так как он не возвратился к своему занятию. Голова чуть повернулась,
словно он напрягал слух. Казалось, он силится выпрямить увечную спину... а
потом сдался. Мелкими, шаркающими шажками, будто стреноженный, он медленно
повернулся кругом. И вот мы стоим лицом к лицу. Он постепенно поднял голову
и замер, когда наши глаза встретились. Волны плескали в его колени, цепь,
чью рукоять сжимали узловатые пальцы, покачивалась в воде.
Его физиономия почти целиком скрывалась под спутанными волосами,
выражения было не разобрать. Я ждал, когда он заговорит, но он терпеливо
безмолвствовал, и наконец я произнес:
- Извините... Продолжайте, пожалуйста.
Он долго молчал, ничем не выдавая, что услышал мои слова. Словно нас
разделяла некая среда, гораздо медленнее пропускавшая звуки, чем это делает
воздух. Наконец коротышка ответил удивительно вежливым голосом:
- Понимаете, это моя работа. Меня специально наняли.
- Ну конечно же, понимаю, - кивнул я, ожидая дальнейших объяснений.
Опять показалось, что мои слова дошли до него с большим запозданием. Он
очень неуклюже пожал плечами:
- Видите ли, однажды великий император... - Тут его голос на добрую
минуту затих. Я ждал. Он задумчиво покачал головой и шаркающе развернулся к
изрезанному волнами синему горизонту. Я громко позвал, но если он и услышал,
то не подал виду.
Бранясь и бормоча, спокойно и монотонно он снова принялся рассекать
цепью волны.
Я еще немного понаблюдал за тем, как он бичует море, потом повернулся и
зашагал прочь. Не замеченный мной раньше чугунный браслет, словно наручник
беглого арестанта, тихо и ритмично позвякивал на моем запястье, когда я
возвращался к развалинам.
В самом ли деле мне это приснилось? Разрушенный город у моря, человек с
цепью?.. Несколько мгновений пребываю в замешательстве: может, это просто я
накануне вечером лежал не смыкая глаз и пытался придумать для врача
правдоподобный сон?
Нежась в темноте на широкой теплой постели, я даже испытываю
облегчение. Я даже тихо смеюсь, крайне довольный собой, - ведь я в конце
концов дождался сна, который можно пересказать доброму доктору с чистой
совестью. Я встаю и надеваю халат. В квартире холодно, серая заря едва
просвечивает через высокие окна; робкий, медленно пульсирующий свет исходит
из-за моря, из-за длинного вала темной тучи, как будто туча - это суша, а
заря - медленно мигающий в гавани буй.
Где-то бьет колокол, где-то очень далеко, и вслед раздается другой
звон, потише, и так пять раз. Уже пять утра. Далеко внизу локомотив со
свистом выпускает пар. Едва различимый ухом, скорее осязаемый, рокот говорит
мне о прохождении груженого товарняка.
Я выхожу в гостиную и вижу неподвижную серую картину: человек на
больничной койке. Прихотливо расставленные по комнате бронзовые статуэтки
рабочих-мостовиков отражают своими неровными поверхностями бледный
монохромный свет. Внезапно в кадр молча входит женщина, медсестра, и
приближается к койке. Ее лица я не вижу. Похоже, она зашла проверить
температуру больного.
Никаких звуков, кроме далекого шипения. Медсестра обходит вокруг
кровати, ступая по блестящему полу: проверяет аппаратуру. И снова исчезает,
уйдя из-под объектива камеры, но тут же возвращается с небольшим
металлическим подносом. Она берет с подноса шприц, наполняет его какой-то
жидкостью из пузырька, переворачивает иглой вверх, протирает ваткой руку
больного и делает укол. Втягиваю воздух сквозь зубы - я всегда (точно в этом
уверен) боялся уколов.
Картинка слишком мутная, не рассмотреть, как сталь входит под кожу, но
воображение рисует косой срез иглы, изжелта-бледную дряблую кожу... Я
сочувственно морщусь и выключаю телевизор.
Я поднимаю подушку с телефона. По-прежнему - короткие гудки, разве что,
может, почаще прежних. Я кладу трубку на рычаг. Тотчас аппарат разражается
звоном. Снимаю трубку и вместо гудков слышу:
- Ага, Орр! Наконец-то. Ведь это ты?
- Да, Брук, это я.
- И где же пропадал? - Язык у него запинается.
- Спал.
- Где, где? Пардон, этот шум...
На заднем плане в трубке слышится какая-то болтовня.
- Нигде я не пропадал. Я спал. Или, точнее, я...
- Спал? - громко перебивает Брук. - Ну нет, Орр, так не пойдет! Не
пойдет, и все тут! Сейчас же дуй к нам, в "Дисси Питтон", мы для тебя
бутылочку сберегли...
- Брук! Ночь на дворе!
- Да иди ты! Не может быть! Я ведь только что сюда пришел.
- Уже светает.
- Да ты что? - В трубке замирает изумленный голос Брука. Затем я слышу,
как он что-то выкрикивает, и раздается громкий недружный смех. - Орр, давай
к нам, и побыстрее. Садись на первый поезд, или что там уже ходит. Мы ждем.
- Брук...
Но Брук снова говорит не в трубку, а еще слышны далекие крики.
- Кстати! - произносит он. - Шляпу захвати. Понял? Ты должен быть в...
- Новые вопли на заднем плане. - Да, пусть будет широкополая. У тебя
найдется широкополая шляпа?
- Но при чем...
Меня перебивают крики. Брук уже орет в трубку:
- Да, широкополая! Если нет широкополой, то никакой не надо. Так как,
есть у тебя широкополая?
- Наверное, - отвечаю и спохватываюсь, что этим признанием я вынуждаю
себя ехать.
- Отлично, - говорит Брук. - До скорой встречи. Шляпу не забудь.
Он кладет трубку на рычаг. Я поступаю так же, снова поднимаю трубку и
слышу ритмичные гудки. Я гляжу в окно на медленно мигающий свет над облачным
валом, пожимаю плечами и иду в гардеробную.
Бар "Дисси Питтон" занимает не пользующиеся особым спросом помещения в
считаных ярусах над железной дорогой. Это несколько залов, асимметрично
расположенных друг над другом. Непосредственно под нижним баром находятся
канатные мастерские, там в длинных узких ангарах плетут веревки и тросы.
Вполне естественно, что и "Дисси Питтон" - это царство веревок и тросов. Вся
мебель там не стоит на полу, а подвешена к потолку. В "Дисси Питтоне" даже
мебель на ногах не держится, как заметил Брук в один из тех редких моментов,
когда в нем просыпается чувство юмора.
Швейцар спит стоя, привалившись к стене, сложив руки на груди и свесив
голову. Козырек фуражки защищает его глаза от мерцающей над дверью неоновой
вывески. Я вхожу и поднимаюсь по лестнице через два темных безлюдных этажа.
Шум и свет указывают мне путь туда, где вечеринка в самом разгаре.
- Орр! Ты-то нам и нужен!
Из людской сутолоки, из качающегося нагромождения столов, стульев,
кушеток и ширм появляется нетвердо держащийся на ногах Брук. Он подходит ко
мне, перешагнув через какого-то сморенного сном посетителя. В "Дисси
Питтоне" мертвецки пьяные редко задерживаются под одним столом, обычно они
успокаиваются в каком-нибудь дальнем уголке бара; кажущийся беспредельным
тиковый пол соблазняет их ползти и ползти на четвереньках. А может, их
толкает глубоко укоренившийся инстинкт инфантильной любознательности. Или
дело в том, что они вживаются в образ улитки?
- Вот молодец, что пришел, - говорит Брук, подавая мне руку. Он глядит
на широкополую шляпу, которую я прихватил с собой. - Шикарная шляпа. - Он
ведет меня к дальнему столу.
- Угу. - Я отдаю ему шляпу. - Кому она понадобилась? И что тут
затевается?
- Да что ты говоришь. - Он останавливается, вертит шляпу в руках.
Заинтригованно изучает подкладку, словно рассчитывая найти там подсказку.
- Помнишь, ты просил широкополую шляпу? - говорю. - Хотел, чтобы я ее
сюда принес.
- Хм... - говорит Брук и ведет меня к столу, за которым сгрудились
четверо или пятеро. Я узнаю Бейкера и Фаулера, это инженеры, приятели Брука.
Они снова и снова пытаются встать. Брук все еще озадачен. Пристально глядит
на шляпу.
- Брук, - с трудом сдерживаю раздражение, - ты потребовал, чтобы я
принес эту проклятую шляпу, и было это совсем недавно, еще и получаса не
прошло. Да не мог ты забыть, черт бы тебя побрал!
- А ты уверен, что это нынче было? - скептически вопрошает Брук.
- Ты звонил, Брук! И пригласил меня сюда, и...
- Постой-ка! - Брук рыгает и тут же тянется за бутылкой. - Хлопни-ка
винца, и мы это дело обмозгуем. - Он сует мне в руки стакан. - Ты ж опоздал
- изволь наверстывать.
- Боюсь, за тобой мне уже никак не угнаться.
- Орр, да ты, кажется, расстроен чем-то. - Брук наполняет вином мой
стакан.
- Трезв как стекло. Просто симптомы очень похожи.
- Нет, ты расстроен.
- Ничего подобного.
- И чем же ты так расстроен?
С чего это у меня сложилось впечатление, что Брук почти не слушает? И
ведь такое уже далеко не в первый раз. Иногда разговариваешь с человеком, и
вдруг его охватывает какая-то рассеянность. Как будто не лицо у него вовсе,
а маска, к изнанке которой он обычно прижимается, словно ребенок носом к
витрине кондитерской. Но когда я с ним разговариваю, пытаюсь обсудить
сложный или неинтересный для него вопрос, собеседник отдаляет свое
внутреннее "я" от маски и задумывается о чем-нибудь своем. Если
воспользоваться аналогией, он снимает ботинки, закидывает ноги на стол, пьет
кофе и расслабляется. А потом, набравшись сил и бодрости, неодобрительно
кивает и отпускает совершенно неуместное замечание - отголосок его
застарелых мыслей. Возможно, дело здесь во мне. Возможно, только я оказываю
на людей такой эффект и никто другой на это не способен.
Впрочем, наверное, такая мнительность больше пристала параноику, и,
если я отважусь вынести на обсуждение эту тему, сразу выяснится, что вовсе
никакой я не феномен, а чуть ли не самое рядовое явление. ("Ага, я тоже за
собой такое замечал!", "И со мной бывало!", "А ведь думал, что я один
такой!")
Между тем инженерам Бейкеру и Фаулеру удается наконец встать и надеть
пальто. Брук что-то серьезно втолковывает Фаулеру, тот выглядит озадаченным.
Затем его лицо проясняется. Он возбужденно отвечает, Брук кивает и
возвращается ко мне.
- Буч! - торжественно изрекает он и снимает со спинки дивана свое
пальто.
- Что? - переспрашиваю.
- Томми Буч, - надевает пальто Брук. - Это ему понадобилась шляпа.
- Зачем?
- Понятия не имею.
- Ну и где же он? - оглядываю бар.
- Вышел недавно, - застегивает пальто Брук. Позади него пошатываются
Фаулер и Бейкер, ждут.
- Вы что, уходите? - задаю совершенно риторический вопрос.
- Долг зовет! - Брук берет меня за руку, склоняется к уху и громко
шепчет: - Срочная работенка у миссис Ганновер.
- У миссис... - Я не договариваю - вспомнил. У миссис Ганновер лицензия
на содержание борделя. Мне известно, что Брук со товарищи давно протоптали
туда дорожку; как я слышал, в этом злачном местечке развлекаются главным
образом инженеры. И тут в голову навязчиво лезет целый сонм не слишком
тонких аллюзий.
Меня к миссис Ганновер еще не приглашали, к тому же я сам дал понять,
что не стремлюсь туда попасть. Сие целомудрие проистекает не из моральных
соображений, а из пустого тщеславия, уверил я Брука. Но он, похоже, с тех
пор подозревает, что за всеми моими разглагольствованиями о сексе, политике
и религии прячется ханжество.
- Как насчет с нами за компанию? - спрашивает Брук.
- Спасибо, нет.
- Хм... Я и не сомневался, - кивает Брук. Снова берет меня за руку,
снова чуть наклоняется и шепчет на ухо: - Послушай, Орр, мне не очень удобно
просить...
- О чем? - Я смотрю, как инженер Фаулер разговаривает с длинноволосым
молодым человеком, который сидит за соседним столиком в тени. Второй молодой
человек, напротив него, уснул, уронив голову на стол.
- Это дочка Эррола, - кивает на них Брук.
- Кто?
- Дочка главного инженера Эррола, - шепчет Брук. - Она тут как бы с
нами, да только братец ее, видишь, наклюкался и задрых. И если мы сейчас
отсюда смоемся, некому будет... Слушай, а ты не можешь с нею... ну посидеть,
поговорить, что ли? А?
- Брук, - отвечаю ледяным тоном, - сначала ты мне звонишь в пять утра,
потом...
Я не договариваю. При поддержке Фаулера, выражающего всем своим видом
нетерпение, Бейкер по синусоиде подходит к Бруку и говорит:
- Брук, может, пойдем, а? Чего-то мне нехорошо...
Инженер Бейкер замолкает - у него явные позывы на рвоту. Раздуваются
щеки, он судорожно сглатывает, потом с гримасой на лице кивает на ступеньки,
что ведут на этаж ниже.
- Орр, нам пора, - торопливо произносит Брук, подхватывая Бейкера под
руку, в то время как Фаулер подхватывает под другую. - До скорого. И заранее
спасибо, что за девочкой приглядишь. Извини, но знакомиться самому придется.
Вся троица плетется враскачку мимо меня. Брук сует мне в руки
широкополую шляпу. Фаулер тащит к лестнице Бейкера, Брук волочится в
кильватере.
- Увижу Томми Буча, спрошу про шляпу, - выкрикивает Брук.
Они неуклюже пробираются среди мебели и других посетителей к лестнице.
Я оборачиваюсь к молодому человеку, с которым только что разговаривал
Фаулер. Юноша поднимает припухшие от недосыпа глаза и улыбается мне.
Я ошибся. Это не юноша, а девушка. На ней широкие темные брюки и пиджак
оригинального фасона, парчовый жилет с чересчур, пожалуй, массивной золотой
цепочкой поперек живота, белая хлопковая рубашка. Ворот рубашки расстегнут,
с него свисают незавязанные концы черного галстука-бабочки. Туфли тоже
черные. Волосы у незнакомки темные, до плеч. Она сидит в кресле наискось,
подобрав ногу под себя. Приподнимает круто изогнутую черную бровь. Я
прослеживаю за взглядом девушки до треножника из инженеров, который
драматически прокладывает себе путь к лестнице.
- Как считаете, получится у них? - Она слегка наклоняет голову вбок,
подпирает кулачком затылок.
- Пожалуй, много бы я на них не поставил.
Она задумчиво кивает и подносит к губам высокий стакан. Глотнув,
произносит:
- Пожалуй, я тоже. Прошу прощения, я ведь не знаю вашего имени.
- Меня зовут Джон Орр.
- Эбберлайн Эррол.
- Как поживаете?
Вопрос кажется Эбберлайн Эррол смешным.
- Как хочу, так и поживаю, мистер Орр. А вы?
- Вы, наверное, дочь главного инженера Эррола? - в тон ей отвечаю я и
кладу шляпу на край дивана. Если мне повезет, ее кто-нибудь стибрит.
- Не наверное, а точно, - отвечает она. - А вы, мистер Орр, кто по роду
занятий? Инженер? - Она указывает длинной, без единого кольца или перстня,
кистью на местечко рядом с собой.
Я снимаю пальто, присаживаюсь.
- Нет, я пациент доктора Джойса.
- Ах вот оно что... - медленно кивает она и глядит на меня в упор, что
не очень-то распространено в здешнем быту. Глядит, словно на какой-то
мудреный механизм, в котором пришла в негодность важная деталь. Лицо у нее
молодое, но с мягким, добрым выражением, какое бывает у пожилых женщин;
морщин не видно. Глаза маленькие, кожа туго обтягивает скулы и лобную кость.
У нее широкий улыбчивый рот, но взгляд мой притягивается не к нему, а к
крошечным складочкам кожи под серыми глазами. Складочки эти делают ее взор
всепонимающим и насмешливым.
- И что же с вами не так, мистер Орр? Ее взгляд опускается на мое
запястье, но медицинский браслет спрятан под обшлагом.
- Амнезия.
- В самом деле? И давно? - Она не тратит времени на паузы.
- Уже около восьми месяцев. Меня... выловили какие-то рыбаки.
- Да? Кажется, я что-то читала об этом. Вас выудили из моря, как рыбку.
- Да, так мне сказали. А как оно было на самом деле, не помню. Я многое
забыл.
- И что, до сих пор не выяснилось, кто вы?
- Нет. По крайней мере, никто из моих родственников или знакомых пока
не объявился. И приметы мои ни с кем из объявленных в розыск не совпадают.
- Хм... Как это, наверное, странно. - Она касается губ пальцем. - Я
представляла, что это так интересно и... - пожимает она плечами, -
романтично - потерять память. Но, наверное, это жутко утомительно...
У нее довольно изящные, очень темные брови.
- Самое утомительное, но и самое интересное - это лечение. Мой врач
верит в толкование снов.
- А вы?
- Пока нет.
- Поверите, если поможет, - кивает она.
- Возможно...
- Но что, - поднимает она палец, - что если вам придется поверить еще
до того, как оно поможет?
- Не уверен, что это согласуется с научными принципами моего
замечательного врача.
- Так ведь если поможет, то какая разница, что там с чем не
согласуется?
- Но ведь если верить без причины в процесс, можно дойти до того, что
поверишь без причины в результат.
Мои слова заставляют ее умолкнуть, но ненадолго.
- То есть можно поверить в то, что вас вылечили, хотя на самом деле
этого не произошло. Но ведь это же элементарно проверяется: либо к вам
вернулась память, либо нет.
- Ну а представим, что я возьму да придумаю все.
- Собственное прошлое придумаете? - говорит она скептически.
- Некоторые люди все время так поступают. - Кажется, я ее поддразниваю,
но, произнеся эти слова, невольно задумываюсь над ними.
- Да, но только для того, чтобы обманывать других. Они же наверняка
сами знают, что лгут.
- Не думаю, что все так просто. Мне кажется, легче всего обмануть
самого себя. Возможно, себя обманывать - это необходимое условие для того,
чтобы обманывать других.
- О нет, - категорически возражает она. - Хорошему лжецу необходима
отличная память. Чтобы других водить за нос, надо быть умнее их.
- По-вашему, никто и никогда не верил в собственные выдумки?
- Ну, может, верило несколько пациентов психбольниц, но больше - никто.
Знаете, по-моему, большинство якобы чокнутых, которые выдают себя за других,
на самом деле просто разыгрывают больничный персонал.
Какая категоричность! Кажется, я и сам когда-то был столь же резок в
суждениях, хоть и не помню, где, когда и по какому поводу.
- Вы, очевидно, думаете, что врачей очень легко дурачить, - говорю.
Она улыбается. У нее безупречные зубы. Я ловлю себя на том, что пытаюсь
оценить, охарактеризовать эту женщину. Она увлекает не завлекая, поглощает
не заглатывая. Но, возможно, с тем же результатом.
Эбберлайн Эррол кивает:
- Вероятно, легко дурачить тех, кто пытается лечить мозги как мускулы.
Скорее всего, таким врачам просто в голову не приходит, что пациенты
способны намеренно вводить их в заблуждение.
Вот с этим я бы поспорил. К примеру, доктор Джойс считает делом
профессиональной чести не верить до конца всему, что рассказывают пациенты.
- А мне кажется, - говорю, - что хороший психиатр всегда разоблачит
пациента-шарлатана. Большинству просто не хватает воображения, чтобы как
следует вжиться в роль.
У нее изгибаются брови.
- Возможно, - произносит она, пристально-невидяще глядя мимо меня. - А
знаете, мне сейчас детство вспомнилось, когда мы...
В этот момент спавший напротив нее, положив руки на стол, а голову на
руки, молодой человек приподнимается, откидывается на спинку стула и зевает
и обводит бар мутным взором. Эбберлайн Эррол оборачивается к нему.
- А, проснулся, - говорит она этому костлявому парню с длинным носом и
близко посаженными глазами. - Собрал наконец кворум нейронов?
- Да ладно, Эбби, завязывай стебаться. - Взглядом он добавляет в мой
адрес: "А ты не пошел бы на...?" - Лучше добудь водички.
- Милый братец, хоть ты и скотина, но я-то не скотница! - отбривает
она.
Он тупо рассматривает стол, весь в грязных тарелках и пустых стаканах.
Эбберлайн Эррол глядит на меня:
- Вы-то, конечно, не помните, есть у вас братья или нет?
- Увы и ах.
- Хм... - Она встает и идет к стойке бара.
Парень закрывает глаза и наклоняет стул назад, заставляя его
покачиваться на двух ножках. Бар пустеет. Кое-где из-под столов торчат
ботинки, свидетельствуя, что алкогольные экскурсы их владельцев в давнюю
эпоху четырехногого передвижения пришли к ступорному финишу. Эбберлайн Эррол
возвращается с кувшином воды, останавливается возле брата и плещет водой ему
на лоб.
Молодой человек падает на пол, ругается, кое-как встает. Она вручает
ему кувшин. Он пьет. Она наблюдает за этим со смесью веселья и презрения на
лице. Все это время она курит длинную тонкую сигару.
- Мистер Орр, а вы вчера видели пресловутые самолеты? - спрашивает мисс
Эррол, глядя не на меня, а на брата.
- Да. А вы?
Она отрицательно качает головой и пускает дым.
- Нет. Мне рассказывали, но я сначала решила, что это розыгрыш.
- А мне они показались вполне настоящими.
Ее брат опустошает и театральным жестом бросает себе за спину кувшин.
Он разбивается о столик где-то в сумраке. Эбберлайн Эррол укоризненно качает
головой. Молодой человек зевает:
- Устал. Пошли отсюда. А где папаша?
- В клуб ушел. Причем уже давно. Может, он уже дома.
- Ну и ладно. Пошли. - Он встает и направляется к лестнице.
Мисс Эррол глядит на меня и пожимает плечами:
- Извините, мистер Орр, но мне пора.
- Ничего, все в порядке.
- Было приятно с вами поговорить.
- Уверяю вас, это взаимно.
Она оглядывается на брата. Тот стоит на лестничной площадке руки в
боки, ждет.
- Ну что ж, - смотрит она на меня, - может, у нас еще будет возможность
продолжить беседу.
- Искренне на это надеюсь.
Она все же не спешит уходить. Она стройна, немного взъерошена, курит
сигару. Она сгибается в глубоком ироничном поклоне, растопырив руки,
пятится. По ее следу клубится серый дым.
Посетители разошлись. В баре "Дисси Питтон" остался в основном
персонал. Эти люди гасят лампы, вытирают столы, подметают пол, достают
из-под столов бесчувственные тела. Я сижу и допиваю вино. Оно теплое,
терпкое, но я ужасно не люблю оставлять недопитые стаканы.
Наконец я встаю и узким коридором из последних непогашенных ламп иду к
лестнице.
- Сэр!
Я оборачиваюсь: только что махавший шваброй бармен протягивает ко мне
руку. В ней - широкополая шляпа.
- Это ваше. - Он даже встряхивает шляпу, чтобы я не перепутал ее со
шваброй.
Я беру ее, заразу. Нисколько не сомневаюсь, что если бы дорожил ей как
зеницей ока, следил за ней денно и нощно и боялся оставить ее в этом баре,
то ее бы уже давно и след простыл.
В дверях швейцар больше не дремлет. Он прислонил Томми Буча к стене и
пытается установить его личность и место жительства. Похоже, инженер Буч не
в состоянии издавать какие бы то ни было внятные звуки. Его лицо приобрело
ярко выраженный зеленый оттенок, и швейцару совсем нелегко удерживать моего
знакомого в вертикальной позе.
- Сэр, вы знаете этого джентльмена? - спрашивает швейцар.
Я отрицательно качаю головой:
- Впервые вижу. - Сую шляпу между рук швейцара. - Но это - его, он
забыл в баре.
- Спасибо, сэр. - Швейцар подносит шляпу к лицу инженера, чтобы тот ее
разглядел (или чтобы ее разглядели они оба). - Сэр, смотрите, ваша шляпа.
- Блгдр-рю... - удается выговорить инженеру Бучу, прежде чем содержимое
его желудка откочевывает в перевернутый головной убор. Хорошо, что у шляпы
широкие поля - удивительно мало брызг пролетает мимо цели.
Я ухожу, охваченный странным ликованием. Неужели Буч получил именно то,
что заказывал?
- Отсутствует?
- О, мистер Орр, поверьте, я вам совершенно искренне сочувствую, но
доктора действительно нет.
- Но мне...
- Да, мистер Орр, я знаю, вам назначено. У меня и запись есть, вот
здесь, видите?
- А в чем дело, собственно?
- Срочное собрание Административного совета первой подкомиссии
ветеринарной комиссии. Это крайне важное мероприятие, и, вообще, у доктора
сейчас очень горячие дни. Так много вызовов, знаете ли! Мистер Орр, вам ни в
коем случае нельзя принимать это на свой счет.
- А я и не...
- Просто так вышло. Естественно, вся эта административная рутина мало
кому по вкусу, но ведь и черную работу кто-то должен делать.
- Да, я...
- Его могли вызвать в любое другое время. Вам просто не повезло.
- Я понимаю...
- Вы ни в коем случае не должны обижаться. Убедительнейше прошу
поверить: это просто досадная накладка.
- Да, конечно, я....
- И никакой связи с тем, что мы вчера забыли вам сообщить о переезде
клиники. Это чистой воды случайность! С кем угодно могло быть! Просто не
повезло именно вам. Клянусь, здесь абсолютно ничего личного.
- Так я...
- Вам не надо принимать это близко к сердцу.
- Я и не...
- Чашечку чая, мистер Орр? Или вы предпочитаете кофе?
Выходя из приемной, вспоминаю вчерашнее богатое событиями путешествие в
L-образном лифте и решаю его повторить. Ищу огромное круглое окно и дверь в
расположенную напротив него шахту.
Во мне растут досада и раздражение. Я больше часа блуждаю в сумраке под
высоким сводом яруса, минуя ниши со слепыми статуями (увековеченных в
бледном камне древних бюрократов), проходя под тяжело нависшими флагами (как
помпезные паруса из грубой ткани на мачтах огромного темного корабля). Но
круглого окна так и не обнаруживаю. Не нахожу и бородатого старца, и лифта.
Зато мне попадается старший клерк. Судя по шевронам, это ветеран, отслужил
лет тридцать, не меньше. Он удивленно пялится на меня и отрицательно мотает
головой, когда я описываю лифт и седого лифтера.
В конце концов я сдаюсь. Мой врач едва ли похвалит меня за это.
Следующие несколько часов я трачу на хождение по маленьким галереям в
незнакомой секции моста, далеко от моих излюбленных мест. Здесь тоже есть
экспозиции, но нет экскурсантов, кроме меня. Их и не бывает, судя по
обалдевшим лицам служителей. Меня ничто не радует. От всех работ веет
усталостью и вырождением, картины - блеклые, статуи - бездушные. Но еще
хуже, чем общее убожество экспонатов, на меня действует откровенная
извращенность их создателей, словно сговорившихся искажать всеми мыслимыми и
немыслимыми способами пропорции человеческой фигуры. Скульпторы придали
своим изваянием диковинное сходство с элементами моста. Бедра превратились в
кессоны, торсы - в кессоны или несущие трубы, руки и ноги - в напряженные
балки и фермы.
Тела сделаны из клепаной стали, покрашены той же бурой краской, что и
мост. Трубчатые фермы стали конечностями, срослись в уродливый конгломерат
металла и мяса, порождая исключительно кровосмесительные или же
онкологические ассоциации. У картин тот же лейтмотив: на одной мост
изображен как шеренга уродливых карликов, которые стоят, взявшись за руки, в
кровавой клоаке; другая показывает целостное трубчатое сооружение, но с
петляющими, выпирающими через охряную поверхность венами, и из-под каждой
заклепки сочится кровь.
Под этой частью моста островок, один из тех, которые поддерживают
каждую третью секцию.
Островки схожи только размерами и местоположением. И форма, и история у
каждого свои. Некоторые - в червоточинах старых копей и пещер, на других
полно разрушающихся бетонных глыб и цилиндрических колодцев, похожих на
артиллерийские огневые точки. Отдельные островки хранят на себе руины зданий
- не то наземных шахтных построек, не то древних заводов. У большинства есть
бухточки или эспланады на мысках, и лишь единицы лишены следов человеческого
обитания - это всего лишь комья земли, прячущиеся под травой, кустарником и
зелеными водорослями.
Впрочем, у них есть тайна, одна на всех: как они здесь оказались и для
чего служили раньше. На первый взгляд это природные образования, но все
вместе, лежащие на одной прямой, они выдают себя, и эта неестественная
упорядоченность интригует даже сильней, чем мост, основаниями которому они
служат.
Возвращаясь домой на трамвае, бросаю из окна монетку; она блестит в
полете к морю. Кидают монеты и еще двое пассажиров. В моей голове ненадолго
возникает абсурдная картина: воды под мостом постепенно заполняются
выброшенной мелочью, монетаристские останки растраченных желаний формируют
верхний, как на дрожжах растущий слой осадочных пород, и в конце концов к
полым стальным костям места подступает монолитная денежная пустыня.
У себя в квартире, прежде чем лечь в постель, я смотрю на человека на
больничной койке, вглядываюсь в мутное серое изображение так напряженно и
так долго, что сам себя едва не гипнотизирую этим статичным образом. Я врос
в вечернюю мглу, мой взор неподвижен, и кажется, я вижу не фосфоресцирующее
стекло, а блестящий металл, силюсь прочесть письмена, отчеканенные или
вырезанные на шероховатой стальной плите.
Я жду, когда зазвонит телефон.
Я жду, когда вернутся самолеты.
Появляется медсестра, та самая медсестра, опять с металлическим
подносом. Чары разрушены, иллюзия экрана как стальной плиты развеяна.
Медсестра готовит шприц, протирает руку больного. Я дрожу, словно это
мою кожу холодит спирт. И не только по руке бегут мурашки - по всему телу.
Я спешу выключить телевизор.
А все этат сутчий волшебник да ета он падсунул мине ету как он сказал
дамашнюю звирьюшку и типерь ана сидит у миня на пличе и весь сутчий день на
пралет нисет фсякую ни сусветную хринятину. И нифига я ни магу типерь от
делаца от етой праклятой пакосьти у миня на пличе патаму мы сней типерь как
адно тцелое. Волшебник абищщал она мине памагать будит абищщал она будит
гаварить фсякие полезные весщи и все сбудица. Я то думал што он пад
разумивал и взо правду полезные весщи а ни ету сутчую болтавню весь день
напралет. Етот волшебник миня пад купить пыталса патаму што думал што я иво
при контчить сабираюс а я взо правду сабиралса. И он сказал если я ни буду
иво убиват он мине дасть эту вот интирестную и полезную дамашнюю звирьюшку и
она будит па начам старожить и мине саветы давать полезные на разные случяи
жизьни. И тада я иму сказал ладна преятиль согласии жыви давай паглядим чиво
она там умеит. А он падходит к шкапу и дастает шкотулку а изние дастает
какую та хринятину глядит на ние и гаварит при этам какие та магитческие
слава. А я за ним слижу штобы он ни папыталса надстроить мине какую нибуть
пакосьть а естли папытаица я иму метчем глодку в раз пирирежу. Ничиво таково
он ни пытаица а в место етаво дастает такую смишную чтучьку в роде кошьки
или абизянки тока всю накрытую чорным мехом с клювом и чорными периями на
спине и касаглазую ктамуже и сажаит ие мине на пличо и гаварит ступай мой
малчик сбогом. А я панятно дело ни спишу ухадить патаму што ищще ни знаю што
ета за ффигня у миня возли бошки сидит и диржу метч у ниво возли глодки
папрежнему. Гльяжу на касую звирьюшку и спрашиваю у ние где старый пидрила
рыживье держит. А она атвичаит в старым сюндуке за ширьмой но ето волшебный
сюндук загляниш в ниво а он пустой а руку суниш и нащщупаиш рыживье а выниш
иво и оно с разу видным станит. Волшебник чуть ни акачурился я тоже.
Праверил все аказалос как звирьюшка и абищщала и я тада спрасил чиво типерь
делать. А она гаварит при кончи стараво пирдуна для начяла пака он тибе
какунибуть пакосьть ни надстроил. И я тада при шил валшебника но стех пор
чортава звирыошка ни чпво харошсва ни саветуст тока бридятину кисет всякую
цэлыми днями.
- ...И разумеется, согласно наставительным правилам новой символогии,
выражаемым Большим Арканом, башня означает отступление, ограничение контакта
с реальным миром, философскую экстроспекцию. Короче говоря, это не имеет
никакого отношения к упоминавшейся мною ранее сугубо инфантильной
одержимости фаллической символикой. Действительно, если исключить страдающие
непроходимым нравственным запором социумы, можно утверждать, что, когда люди
хотят видеть сны о сексе, они и видят сны о сексе. Комбинация карт "La Mine"
и "La Tour" в Малом Аркане считается особенно важной, и, если башня
оказывается над шахтой, это имеет сексуальный резонанс с точки зрения
предикции, что, казалось бы, вовсе не очевидно, исходя из простого сочетания
отступления с боязнью провала, однако...
Поняли типерь че я имею ввиду? Так и свихнуца не долго. А ведь мне даже
ни скавырнуть чортаву сутченку патаму што она за миня когтями держица за
саживаит поскуда их в самое мясо. Ни магу даже с бить звирьюшку кулаком или
камнем патаму што она мертвой хвадкой держица и начинаит арать и дергаца и
ругаца и пишчать и у миня ни палучаица ни сбить паскуду ни глодку ей
кенжалом про дырьявить.
И всетаки дила май на лад пашли када я с ней встретилса и значица она
мине на верно принисла удачю. А я то думал без волшебника ни чиво харошиво
сней не выйдит и то сказать я же ни калдун сутчий а прастой рубака. И
всетаки павторяю дила май пашли на лад.
И я узнал от звирьюшки койкакия новые славетчки и значица стал чутотчку
абразований. Да я за был упаминуть што када я пытаюс скавырнуть ие со свово
плича или ни кармлю ие она начинаит арать так ис тошно што проста оглохнуть
можна и всю ночь арет и спать мине ни дает. Норас она ни через чур
пражорлива да и удачу мине приносит я плюнул на ние проста и там бутьшто
будит както мы с ней ладим. Еслип толька сука наспину мне ни гадила все
время...
- ...Между прочим, любопытный факт... хотя ты, конечно, этого не
оценишь. И то сказать, когда у человека в мозгу всего одна извилина... а
если точнее, всего одна клетка серого вещества... Так вот, внизу дело
обстоит совершенно иначе, нежели на этих головокружительных высотах. (Ты
заметил, что запыхался? Ну конечно же нет.) Так вот, власть на этих райских
пастбищах, на этом воплощенном лоне девственной природы, принадлежит
женщинам, а мужчины до конца дней своих остаются ростом с детей.
Снова она йазыком чешит а я уже у самаво верьха сутчей башни и мой метч
пакрыт кровишшей и рука балит ие парезал адин сутчий страшник навходе и я за
блудилса в этом дирьмовом лоберинте сриди всех етих праклятых комнатух.
Биспакоица натчинаю иза агня каторый я успел гдета за палить патамушта дымом
ваняит и я ни хочю сжарица тута зажыво нетужки спачибочки. А чортова тфарь
опьять фее далдонит и мине ни как не паймать старую каралеву патамушто у ние
и магийя и всякая такая ффигня. Вот апять на миня кидаица страшник вреш ни
вазьмеш я иво канчаю и пирипрыгиваю чериз иво трупп и прабираюс далше на
верх па слидам увьертливой ветьмы каралевы.
- ...Господи, но какие же все-таки примитивы эти трутни! Менталитет
улья - самая настоящая игра в поддавки с высшими позвоночными. Да-да, я
согласен, что и к тебе применим этот ярлык, но лишь в отношении физического
роста. Заблудился? Ну разумеется. Дым беспокоит? Это вполне естественно.
Будь на твоем месте парень посмышленей, он бы разом решил обе проблемы -
просто нашел бы, куда дым тянет. Дымит-то снизу, а окон на этом этаже не так
уж много. Но у тебя, как мне кажется, нет ни единого шанса сложить два и
два. Плохо, когда у человека разум не шустрее накачанного валиумом ленивца.
Жаль, что твое сознание не дошло еще в развитии даже до межледникового
периода. Хотя, с другой стороны, не всем же быть гигантами мысли. Вероятно,
дело тут в катастрофическом искажении генного кода. Все пошло наперекосяк
еще в материнской утробе, кровоснабжение работало только на рост
мускулатуры, а мозгу досталась порция большого пальца левой ноги или
чего-нибудь в этом роде...
Я уже было падумал че тутто мине и канец но патом заметил куда нахрен
сачица дым и на шол етот здаравеный льюк ура зашебис! Но ни шутатчное ето
дело разбираца чтокчиму када касаглазая тфарьюга так и тришщит тибе в ухо.
- ...Кстати, о детях. Как я уже говорила... О, неплохо: мы, похоже,
нашли путь на следующий этаж. Мои поздравления! Надеюсь, мы не забудем
опустить за собой люк? Отлично, отлично. Продвигаемся! Потом ты научишься
завязывать шнурки... скорее связывать их друг с другом, но лиха беда начало.
Так о чем я говорила? О детях. Да, внизу всем заправляет так называемый
слабый пол. Самцы рождаются с виду нормальными, но потом плохо развиваются и
останавливаются примерно на уровне ребенка, начинающего ходить. В
сексуальном аспекте они взрослеют, отращивают на теле густую шерсть и даже
слегка полнеют, и их гениталии развиваются полностью, но самцы всю жизнь
остаются крохами, никогда не вырастают до такой степени, чтобы представлять
собой угрозу. Их разум тоже не достигает нормального уровня развития, но...
plus сa change; спросите любую женщину, и она подтвердит. Эти симпатичные
озорные волосатые затейники используются для осеменения, и, конечно,
домашние животные из них просто чудо, но к серьезным взаимоотношениям
женщины склонны только между собой, что, на мой взгляд, совершенно правильно
и нормально. Помимо всего прочего, женщине для тактильного кворума нужны
разом три, а то и четыре самца, чтобы занятия любовью отличались от обычного
процесса оплодотворения...
Ну видити эта сутченка все трепица и трепица а ведь еслибы я ни на шол
выход на верх она бы дафно паджарилас. Тут кругом всякие сталбы и занавецы и
другие весчи а стены залатые на вид но энто тока пазалота и проку никакова
ни чилавеку ни зверью от нее. Я за балыпим стулом на памосте ищщу путь на
верьх и тут на миня кидаюца ищще два здаравеных страшника они как ведмеди с
чилавечими голавами и рычят и ламают все кругом но я их тоже канчаю а адин
хлабысть с болкона и литит вниз и привращаица в малинькае пятныжко но ето не
приближает миня к старой стерьве каралеве.
- ...Бьюсь об заклад, теперь он жалеет, что не учился в свое время
летному делу. Вы только посмотрите на этот пейзаж! Холмы и горные кряжи, все
эти леса... и реки, точно вены, по которым течет ртуть. Просто дух
захватывает! Даже будь у нас дыхательные аппараты - все равно бы захватило!
Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что необходим дыхательный аппарат. Смерть
от кислородного голодания тебе вряд ли грозит. Ты бы наверняка обошелся и
парой кислородных молекул в день. Да посмотри на себя, приятель: если
превратишься в овощ, это будет повышение в чине!.. Все же надо отдать тебе
должное: ты преспокойно разделался с теми наглыми крикливыми хищниками. Ведь
им почти удалось меня напугать, но ты не ударил лицом в грязь. Похоже, ты не
робкого десятка. Жалко только, мозги подкачали, но ведь нельзя же иметь все
на свете? В том числе и способность видеть то, что у тебя под носом. Лично
мне кажется, разгадка - в троне. Да, никакого пути отсюда на следующий этаж
не наблюдается, но ведь он должен быть, и если б я был монарх, то
распорядился бы насчет быстрого и удобного способа эвакуации, на случай если
в этом зале вдруг запахнет жареным. Смешно, с каким упорством ты не
замечаешь столбик, соединяющий помост с сиденьем. Впрочем, чего еще ожидать
от такого непроходимого тупицы? Каданибудь энта сутчья звирьюшка миня
давидет сваей поскудней дуратцкой балтавней и я точно разабью сибе бошку
обстенку. Я бы довно избавилса от чертовой тфари нокак вот вапрос. Я зализаю
на здаравеный стул или как там иво трон штоли и натчикаю шивилить мазгами и
натчинаю дьергать все што тартчит из пиво простатак от нечива делать дьергаю
а ета долбаная хриновина как в друг вазьмет да и падскочит ввоздух а мы с
чортовой звирьюшкой наней седим.
- Надо же, какой сюрприз! Лифт оригинальной конструкции! Семьдесят
девятый этаж: дамское белье, верхняя кожаная одежда, постельные
принадлежности, облачение для служителей культа.
Куцы ето ищще нас за нисло. Проста аффигеть можна здаравеная комната и
вней пално краваток и кушшеток и всиво таково прочиво а наних бабы валяюца
тока все нетцелые им койчиво нехватаит.
Лижат они насваих койках и пахнит кругом пряностьями и благо вонями а к
мине падбигаит здаравеный такой муджик благо воняными мослами на мазаный аж
блистит весь а галосишка униво пискльявый каку бабы. Муджик кланиица и
лодошки патираид и пойет мине песинку сваим пискльявым бабским галоском и
приветствуит миня как гаспадина и сльозы па роже тикут. И я там пасидел
чутток дух пири вел а патом па шол гльянуть че и как а здаравеный талстеный
пидрила замной плитеца и балбочет чивото безумалку и все приветствуит.
А бабы на койках все жывые датока уветчные нирук ниног как буто в
битьве пабывали тока шрамоф ни видадь нарожах и телах и кто их так адделал
астаеца тока дагадываца. Бабы всекак адна в теле здаравеные титтьки и бьедра
пухлые и рожи ничиво и на етих бабах кожинные шмодки или празратчные трьяпки
или кружыва сутчьи. И койкто из баб тоже приветствуит миня проста аффигеть
можна.
Нихрина сибе прикидываю какие из врашчонные фкусы бывают у некатарых
пидрил и че ниужто сто все прид назнатчено для старой каралевы. Хатя я
слыхал че у ведьм и калдунов чистенько бывают даволно из врашчонные фкусы и
канешна наффиг мине нада штоб папитам за мной хадил етот здаравеный жырный
муджык каторый тута телок старажыл а он все ходит и ходит и песинки
распивает и приветствуит на доел уже и я иво при контчил. А патом за шол за
здаравеный занавец и там на шол талпу старикашшек и все дидки как адин в
дуратцких шероких адияниях.
Вотето была картинка проста аффигеть можна када они пиридо мной натчали
руками роз махивать и за вывать я их спрасил где каралева и иенное рыжывье а
они чивота лапочут и ниффига нипанятно. Койкто зато фсе скумекал.
- ...Ай да молодцы! Даже в поражении - какой стоицизм! Но вам следует
учесть: наш гостеприимный толстячок, увечный поводырь увечных, только что
познакомился с клинком моего мускулистого товарища и получил удар еще более
жестокий, чем тот, который сделал его тем, кем он был до сего дня. Сдается,
у моего спутника терпение на исходе, оно и в лучшие-то времена было с микрон
толщиной, а потому, если не хотите отправиться на тот свет вдогонку за
евнухом или в самом оптимальном случае занять освобожденную им должность,
подумайте о сотрудничестве. Итак, кто из вас объяснит, как пройти к
королеве? Отвечает Молохий? Прекрасно, ты у нас всегда был разговорчивым,
верно? Ну о чем речь?! Конечно, награда за правду - жизнь и свобода. Даю
слово! Мм... хм-м... Поняла. Зеркало. Наверное, просто пластик. Оригинально
- едва ли, но надежно - вполне.
Я прахожу мимо старикашшек раз биваю зеркало и за гльядываю вдыру и
вижу там в далнем канце ступенки зашибис тошто надо.
- Ладно, можно пока не напрягать фарш, который тебе заменяет мозги.
Делай, что считаешь естественным, а там будет видно.
Я при канчиваю старикашшек они и так были савсем дохлые кожжа да кости
не работа для мово метча. Правда я уже под устал и рука балит. Я нашол
каралеву на самом верьху крышы в шырокой комнате аткрытой всем витрам. И там
она седит в таком чорном падвинечном платьи и держыт в руке лук мелкий такой
лучонок и сморит на миня так бута я ето не я а кусок дирьма. Она не красодка
но и не старая корга как я ожедал и темной нотчкой сашла бы впалне зашибис.
А я ежли чесна стаю и ни знаю че делать у ние чето такое с глазами и я
нанимаю че она на миня дейвствуит сваей магийей но шивильнуца ни магу и даже
рта раз крыть и даже касая звирыошка при умолкла а патом гаварит:
- Плохо, моя девочка. Я думала, ты на большее способна, разве это
драка. Погоди-ка, мне надо кое-что шепнуть на ушко моему другу. Так вот,
слышал анекдот: приходит человек к врачу с лягушкой на голове. Врач
спрашивает: на что жалуемся? А лягушка говорит...
- Ни абращщай на ниво вниманийя, - говорит каралева сутчей звирьюшке а
я даже сутчим пальтцем пошивилить ни магу ну пагади думаю добирус ты у миня
папляшиш мине бы тока сместа сайти. - И как же тибе удалое асвабадица? -
спрашивает каралева.
- Облажался старина Ксеронис. Нанял этого громилу, а при расчете
попытался его надуть. Представляешь, дал себя перехитрить такому дуролому! А
я, между прочим, всегда говорила старому пню: ты слишком высоко ценишь свои
умственные способности. Должно быть, он забыл, в которую шкатулку меня
засунул. И перепутал с дешевым талисманом с двухдневной гарантией и
проницательностью шпоры на большом пальце ноги! И посадил на плечо к этому
безмозглому олуху.
- Идиет, - гаварит каралева. - И какэто миня угараздило даверидь иму
тибя?
- Милочка, так ведь это далеко не единственная твоя ошибка.
Я бы этим сутчкам наказал их ашипки если-бы мог шивильнуть рукой с
метчом. Балтают между сабой какни вчом нибывало проста аффигеть можна.
- Такты знатчит йавилас притендавать на свае закона место? - гаварит
каралева.
- Именно так. И, судя по всему, ни наносекундой раньше, чем нужно.
Вижу, что тут под твоим чутким руководством все катится ко всем чертям.
- Но видь это ты наутчила миня всиму че я знаю.
- Да, милочка, но, к счастью, не всему, что знаю я.
(А я их слушаю и гаварю сибе ни спиши атчаиваца пастаим падаждем че
далше будит. Задрала блин тарчадь тут.)
- И че ты намерина типерь делать? - спакойна так гаварит каралева как
бута хочит дело миром ришить.
- Для начала - избавиться от зверинца, что под нами. Твой?
- Для жритцов. Знаишь вить как у нас дело наставлено? Деватчки
вазбуждайют жрицов, а я... малачко выдайиваю.
- Надо было выбрать производителей помоложе.
- Ващето никаму из них и двацати нет. Проста этот працес очинь быстра
сушид чилавека.
- Меч моего друга засушил их куда быстрей.
- Латно, фсех фее рафно нипа бедиж, - гаварит каралева и стаиовица
какбуто пичальной и стераит сльезу са щики а я стаю точна каминый балван с
места ни сдвинуца и думаю ладно сутченки я вам ищще пакажу а ищще думаю че
же за хриновина тута тварица. И тута каралева в друг как киница са стула
прям на миня точна литучая мыш и как на целит лучонок прям на звирьюшку
каторая на маем пличе.
Тута я чють ни абделалса спирипугу да тока звирьюшка ни буть дура как
сигонет с мово плича прям в рожу каралеве и как дасть па ней точна сутчье
пушично едро и та хлобысь взад на стул. Каралева лук свой уранила и он
палител на пол и стал там светица а она стала атрывать звирьюшку от сваей
рожи и вапить и арать и царапать ие и бить.
Наканецта мине павизло чортава звирьюшка убралась с мово плитча. Я
сматрю как сутченки другдрушку лупьят и думаю канешна зашибис тошто нада да
тока наффиг ету игру в салдатики мине сваливат пара. Хачю паднять каралевин
лук а он красный раскалилса жеца. И я атхажу патихонку па леснитце и тут
како рвонет и я лоту кувырком сриди камней и брьеевен и чирипицы и думаю ну
все проста аффигеть можна вот мине и конетц при шол. Но ничево цел асталса
патамушто ни обо што ни вдарилса. Выбралса испод абломков глижу наверх
ничиво кругом нет тово што было и сук абоих как сфиздило. Етож проста
аффигеть можна.
Сутчье рыжывье я такине на шол тока с бабами порозвльекса ффигня
напрастная патеря времени но зато я из бавилса от гадкой звирьюшки. Стех пор
мине уже ни так визло и я инагда скутчал по ие балтавне но ни шипко если
чесна. Ито сказать я жи вам ни калдун сутчий а прастой рубака.
Нет, нет, нет! Было еще хуже (это позже, это сейчас, когда за шторами -
водянистая серость; когда слипшиеся губы, во рту гадко и трещит голова). То
был я, я был там, вожделел тех увечных женщин, и они возбуждали меня, и я их
насиловал. Что для варвара еще одна струйка крови на его мече, еще одна
взятая силой полонянка? Но ведь этим варваром был я, и хотел этих женщин,
которых сам же и сотворил; и я обладал ими. И вот моя душа, как нарыв гноем,
заполняется отвращением. Господи боже, да лучше полная импотенция, чем
похоть при виде увечий и насилие над беззащитными.
Я неуклюже поднимаюсь с постели. Болит голова, ноют кости, на коже -
холодный пот, как прогорклое благовонное масло. Раздвигаю шторы.
Облака опустились, мост окутан серым, по крайней мере на этой высоте.
Включаю лампу, газовый камин и телевизор.
Человек на больничной койке окружен медсестрами, они переворачивают его
на живот. Бледное лицо его не выражает никаких эмоций, но я знаю, что
незнакомцу больно. Я слышу собственный стон и выключаю телевизор. В груди -
моей груди - ощущаю боль, она подчиняется лишь собственному ритму.
Привязчивая, ноющая.
Я плетусь, как пьяница, в ванную. Здесь все белое и четкое, и ни одного
окна, а значит, не виден туман, обволакивающий все снаружи. Можно закрыть
дверь, включить еще несколько ламп и оказаться среди четких отражений и
твердых поверхностей. Я пускаю воду в ванну и долго смотрю на свое лицо в
зеркале. Вскоре мне кажется, будто опять все кругом темнеет, пропадает. Я
вспоминаю, что глаза видят, только когда движутся; их сотрясают слабейшие
вибрации, отчего "оживают" предметы, на которые устремлен взор. А если
парализовать глазные мышцы или как-нибудь добиться, чтобы предмет двигался
вместе с глазным яблоком, то картинка исчезнет...
Мне это известно. Я где-то когда-то этому учился. Но когда и где, не
помню. Моя память - это затонувшая земля. Я гляжу с узкого утеса туда, где
раньше простирались плодородные равнины и высились покатые холмы. А сейчас -
лишь монотонная водная гладь и несколько островков; когда-то они были
горами, а ныне - складки, созданные какими-то глубинными тектоническими
подвижками разума.
Я встряхиваюсь - хочу выйти из слабого транса, но в результате лишь
обнаруживаю, что отражение мое и впрямь исчезло. В ванну льется горячая
вода, клубящийся пар конденсируется на холодной поверхности зеркала. Он-то и
затмил, загородил, стер меня.
Я стильно одет, аккуратно причесан, хорошо позавтракал. Я узнаю - не
без удивления, - что клиника доктора находится там же, где и вчера, и никто
не отменил и не перенес на другой день назначенный мне прием. ("Доброе утро,
мистер Орр! Как приятно вас видеть! Да, разумеется, доктор здесь. Не желаете
ли чашечку чая?") И вот я сижу в новой приемной, куда просторней, чем
прежняя, и жду, когда господин целитель соблаговолит меня допросить.
За завтраком я решил лгать. Ведь если удалось придумать два сна,
как-нибудь справлюсь и с остальными. Скажу врачу, что мне этой ночью ничего
не снилось, и изложу сон, якобы увиденный вчера. Не к чему посвящать его в
мой настоящий кошмар. Психоанализ психоанализом, но и про стыд забывать
нельзя.
Доктор, как обычно, весь в сером, в глазницах мерцают осколки древней
льдины. Он выжидающе глядит на меня.
- Так вот, - говорю, словно оправдываясь, - у меня было три сна или,
точнее, один в трех частях.
Доктор Джойс кивает и что-то записывает.
- Мм... Хм-м... Продолжайте.
- Первый - очень короткий. Я в огромном роскошном доме, в мглистом
коридоре, гляжу на противоположную черную стену. Все - монохромное. Сбоку от
меня появляется человек. Он медленно и тяжело ступает. Он лыс, и кажется, у
него ритмично раздуваются щеки. Но я не слышу ни звука. На нем светлый
пиджак. Человек пересекает коридор слева направо, и я вижу, что стена за ним
- это не стена, а огромное зеркало, в котором снова и снова повторяется
отражение идущего, потому что есть еще одно зеркало, где-то сбоку от меня. И
вот я смотрю на всех этих толстых, неуклюжих мужчин, гляжу, как они идут
длиннющей шеренгой, маршируют в ногу слаженней, чем любое воинское
подразделение... - Я гляжу в глаза врача. Глубоко вздыхаю. - Самое
поразительное - что первое, ближайшее отражение не во всем повторяет
действия мужчины. На секунду, лишь на одно мгновение оно поворачивается и
смотрит на него - но при этом не сбивается с шага. Это лишь движение головы
и рук. Человек в зеркале поднимает руки к голове, вскидывает их вот так, -
показываю я врачу, - и мигом возвращает в прежнее положение. Шеренга копий
черного толстяка скрывается с моих глаз. А настоящий человек, оригинал, даже
не замечает, что произошло, и... собственно, это все.
Доктор жует губами и сцепляет короткие мясистые пальцы:
- Вы узнали хоть что-то из ваших собственных черт в горбуне, который
бичевал море? А будучи странником в свободных одеждах, наблюдая с берега,
испытывали при этом хоть мимолетное ощущение, что вы - еще и другой? И
наконец, кто был реальней? Кажется, стоявший на берегу в определенный момент
исчез - карлик с цепью перестал его видеть. Хорошо, сейчас не отвечайте.
Поразмыслите над этим. И еще над тем фактом, что у человека, которым были
вы, отсутствовала тень. Продолжайте, пожалуйста. Каков был следующий сон?
Я сижу и таращусь на доктора Джойса. У меня отпала челюсть. Что он
сказал? Что я сейчас услышал? А что сказал я? Господи, да это еще хуже, чем
было ночью. Доктор, я сплю, вы мне лишь пригрезились!
- Что?.. Я... Доктор... Что?.. Откуда вы?..
Доктор Джойс недоуменно смотрит на меня:
- Прошу прощения?
- Ч-что вы сейчас сказали? - У меня запинается язык.
- Что я сейчас сказал? - Эскулап снимает очки. - Мистер Орр, я не
понимаю, о чем вы. А сказал я только: "Продолжайте, пожалуйста".
Господи, неужели я все еще сплю? Какое там! Бесполезно внушать себе,
что это сон. Ладно, продолжаем. Может, это всего лишь временный сбой разума;
меня не оставляет странное ощущение, что я брежу. Да, наверное, дело в этом,
в чем же еще. Не поддавайся, держи себя в руках; спектакль должен
продолжаться.
- Я... извините, доктор. Мне сегодня никак не удается толком
сосредоточиться. Ночью плохо спалось. Может, потому и снов не было. - Я
браво улыбаюсь.
- Понятно. - Добрый доктор возвращает очки на нос. - Вы себя нормально
чувствуете? Рассказывать можете?
- Да.
- Вот и отлично. - И доктор улыбается, правда натянуто, как человек,
который примеряет яркий галстук, осознавая, что тот ему не идет. - Когда
будете готовы - продолжайте.
У меня нет выбора. Я уже сказал ему, что снов было три.
- В следующем сне, тоже черно-белом, я наблюдаю за парочкой в парке.
Возможно, это лабиринт. Они на скамейке, целуются. За ними живая изгородь и
статуя... Ладно, пусть будет просто статуя, фигура на постаменте. Женщина
молода и привлекательна, мужчина в летах, важный, носит строгий костюм. Они
страстно обнимаются. - Пока что я избегал смотреть доктору в глаза, и
требуется значительное усилие воли, чтобы поднять голову и встретить его
взгляд. - А затем появляется слуга. Не то дворецкий, не то лакей. Говорит
что-то вроде: "Посол, вас к телефону". Пожилой респектабельный мужчина и
молодая женщина оглядываются. Она поднимается со скамьи, оправляет платье и
говорит что-то вроде: "Вот гадство! Долг зовет! Извини, милый". И уходит за
слугой. Пожилой мужчина крайне раздосадован. Он подходит к статуе, глядит на
ее мраморную ногу, потом достает откуда-то кувалду и отбивает большой палец.
Доктор Джойс кивает, что-то записывает и говорит:
- Мне было бы интересно узнать ваше мнение о том, каково значение
диалекта. Но давайте дальше. - Он поднимает глаза.
Я сглатываю. В ушах - странный высокий гул.
- Последний сон, точнее, последняя часть одного-единственного сна...
Это происходит днем, на утесе над рекой, в красивой долине. Там дети, много
детей, и симпатичная юная учительница... Думаю, это пикник. А позади них -
пещера... Нет, не пещера. Короче говоря, мальчик держит бутерброд. Я гляжу
на них, на мальчика и бутерброд, с очень близкого расстояния, и вдруг на
бутерброд падает большой темный сгусток, и еще один. Мальчик в недоумении
поднимает голову, смотрит на утес. Сверху из-за утеса высунулась чья-то рука
с бутылкой томатного соуса, он-то и капает на хлеб. Вот и все.
Что я сейчас услышу?
- Мм... Хм-м... - говорит врач. - Это был поллюционный сон?
Я оторопело смотрю на него. Вопрос прозвучал достаточно серьезно, и
никаких сомнений: все, что здесь будет сказано, останется сугубо
конфиденциальной информацией. Я кашляю, прочищая горло.
- Нет, доктор.
- Понятно, - говорит врач и какое-то время тратит на украшение половины
страницы своей микроскопической каллиграфией. У меня дрожат руки, я потею.
- Что ж, - наконец произносит он, - кажется, мы нащупали, э-э... точку
опоры. Как по-вашему?
Точку опоры? О чем это он?
- Не понимаю, о чем вы, - говорю.
- Пора перейти к следующей стадии лечения, - провозглашает доктор. Мне
это откровенно не нравится.
Джойс издает профессиональный вздох строго отмеренной длительности.
- Материала у нас накопилось достаточно много... - Он просматривает в
блокноте несколько страниц. - Но я не чувствую, чтобы мы приближались к ядру
проблемы. Мы просто ходим вокруг да около. - Он глядит в потолок. - Видите
ли, если мы сравним человеческий разум... ну, скажем, с замком...
О-хо-хо! Мой доктор любит метафоры!
- ...то получится, что на последних сеансах вы лишь устраивали мне
экскурсии вокруг крепостной стены. Нет-нет, я вовсе не хочу этим сказать,
что вы сознательно вводили меня в заблуждение. Уверен, вы хотите помочь себе
в той же мере, в какой и я хочу вам помочь, и вам, наверное, кажется, что мы
и в самом деле пробираемся вглубь, к центральной башне, но... Джон, я в этом
деле собаку съел и давно научился отличать движение вперед от топтания возле
рва с водой.
- Н-да... - На меня эти сравнения с замком производят гнетущее
действие, хочется скорее сменить тему. - И что же теперь делать? Мне очень
жаль, что я...
- Помилуйте, Джон, вам совершенно не в чем оправдываться, - уверяет
меня доктор Джойс. - Но, кажется, нам пора перейти к новой методике.
- Что еще за методика?
- Гипноз, - отечески молвит доктор Джойс и улыбается. - Единственный
способ преодолеть куртину, а может, и проникнуть в центральную башню. - Он
замечает, что я хмурюсь. - Это будет совсем несложно. Мне кажется, с
внушаемостью у вас все в порядке.
- Правда? - мнусь я. - Ну не знаю...
- Очевидно, это единственный путь вперед, - кивает он.
Единственный путь вперед? А я-то думал, мы пытаемся идти назад.
- Вы уверены?
Мне надо подумать. Чего хочет доктор Джойс? И чего он хочет от меня?
- Вполне уверен, - говорит врач. - Абсолютно убежден!
Какой пафос! Я нервно тереблю браслет на руке. Собираюсь просить время
на размышление.
- Наверное, вы хотите это обдумать? - произносит доктор Джойс. Я ничем
не выдаю облегчения. - Кроме того, - добавляет он, глядя на карманные часы,
- у меня через полчаса заседание. И я бы предпочел встречаться с вами вне
своего расписания - нам явно понадобятся более продолжительные сеансы. Так
что сейчас, пожалуй, не очень удобное время. - Он собирается: кладет на стол
блокнот, прячет серебряный карандаш в футляр, а футляр - в нагрудный карман.
Снимает очки, дует на линзы, протирает носовым платком. - У вас
исключительно яркие и... связные сны. Удивительная плодовитость ума.
Что у него с глазами? Мерцают или мигают?
- Вы слишком добры ко мне, доктор, - говорю.
Секунду-другую он переваривает эту фразу, затем улыбается. Я ухожу,
согласившись со своим лекарем в том, что туман - это большое неудобство. За
дверью я благополучно уворачиваюсь от подобострастных "чайку-кофейку",
дебильных реплик и тошнотворно-слащавых пожеланий и спешу к выходу.
Едва не сталкиваюсь с мистером Беркли и его конвоиром-опекуном. Изо рта
у мистера Беркли пахнет нафталином. Мне остается лишь предположить, что он
возомнил себя платяным шкафом.
Я иду по Кейтинг-роуд. Мост утопает в клубящемся облаке, улицы и
проспекты обернулись тоннелями в тумане, огни магазинов и кафе с трудом
вылавливают из серой мглы человеческие силуэты, очень смахивающие на
призраков.
Подо мной шумят поезда. То и дело отработанный пар стремительно
прорывается через железный настил и спешит раствориться в тумане. Локомотивы
завывают, словно неприкаянные души, и человеческий разум машинально пытается
перевести эти протяжные крики на свой язык. А может, гудки с тем расчетом и
задумывались - чтобы будить в нас зверя. С невидимого моря, лежащего в
сотнях футов внизу, поездам вторят сквозь туман судовые сирены, их крики
дольше и басовитей, звучат мрачным предостережением, как будто каждый из
этих ревунов водружен над местом страшного кораблекрушения, чтобы оплакивать
души давным-давно погибших моряков.
Из тумана неудержимо вырывается рикша, оповещая о себе визгом
клаксончиков. Повозка стремительно приближается, девчушка, торгующая
спичками, спешит уступить дорогу, я оборачиваюсь и в глубине плетеной
коляски замечаю белое лицо в обрамлении темных волос. Рикша проносится мимо;
я готов поклясться, что седок ответил на мой взгляд. Сзади на коляске тускло
светится в тумане красный фонарь. Слышится окрик, когда уже почти истаял,
сгинул красный свет, и писк каблуков-клаксонов неожиданно смолкает. Рикша
остановился. Я иду вслед, и вот я рядом. Из коляски показывается голова с
белым, как будто сияющим в тумане, лицом.
- Мистер Орр!
- Мисс Эррол.
- Какой сюрприз! Кажется, нам по пути.
- Похоже на то. - Я останавливаюсь рядом с двуколкой. Между оглоблями
стоит парень, глядит вверх, тяжело дышит. Капли пота блестят в неярком свете
уличного фонаря. Кажется, Эбберлайн Эррол смущена, лицо у нее при ближайшем
рассмотрении не белое, а почти розовое. Я почему-то радуюсь, видя, что
отчетливые припухлости под ее глазами никуда не делись. Наверное, они у нее
всегда или она сегодня опять допоздна кутила. Похоже, как раз возвращается
домой. Но нет: у человека бывают утренние вид и самочувствие, а бывают
вечерние. И сейчас дочь главного инженера Эррола прямо-таки источает
свежесть.
- Подбросить вас?
- Куда уж выше, я и так на седьмом небе от счастья, - изображаю я в
кратком варианте ее изощренный поклон.
У нее глубокий, горловой смех. Совсем мужской.
Рикша следит за нами с откровенным раздражением. Достает из-за пояса
счеты, громко, демонстративно щелкает ими.
- Да вы галантны, мистер Орр! - кивает мисс Эррол. - Мое предложение
еще в силе. Чего наверняка не скажешь о вас. Присаживайтесь, в ногах правды
нет.
Я обезоружен:
- С удовольствием.
Я забираюсь в легкую повозку. Мисс Эррол, в высоких сапогах, кюлотах и
жакете из плотной, тяжелой ткани, двигается на сиденье, освобождает мне
местечко. Рикша уже не только щелкает, но и возбужденно говорит, и
жестикулирует. Эбберлайн Эррол отвечает на таких же повышенных тонах и
энергично машет рукой.
Юноша отпускает оглобли (новый громкий щелчок) и скрывается в кафе
возле мощенной деревом дороги.
- Пошел за напарником, - объясняет мисс Эррол. - В одиночку он бы нас
вез слишком медленно.
- А это не опасно? В таком тумане? - Я чувствую, как с мягкого сиденья
через ткань пальто поднимается тепло.
Эбберлайн Эррол фыркает:
- Ну что вы. - Ее глаза сейчас, в уличном освещении, скорее зеленые,
чем серые. Они сужаются, изгибается уголок красивого рта. - Это сущая
ерунда.
Рикша возвращается с подмогой, вдвоем они берутся за оглобли и рывком
увлекают нас в туман.
- Моцион, мистер Орр?
- Нет, от врача возвращаюсь.
- И как идет лечение?
- Да ни так ни сяк. У доктора новая светлая мысль - вздумал меня
гипнотизировать. Как-то я начинаю сомневаться в пользе его терапии, если это
можно назвать терапией.
Я говорю, а мисс Эррол следит за моими губами, и от этого мне и
приятно, и как-то не по себе. Через секунду она широко улыбается и переводит
взгляд на дорогу, на двух парней, бегущих перед нами, лавируя в пронизанном
светом фонарей тумане, заставляя встречных шарахаться с нашего пути.
- Мистер Орр, человек должен во что-то верить, - говорит мисс Эррол.
- Хм... - мычу я, тоже на какой-то миг захваченный нашей лихой ездой в
условиях недостаточной видимости. - А мне кажется, было бы разумней
сосредоточиться на моих поисках.
- Поиски, мистер Орр?
- Да. Наверное, вы тоже ничего не слышали о Третьей городской
архивно-исторической библиотеке?
Она отрицательно качает головой:
- Нет, к сожалению.
Рикши предостерегающе кричат. Мы резко огибаем стоящего посреди дороги
старика, проносимся меньше чем в футе от него. Коляска кренится, меня
прижимает к мисс Эррол, затем коляска выпрямляется.
- Похоже, о ней мало кто слышал, а кто слышал, тот не нашел.
Мисс Эррол пожимает плечами, щурится, глядя в туман.
- Такое случается, - серьезно говорит она. И поворачивает голову, чтобы
взглянуть на меня. - Это и есть главная цель ваших поисков, мистер Орр?
- Нет, я хочу побольше узнать о Королевстве и о Городе. О том, что
лежит за мостом...
Я слежу за ее лицом, но она, похоже, сосредоточилась на тумане и
дороге. Я продолжаю:
- Но для этого полезно было бы попутешествовать, а я в этом отношении
связан по рукам и ногам.
Она снова поворачивает голову ко мне. Ее брови приподняты.
- Ну а мне путешествовать не в диковинку, - говорит она. - Может
быть...
- Дорогу! - вскрикивает наш первый рикша.
Мы с Эррол дружно поворачиваем головы и видим прямо перед собой
портшез, стоящий на деревянном настиле и целиком перегораживающий узкую
улочку. Его носильщики держат в руках обломки рукоятей. Оба отскакивают.
Наши парни пытаются тормозить, бороздят пятками доски, но препятствие уже
слишком близко. Коляска сворачивает, и нас угрожающе кренит. Мисс Эррол
выбрасывает руку влево, мне на грудь. Я оцепенело гляжу вперед, а повозка
подскакивает, с душераздирающим скрипом наклоняется вбок и летит прямиком на
портшез. Мою спутницу бросает ко мне; крыша повозки косо дыбится и бьет меня
по голове. На мгновение туман прорезает расплывчатая вспышка - и гаснет.
- Мистер Орр, мистер Орр? Мистер Орр?
Я открываю глаза. Я лежу на досках. Кругом все очень серое и
незнакомое, толпятся какие-то люди, глядят на меня. Надо мной склонилась
молодая женщина с припухлыми глазами и длинными темными волосами.
- Мистер Орр!
Я слышу гул авиационных двигателей. Я слышу нарастающий шум
пропеллеров. Самолеты летят в расстелившемся над морем тумане. Словами
просто не передать, до чего я расстроен. Я лежу и слушаю и пытаюсь
определить, в какую сторону они летят (это кажется исключительно важным).
- Мистер Орр!
Гул стихает. Я жду, когда из слабо шевелящегося тумана появятся
расплывчатые буквы бессмысленного дымового послания.
- Мистер Орр?
- Да? - Голова идет кругом, уши издают свел собственный шум - как шум
водопада.
Вокруг туманно, горят огни, словно мазки восковым мелком на серой
бумаге. Посреди улицы валяются разбитый портшез и изувеченная двуколка. В
стороне спорят два наших рикши и несколько незнакомых мужчин. Рядом со мной
на коленях стоит молодая женщина, она очень красива, но у нее течет кровь из
носа, на верхней губе собираются красные капли, и я вижу, что она уже
вытирала кровь: на левой щеке остался след. Изнутри меня наполняет теплое
сияние, похожее на свет маяка в тумане, - я понимаю, что знаком с этой
женщиной.
- О, мистер Орр! Простите меня! Вы целы?
Она шмыгает носом и снова вытирает кровь с верхней губы. Ее глаза
блестят в рассеянном свете, но я думаю, что это не от слез. Ее зовут
Эбберлайн Эррол, я уже вспомнил. Мне казалось, вокруг целая толпа - но
никого нет, лишь она. Из тумана возникают какие-то люди, глазеют на следы
аварии.
- Со мной все хорошо, просто великолепно. - Я сажусь.
- Вы уверены? - Мисс Эррол привстает, но только для того, чтобы
опуститься на корточки. Я киваю и ощупываю голову. Вроде висок побаливает,
но крови нет.
- Уверен, - отвечаю.
На самом деле мне все кажется слегка отдаленным, но головокружения и
слабости я не чувствую. Да и сознание достаточно ясное, чтобы я догадался
сунуть руку в карман и предложить мисс Эррол носовой платок. Она его берет и
прикладывает к носу.
- Спасибо, мистер Орр, - благодарит она, не отнимая от носа белую
ткань.
Парнишки-рикши и носильщики портшеза вопят, переругиваются, машут
руками. Толпа зевак все растет. Я с помощью девушки поднимаюсь на дрожащие
ноги.
- Правда-правда, я целехонек. - На время в моих ушах снова появляется
рев, потом постепенно стихает.
Мы подходим к покалеченным транспортным средствам. Мисс Эррол глядит на
меня и говорит через платок, отчего голос получается насморочным:
- А как ваша память? Не проснулась от такого удара по голове?
Я осторожно качаю головой, а мисс Эррол заглядывает в коляску, вынимает
тонкий кожаный атташе-кейс и смахивает с него пыль.
- Нет, - отвечаю, подумав. Я бы нисколько не удивился, обнаружив, что
после столь мощной встряски еще больше забыл. - А вы? С вами все в порядке?
Ваш нос...
- Чуть-чуть кровоточит, - кивает она, - но не сломан. Еще несколько
синяков, но в целом дешево отделалась. - Она кашляет и сгибается чуть ли не
в три погибели; я не сразу понимаю, что это опять смех. Отсмеявшись, резко
встряхивает головой: - Простите, мистер Орр, это я во всем виновата. Обожаю
быструю езду. - Она поднимает атташе-кейс. - Папа в соседней секции, это его
чертежи, он их ждет. Я и решила: хороший предлог, чтобы с ветерком
прокатиться. Может, на поезде и быстрее, но... Извините, мне и правда надо
ехать. Если вы уверены, что целы, то я вас здесь оставлю, а сама поднимусь
лифтом наверх и там сяду в поезд. А вам лучше отдохнуть. Тут рядом бар, я
угощу вас кофе.
Протестую, но сейчас я слишком беспомощен. Меня отводят в кафе. С
минуту мисс Эррол скандалит на улице с носильщиками портшеза и рикшами,
затем поворачивается: из тумана позади нее с визгом клаксонов появляется
новый рикша. Она бросается к этому пареньку, что-то быстро ему говорит,
возвращается в бар, где я прихлебываю кофе.
- Ничего, наняла другую коляску. - Она запыхалась. - Надо ехать. - Мисс
Эррол отнимает от лица окровавленный платок, смотрит на него, шмыгает носом
на пробу, заталкивает платок в глубокий карман кюлотов. - Потом верну, -
обещает. - Уверены, что вам не надо в больницу?
- Да.
- Тогда до свидания. Еще раз простите. И будьте осторожны. - Она
пятится, машет мне, потом быстро выходит на улицу, щелкает пальцами рикше.
Еще один - прощальный - взмах руки, и мисс Эррол исчезает в тумане.
Подходит бармен, чтобы снова наполнить мою чашку.
- Молодежь... - улыбается он и укоризненно качает головой.
Интересно, кто же тогда я в его глазах? Почетный пенсионер? Впрочем,
поглядев в зеркало за стойкой бара, я понимаю, в чем тут дело. Я уже готов
объяснить вслух причину своей непрезентабельности, но тут с улицы, как
безумные, бибикают каблуки, и мы с барменом дружно поворачиваемся к окну.
Снова возникает только что нанятая мисс Эррол коляска, резко тормозит и
разворачивается у самой двери. В проеме показывается темноволосая голова.
- Мистер Орр!
Я машу рукой. Похоже, новый рикша уже злится. Двое предыдущих и
носильщики портшеза оторопело внимают.
- Это насчет путешествий. Я дам о себе знать, ладно?
Я киваю. Кажется, мисс Эррол удовлетворена. Она откидывается на спинку
сиденья и щелкает пальцами. Коляска снова срывается с места. Мы с барменом
переглядываемся.
- Наверное, боженька чихнул, когда вдыхал жизнь в это создание, -
ухмыляется он. Я киваю и пью кофе, разговаривать не хочется. Он возвращается
к своему привычному занятию - мытью стаканов.
Я изучаю в зеркале напротив, над гордым строем стаканов и красочными
рядами бутылок, свою бледную физиономию. Соглашаться на гипноз или не
соглашаться? Кажется, меня уже загипнотизировали.
Еще какое-то время сижу в кафе, прихожу в себя. С улицы уже унесли
портшез и двуколку, а туман никуда не делся, наоборот, он теперь еще гуще.
Покидаю кафе и сажусь в лифт, потом еду на поезде, потом снова на лифте, и
вот я дома. Там меня ждет посылка.
Инженер Буч возвратил мою шляпу, присовокупив к ней сопроводительную
записку с пространными извинениями. В них много выспренности, но мало
оригинальности и еще меньше грамотности. Даже фамилию мою он написал с
ошибкой: "Ор".
Зато шляпу привела в порядок рука опытного чистильщика. Страдалица
пахнет освежителем и выглядит новей, чем перед моим походом в "Дисси
Питтон". Я выношу ее на балкон и швыряю с размаху, и она улетает в серый
туман по нисходящей кривой, быстро, бесшумно и гордо, словно в невидимых
отсюда серых водах ее ждет какая-то почетная и важная миссия.
Мне вовсе не обязательно тут торчать я вообще блин куда угодно могу
сквозануть.
Тут в моем разуме в моем мозгу в моем черепе (и все кажется таким оч-)
нет (нет, потому что "все это кажется сейчас таким очевидным" - клише, а у
меня вжившаяся, въевшаяся, впитанная с материнским молоком ненависть к клише
(и кликам, и кличам). Кстати, насчет кличей - это я так, провожу точку (бред
с точки зрения математики, ведь если проводить точку, получишь линию, и
какая тогда, к чертям собачьим, точка?). В смысле, что это за точка, дьявол
ее побери? Где это я, о чем? (Дьявол побери и эти огни, и эти трубы, и все
это верчение-кручение, и все эти уколы-приколы, и вообще, трудно ли тут
сбиться с толку напрочь?
Обратная перемотка. Раньше, в начале, была проблема идентификации
разума-мозга. Ага! Га-га-га! Никакой проблемы (ф-фу-ух, как я рад, что все
уладилось!), разумеется, никакой проблемы, они же совершенно одинаковы и
абсолютно разные; я имею в виду че ежли твоя долбаная мозга не сидит в твоей
долбаной черепухе где еще нахрен ей сидеть? Или, может, вы из этих идиотов,
религиозных фанатиков?
(Тихо:) Нет, сэр.
Да уж конечно, "нет сэр". Окоп видите?
А насчет проведения точки - это стопроцентный верняк, точняк, хуяк, и в
яблочко, и я сим охеренио горд. Чего ж это я все ругаюсь-то? Пардон. Просто
я сейчас, видите ли, нахожусь под мощнейшим прессингом (точно сиська в
тигриных клыках // точно писька в железных тисках). В жизни у меня не все
благополучно, и я могу это доказать, позвольте только отмотаю...
Доставлен в больницу бригадой "скорой помощи". Над головой - огни.
Громадные белые звезды в небе. Быстрей на операцию, ситуация критическая,
о-ля-ля-ля, бля-бля-бля (а то она когда-нибудь не была для меня
критической?), состояние пациента стабильное (если чесна до миня это тока
натчало д'хадить). Быстрая перемотка вперед, т-р-р-р.
...Э народ вот че раз не хочете знать про мои пр'блемы (а уж мине-то
ваши точна до звизьды) так можа я свово др'гана пердьставлю эта мой старый
корефан чувак с децтва прашу любить и
Столица-призрак...
да не гони ты. Я уже гаварил мы с етим чупаком д'вно кореша и я ему
хочу дать наст'ящий
Столица-призрак. Настоящий город из...
Ну все все да па-аш'л ты валяй ...к'зел.
Столица призраков. Настоящий город из камня разных пород, серое царство
переулков и сквозняков. Город вперемежку стар и нов, будничен и праздничен.
Это громадный каменный пень между рекой и холмами. Замерзший поток времени,
истрескавшийся слиток самой материи древности.
Он остановился на Сайеннес-роуд - не по чьему-то совету, просто
название понравилось. Вдобавок отсюда было близко и до университета, и до
института. И даже, если прижаться лицом к оконному стеклу в холодной комнате
с высоким потолком, можно увидеть краешек Утесов - коричнево-серых складок
над шиферными крышами и городским дымом.
В памяти навсегда осталось чувство свободы, испытанное в том, первом,
году. Сам себе хозяин, что хочешь, то и делаешь. Впервые у него была
собственная комната и собственные деньги, и можно было их тратить по своему
усмотрению. Покупать еду, какая нравится, ходить, куда ноги несут, и вообще
распоряжаться собственной судьбой. Это было просто классно.
Его родной дом остался на западе страны, в ее промышленном сердце,
которое уже страдало аритмией, зарастало дурным жиром, испытывало
энергетический голод, наполнялось шлаками и угрожало вот-вот разорваться.
Вместе с ним жили мама и папа, братики и сестренки. У них был дом,
оштукатуренный с каменной крошкой, и клочок земли у подножия низкого холма.
Оттуда было рукой подать до паровозных дымов и увенчанных паровыми флажками
труб над депо, там работал его отец.
Еще отец держал на пустыре голубей. Соседи тоже понаставили там
голубятен, не меньше десятка. Сооружения эти все были высокие, бесформенные,
и места для них выбирали наобум, и строили их из ржавой жести, а красили
дешевым битумом. Летом он приходил туда помочь отцу или просто поглядеть на
воркующих птиц; на голубятне было очень жарко, и куда ни ткнись - всюду
перья. Но зато сумрачная клетушка, остро пахнущая голубями, казалась уголком
какого-то иного, таинственного мира.
В школе у него дела шли неплохо, хотя учителя говорили, что он мало
старается. Он облюбовал историю, всегда имел по ней пятерки, и этого ему
хватало. Если надо будет напрячься - он прибавит оборотов. Пока же он играл,
читал, рисовал и смотрел телевизор.
Отец получил тяжелую травму в депо и полтора года пролежал в койке.
Мать пошла работать на сигаретную фабрику, а старшие сестра и брат уже
достаточно выросли, чтобы присматривать за остальными детьми. Отец наконец
поправился, правда стал нервным и вспыльчивым, мать же перевели на неполный
рабочий день, а через несколько лет уволили по сокращению штатов.
Он любил папу, пока не стал немного стыдиться его, а заодно и всей
своей семьи. Отец интересовался только футболом и получкой, у него были
старые записи Гарри Лодера, и нескольких оркестров волынщиков, и он мог
прочитать наизусть с полсотни самых известных стихотворений Бернса.
Естественно, он был лейбористом, преданным навеки, но всегда настороже -
знаем мы этих политиканов, у всех у них, мол, рыльце в пушку. Он утверждал,
что ни разу не выпил больше стопака в компании тори, за возможным
исключением отдельных кабатчиков, которых он, дабы не подорвать авторитета
социалистического дела, предпочитал считать консерваторами, в крайнем случае
либералами. Либералов он полагал людьми серыми, заблуждающимися, но, в
сущности, безвредными. Он был мужик как мужик. Никогда не уходил от драки,
всегда был готов пособить другу-пролетарию, на футболе надрывал глотку, в
кабаке не оставлял кружку недопитой.
Мать в сравнении с отцом казалась бледной тенью. Она была рядом с
мальчиком, когда он в ней нуждался, стирала ему одежду, расчесывала ему
волосы, покупала ему разные вещи и обнимала, если он разбивал коленку. Но
как личность он ее так и не узнал.
С братьями и сестрами он ладил неплохо, но все они были старше (уже
почти взрослым он узнал, что родители его, позднего ребенка, не хотели) и
успели вырасти, прежде чем он достиг возраста, когда детям нужны товарищи
для игр. Родня его то терпела, то баловала, то шпыняла - в зависимости от
настроения. Он считал, что ему приходится нелегко, и завидовал детям из
малочисленных семей, но со временем понял, что все-таки чаще его прощают и
балуют, чем обижают и шугают. Ведь для папы и мамы он был их кровинкой,
родным сыночком. Причем талантливым - они бурно восторгались, когда он
правильно отвечал на вопросы телевикторин раньше участников. А еще гордились
его оценками в школе и даже немного удивлялись тому, что он прочитывает в
неделю две-три библиотечные книги. Они недолго улыбались, а потом долго
хмурились, когда он показывал школьный табель. Не обращали внимания на
четверки и даже тройки с минусом, но грозно стучали пальцем по двойкам (за
ЗБ - Закон Божий; не передать словами, в каком смятении ума он пребывал в те
годы - ведь отец был атеистом, но не спускал своим детям плохих оценок по
любому школьному предмету, и по ФК - он ненавидел физкультурника, который
платил той же монетой).
Потом родовое гнездо опустело, птенцы оперились и разлетелись кто куда.
Девицы вышли замуж, Сэмми забрали в армию, Джимми эмигрировал... Пожалуй,
удачливей всех оказалась Мораг, выйдя за менеджера по продаже оргтехники и
уехав в Берсден. Постепенно, за годы, он со всеми утратил связь, но не забыл
о том, какой спокойной, почти уважительной гордостью сквозили их
поздравления, телефонные, почтовые или при личной встрече. Вся семья
радовалась, когда его приняли в университет, хоть и удивлялась, что он
предпочел геологию, а не английскую филологию или историю.
Но в том году всеми его чувствами владел большой город. Глазго
находился слишком близко от его дома, "западная столица" оставила слишком
много детских воспоминаний, связанных с визитами к тетям и бабушкам. Это
была часть его жизни, часть его прошлого. Зато старая столица, город Эдвина,
Эдинбург, явилась для него новой чудесной страной. Эдем в полном расцвете,
Эдем до грехопадения, Эдем перед своим долгожданным прощанием с формальной
невинностью.
Здесь даже воздух казался другим, хоть дом и находился в каких-то
пятидесяти милях. Дни были изумительно солнечными, по крайней мере в ту
первую осень, и даже ветры с туманами были желанными; зной и холод он сносил
с радостью, с тщеславным стоицизмом, как будто все это специально для него -
закалка, тренировка, подготовка к главному.
Всякий раз, когда выдавалось свободное время, он знакомился с городом,
гулял пешком, ездил на автобусах, забирался на холмы и спускался по
лестницам, присматривался и запоминал. Он изучал кладку, планировку зданий и
иные архитектурные тонкости с тем же неуемным азартом, с каким
новоиспеченный помещик осваивает угодья. Он стоял на иззубренном
вулканическом останце, щурил глаза на ветру, вдыхал соленый аромат Северного
моря и охватывал взглядом городские просторы. Он прорывался через завесу
жалящего ливня, блуждал в заброшенных доках и прохаживался по морской
набережной; он петлял среди хаотичных нагромождений старых кварталов,
следовал четкой геометрии новых, в уютном тумане проходил под мостом
Дин-бридж, обнаружил в черте города настоящую деревню, и в ней еще теплилась
жизнь. Он шагал по знаменитой бурлящей улице в солнечные субботы, улыбался
укоренившемуся на скале замку, и его свите из колледжей и конторских зданий,
и замшелой куртине из жилых домов, что тянулась вдоль базальтового
позвоночника холма.
Он затеял сочинять стихотворения и песни; он насвистывал мелодии, ходя
по университетским коридорам.
Он познакомился со Стюартом Маки, невысоким, узколицым, спокойным и
рассудительным абердинцем, тоже студентом геофака. Они с друзьями решили
сделаться "альтернативными геологами" и прозвали себя рокерами. Они пили
пиво в "Юнионе" и пабах на Роуз-стрит и Ройал-майл, они курили анашу, а
кое-кто баловался и ЛСД. В ту пору магнитофоны исторгали "White
Rabbit"<"Белый кролик" (англ.)> и "Astronomy Domine".
И как-то вечером в Тринити он наконец лишился формальной невинности с
юной медсестрой из "Вестерн дженерал", чье имя забыл уже на следующий день.
С Андреа Крамон он познакомился в "Юнионе". В тот вечер он был со
Стюартом Маки и еще несколькими рокерами. Друзья ушли не попрощавшись,
отправились на Дэньюб-стрит, в популярный бордель. Потом оправдывались, мол,
засекли, что цыпа с гранитно-красными кудрями положила на него глаз, и
решили не обламывать другу кайф.
Андреа Крамон была коренная эдинбурженка, жила в полумиле от
родительского дома, величавого особняка, из тех, что окружают Морзй-плейс.
Она носила психоделические наряды, у нее были зеленые глаза, выдающиеся
скулы, "лотос-элан", четырехкомнатная квартира на Камли-бэнк, неподалеку от
Куинсферри-роуд, две сотни дисков и казавшийся неисчерпаемым запас денег,
шарма, ливанского каннабиса и сексуальной энергии. Он влюбился в нее чуть ли
не с первого взгляда.
При первой встрече, в "Юнионе", они разговаривали о реальности и
нереальности, о психических болезнях (она недавно прочла Лейнга), о роли
геологии (это уже его вклад в беседу), о новых французских фильмах (ее), о
стихах Т. С. Элиота (тоже ее), о литературе вообще (в основном - ее) и о
Вьетнаме (обоих). В тот вечер ей надо было ехать к родителям - у отца завтра
день рождения, а в семье есть традиция праздничным утром за завтраком вместе
пить шампанское.
Через неделю они едва не столкнулись друг с другом на верхней площадке
Уэйверли-степс. Он шел к вокзалу, чтобы поехать домой на выходные, а она
решила повидаться с друзьями, но сначала пройтись по магазинам и купить
что-нибудь к Рождеству. Они зашли в бар промочить горло, и промочили
неоднократно, а потом она пригласила его к себе домой - дернуть по косячку.
Он позвонил соседу, попросил, чтобы тот звякнул его родителям и предупредил,
что он задержится.
У нее дома нашлось виски. Они слушали пластинки "стоунзов" и Дилана;
они сидели на полу перед шипящим газовым камином, а за окнами сгущалась
тьма, и через некоторое время он поймал себя на том, что гладит ее длинные
рыжие локоны, а потом целует ее. Он снова позвонил соседу и сказал, что ему
надо дописывать курсовую и в эти выходные он к родителям приехать не сможет.
А она позвонила ждавшим ее друзьям и объяснила, что ей никак не вырваться к
ним на вечеринку. И выходные они провели в постели и перед шипящим газовым
камином.
И только через два года он признался, что издали заметил ее в толпе на
Норт-бридж, дважды прошел мимо и дважды вернулся, прежде чем намеренно
столкнулся с ней на лестнице; она была погружена в свои мысли и не смотрела
по сторонам, а он очень стеснялся и не мог остановить ее без какого-нибудь
предлога. Она рассмеялась.
Они выпивали, курили план, и занимались постельной акробатикой, и пару
раз вместе закидывались кислотой. Она поводила его по музеям и картинным
галереям и даже затащила в родительский дом. Ее отец был адвокатом -
высокий, седой, респектабельный, с зычным голосом и очками с линзами в форме
полумесяца. Мать Андреа Крамон была моложе мужа - седеющая матрона, но
элегантная и высокая, как ее дочь. Был старший брат, цивил цивилом, тоже
юрист. А еще Андреа окружало множество школьных друзей и подруг. Именно
из-за них он и застыдился своей родни, серого детства, акцента жителя
западного побережья и даже некоторых слов, укоренившихся в его речи чуть ли
не с рождения. Из-за этих людей он казался себе неполноценным, пусть не по
уму, но по воспитанию, словно кондовая деревенщина среди лощеных горожан. И
он начал постепенно меняться, он примеривал на себя разные личины и стили
поведения, искал среди них самые подходящие, самые близкие и ему, и тем, для
кого все это делалось. Он не изменял своему происхождению, воспитанию,
убеждениям, но был верен и всему тому, чем жила и дышала тогдашняя молодежь:
поветрию вселенской любви, надеждам на реальные перемены, на мир во всем
нашем говенном мире, жгучему желанию исцелить этот мир от безумной
алчности... Все это сплавлялось с его личной основополагающей верой: в
достижимость и податливость земли, окружающей среды, да вообще всего на
свете.
Но как раз эта вера и не давала ему полностью принять все остальное.
Одно время ему казалось, что мировоззрение отца слишком ограниченно,
втиснуто в узкие рамки географии, истории и классовой принадлежности. Друзья
Андреа были чересчур амбициозны, ее родители - чересчур самодовольны, а
Поколение Любви (он уже это чувствовал, хотя признать было нелегко) -
чересчур наивным.
Он верил в науки: математику и физику. Он верил в логику и постижимость
мира, в причину и следствие. Он любил элегантность и прозрачную
объективность научной мысли, которая начиналась словом "допустим", но затем
без каких-либо предрассудков и предубеждений выстраивала в определенную
цепочку твердые факты и получала неоспоримый вывод. Тогда как почти всякая
религиозная мысль начиналась с властного "верь", твердила этот императив на
каждом шагу и им же заканчивалась, и такое бездумное, упрямое вдалбливание
могло рождать лишь образы страха и угнетенности, подчинения чему-то
непостижимому в принципе, слепленному из бессмыслицы, призраков и древних
химер.
В том, первом, году не обошлось без проблем: он со страхом открыл, что
ревнует, когда Андреа спит с кем-нибудь другим. Он проклинал свое
воспитание, упорно внушавшее ему, что мужчине и положено ревновать, а
женщине непозволительно трахаться на стороне в отличие от мужчины. Он
спрашивал себя, не должен ли он, как порядочный, переселиться к Андреа или
снять квартиру, чтобы жить вместе с ней. И даже предложил, но разговор ни к
чему не привел.
То лето ему пришлось провести на западе страны. Он работал в
департаменте жилищно-коммунального хозяйства, сметал опавшую листву и
собачий кал с улиц Вест-Энда. Андреа была за границей, сначала с семьей в
вилле на Крите, а потом в Париже, гостила в семье какого-то своего друга.
Но, к его удивлению, в начале следующего учебного года они снова были
вместе, и все пошло почти как прежде.
Он надумал уйти с геологического. Но на ниве английской литературы и
социологии топталось, по его мнению, слишком уж много народу, и он решил
переключиться на что-нибудь полезное. Перевелся на факультет промышленного
дизайна. Кое-кто из друзей Андреа уговаривал его заняться английской
филологией, потому что о литературе он знал, казалось, все. Он научился умно
говорить о ней, а не просто получать удовольствие от чтения, а еще он писал
стихи. В том, что об этом все прослышали, была вина Андреа. Он не хотел
публиковать свои опусы, но она нашла в его комнате исписанные листы и
послала их своему приятелю в журнал "Радикальный путь". Когда она принесла
свежий помер журнала и торжественно помахала перед его носом, он был очень
смущен, но почти в той же степени горд. Да, он твердо решил принести
реальную пользу миру. Пускай приятели Андреа называют его водопроводчиком,
он от своего намерения не отступится. Со Стюартом Маки они остались
друзьями, но связь с прочими рокерами он потерял.
Иногда на выходных они с Андреа отправлялись в другой дом ее родителей,
стоявший чуть восточнее Галлана, среди дюн на берегу залива. Дом был
большой, светлый и просторный, к тому же рядом с площадкой для гольфа. Окна
глядели на серо-синие воды, на далекий берег Файфа. Они гуляли по пляжу и
дюнам, время от времени в каком-нибудь тихом, укромном уголке занимались
любовью.
Иногда в погожие, ясные дни они уходили в дальний конец пляжа и
поднимались на самую высокую дюну. Он верил, что оттуда можно увидеть
верхушки трех длинных красных пролетов Форт-бриджа. Этот мост произвел на
него неизгладимое впечатление, еще когда он был совсем малышом. Вдобавок
мост был того же цвета, что и ее волосы, о чем он повторял ей неоднократно.
Но моста они оттуда так и не увидели.
Она сидела, скрестив ноги, на полу, водила по длинным густым рыжим
локонам щеткой. Ее синее кимоно отражало свет камина. Чистые, еще не
высохшие после ванны лицо, ноги и руки тоже отливали желто-оранжевым. Он
стоял у окна, смотрел в заполненную туманом ночь. Ладони, точно оправа
водолазной маски, были приставлены к щекам, нос прижат к холодному стеклу.
- О чем задумался? - спросила она.
Он молчал некоторое время, затем отстранился от окна, задернул
коричневую бархатную штору, повернулся к Андреа и пожал плечами:
- Сплошной туман. Доехать-то можно, но ломает. Может, останемся?
Она медленно расчесывала волосы - рукой отводила пряди от наклоненной
головы и терпеливо, осторожно продирала сквозь них щетку. Он почти слышал,
как бродят мысли в ее голове. Был воскресный вечер. Надо бы запереть дом на
взморье и возвращаться в город. Утро выдалось туманное, и они весь день
ждали, когда развиднеется. Но туман только сгущался. Она позвонила
родителям. Оказалось, что, если верить метеоцентру, туман и в городе, и над
всем восточным побережьем. И ехать-то от Галлана всего миль двадцать, но при
такой паршивой видимости это долгий путь. Андреа очень не любила ездить в
тумане, а он, по ее мнению, водит слишком быстро, при любой погоде (на права
он сдал - на ее машине - всего полгода назад и любил быструю езду). В этом
году две ее подруги попали в аварию, обе легко отделались, но факт остается
фактом. Он знал, что она суеверна: непруха любит троицу и все такое. И ее
вдобавок просто не тянет возвращаться, хотя завтра утром у нее семинар.
Над поленьями в широком зеве камина играл огонь. Она медленно кивнула:
- Идет. Только я не знаю, хавка-то осталась?
- По фиг хавка. Дернуть-то есть чего? - спросил он, садясь рядом,
наматывая на палец прядь ее волос и ухмыляясь.
Она стукнула его по лбу тыльной стороной ладони:
- Наркот!
Он замяукал, повалился на пол, потерся головой о ковер. Видя, что это
не возымело действия - она по-прежнему спокойно расчесывала волосы, - сел
опять, спиной к ножкам кресла. Посмотрел на старую радиолу:
- Хочешь, опять "Wheels of Fire"<"Огненные колеса" (англ.)>
поставлю?
Она отрицательно покачала головой:
- Не-а...
- "Electric Ladyland"<"Электрическая страна женщин" (англ.)>, -
предложил он.
- Лучше что-нибудь старенькое. - Она погрустнела, глядя на складки
коричневых бархатных штор.
- Старенькое? - Он изобразил отвращение.
- Ага. Есть "Bringing It All Back Home"?<"Все возвращая домой"
(англ.)>
- А, Дилан... - Он потянулся и провел пальцами по своим
длинным волосам. - Кажись, не захватили. Хотя - гляну. - (Они привезли с
собой целый чемодан пластинок.) - Гм... фигушки, пролет. Еще какие будут
предложения?
- Сам выбери. Из старенького. У меня ностальгия по добрым старым
временам. - Она рассмеялась.
- Это сейчас добрые старые времена.
- Когда Прагу давили танками, а Париж - нет, ты совсем по-другому пел,
- упрекнула она.
Он глубоко вздохнул, глядя на потрепанные конверты дисков:
- Да, знаю.
- И когда избрали этого милашку Никсона, ты тоже совсем по-другому пел,
и когда мэр Дейли...
- Все, все. Что поставить-то?
- Ну пусть будет снова "Ladyland", - вздохнула она.
3азвучала музыка.
- Хочешь, съездим поедим? - спросила она.
Голода он вроде бы не чувствовал. Как и искушения покинуть уют
загородного дома, нарушить интим. Да и эти посиделки в кафе... Неудобно,
ведь платила каждый раз Андреа.
- Да ладно... - пробурчал он, наклонился и сдул пыль с иглы под тяжелым
бакелитовым тонармом. Он уже перестал шутить насчет этой старой радиолы.
- Посмотрю в холодильнике, может, осталось что-нибудь. - Она поднялась
с пола, оправила кимоно. - И в сумке вроде есть заначка.
- Во, ништяк! - обрадовался он. - Щас кайфовый косячок забью!
В тот день она позвонила родителям, обещала вернуться завтра. Потом они
играли в карты. Потом она взялась ему погадать и достала колоду Таро. Она
интересовалась Таро, астрологией, солнечными знамениями и пророчествами
Нострадамуса. Всерьез ни во что такое не верила, просто любопытствовала. Он
считал, что это еще хуже, чем безоглядно верить в такие вещи.
Своими подковырками он ее наконец разозлил. Она плюнула и уложила карты
в коробку.
- Я просто хочу разобраться в том, как это действует, - попытался он
объяснить.
- Зачем?
Она вытянулась рядом с ним на кушетке, взяла конверт от пластинки, на
котором только что раскладывала карты.
- Зачем? - рассмеялся он. - Да затем, что это единственный способ
проникнуть в суть явления. Во-первых, действует эта фигня или нет. А
во-вторых, если действует, то каким образом?
- Милый, а тебе не приходило в голову, - лизнула она краешек
прямоугольника папиросной бумаги, - что, может быть, не все на свете
поддается рациональному объяснению? И не все на свете можно перевести на
язык математических уравнений?
Эту тему они мусолили регулярно: что важнее, логика или чувства. Он
верил во что-то вроде единой теории поля применительно к сознанию. Все
поддается анализу: и эмоции, и чувства, и логическое мышление. И как ни
противоречивы составные части, как ни разнятся гипотезы и результаты -
действуют они по одним и тем же фундаментальным принципам. Все на свете
удастся постигнуть, это лишь дело времени и кропотливого труда
исследователей. И это казалось таким самоочевидным, что понять чужую точку
зрения бывало порой выше его сил.
- А знаешь, - сказал он, - если бы от меня зависело, я бы запретил
всем, кто верит в астрологию, Библию, чудесное исцеление и прочую
хиромантию, пользоваться электричеством, автомобилями, поездами, и
самолетами, и пластмассовыми вещами. Мракобесы втемяшили себе в башку, что
вселенная живет по их кретинским законам. Это их дело, пусть тешат себя
иллюзиями. Но как они тогда, блин, смеют прикасаться к плодам чистого
человеческого гения, к тому, чего ценой тяжкого труда добились люди
несравненно лучше их? Да кто возьмется перечислить все те вещи, которых
сейчас не было бы вокруг нас, если бы не нашлись люди здравомыслящие и
упорные... Да хватит стебаться!
Он посмотрел на нее со злостью. Она беззвучно смеялась, не донеся до
губ очередную бумажку, розовый язычок вибрировал. Она повернула к нему
голову, блеснула глазами и протянула руку:
- Ты такой смешной иногда...
Он взял ее руку, церемонно поцеловал:
- Мадам, я счастлив, что сумел вас позабавить.
Но ему вовсе не казалось, что он ляпнул смешное. Почему же она слушает
и потешается? Он был вынужден признать, что никогда не понимал ее до конца.
Он вообще не понимал женщин. И мужчин. И даже дети оставались для него
загадкой. По-настоящему он понимал (или ему это казалось) только себя - и
остальную вселенную. Естественно, и себя, и вселенную он понимал не до
конца, однако все же достаточно, чтобы полагать: всему непознанному со
временем найдется объяснение, найдется место - как в картинке-головоломке,
только без конца и без края. В бесконечной вселенной для любого фрагмента
найдется своя дырка.
Однажды, когда он был еще совсем маленьким, папа привел его в депо. Там
ремонтировались локомотивы. Папа всюду водил его, показывал, как разбирают и
собирают, скоблят и моют громадные паровозы. И ему запомнилось, как один из
них проверяли на холостом ходу. Локомотив ревел на полной мощности, и под
ним выла шеренга притопленных стальных цилиндров. Колеса высотой в
человеческий рост превратились в расплывчатые пятна, клепаный корпус дышал
жаром, в клубах пара стремительно мельтешили спицы. Поршни, рычаги,
соединительные стержни - все это вспыхивало под лучами осветительных ламп, а
дым из паровозной трубы выстреливал порциями в огромную клепаную вытяжку.
Ужасный шум, дьявольская мощь, неописуемый восторг. Он одновременно
переживал страх и экстаз, он был потрясен и благоговел перед этой
невероятной мощью, сосредоточенной в стальном механизме.
Эта сила, эта управляемая, приносящая пользу человеку энергия, этот
металлический символ всего, что может быть создано, если соединить труд,
материю и сознание, остались в нем звучать на долгие годы. Он просыпался
ночью в поту, прислушивался к своему тяжелому дыханию, чувствовал бешеное
сердцебиение и не понимал, что его разбудило: страх, восторг или и то и
другое. Увидев тот ревущий на месте паровоз, он твердо поверил лишь в одно:
нет ничего невозможного. Ему так и не удалось найти удовлетворительное
объяснение этой вере, и он даже не пытался заговаривать об этом с Андреа.
Она подала ему самокрутку и зажигалку:
- Справишься?..
Он раскурил косяк, пустил в ее сторону колечко дыма. Она засмеялась и
отогнала от своих непросохших волос зыбкое серое ожерелье.
Они докурили весь план с примесью опиума. У них была коробка пирожных,
и еще она сделала незабываемый (для него) и неповторимый (для нее) омлет, и
потом они, хихикая и посмеиваясь, пошли в ближайшую гостиницу, чтобы до
закрытия пропустить в баре по стаканчику, и потом они, хихикая и
посмеиваясь, пошли домой. По пути сначала поглаживали друг дружку, потом
обнимались, потом целовались, в конце концов перепихнулись на траве у
дороги. В тумане никто их не заметил, но было очень холодно, и поэтому они
торопились. А в двадцати футах раздавались голоса и часто мелькали лучи
автомобильных фар.
В доме они растерлись полотенцами, согрелись, и она скрутила еще
косячок, а он прочел оказавшуюся на журнальном столике газету полугодичной
давности и посмеялся над событиями, которые кому-то казались тогда важными.
Они забрались в постель, допили привезенный Андреа "Лафроайг", а потом
сидели и пели "Wichita Lineman"<"Путевой обходчик из Унчиты" (англ.)>,
"Ode to Billy Joe"<"Ода Билли Джо" (англ.)> и т.д., только с
переиначенными на шотландский лад топонимами, вне зависимости от того,
укладывалось в размер или нет ("Я путевой обходчик на Каунти-каунселл...",
"...И сбросил их в мутные воды с Форт-роуд-бридж...").
В понедельник он вел в тумане "лотос", надеясь добраться в Эдинбург до
ленча. Ехал медленней, чем хотелось бы ему, но быстрей, чем хотелось бы ей.
В пятницу он придумал начало стихотворения и теперь пытался сочинять прямо
за рулем. Но концовка никак не складывалась. Стихотворение было особенное -
дерзкий вызов рифмовке и любовным песенкам, ему давно осточертело это "любя
- тебя" и слюнявая околесица про верность, которая живет дольше, чем горы и
океаны (горы - взоры - разговоры, океаны - капитаны - романы)...
Леди, ваша нежная кожа, ваши кости, как и мои,
В пыль превратятся еще до рождения новой горы.
Не океаны, не реки, а разве что жалкий ручей
Высохнет прежде наших глаз и наших сердец.
Но к этим строчкам в тумане ему не удавалось добавить ничего.
Эхо эху рознь. У некоторых вещей его больше, чем у других. Иногда я
слышу последний отголосок всего того, что вообще не дает эха - потому что
звуку не от чего отразиться. Это голос полного небытия, и он с грохотом
проносится через огромные трубы - трубчатые кости моста, - как ураган, как
бздеж Господень, как все крики боли, собранные на одной магнитофонной
кассете. Да, я слышу ceй ушераздирающий, череполомный, костедробительный и
зубокрушитсльный грохот. Да и какой еще мотив способны исполнять эти
органные трубы - безразмерные, сверхпрочные, непроглядные чугунные туннели в
небесах?
Только мотив, сочиненный специально для конца света, для конца любой
жизни. Для конца всему сущему.
А остальное?
Не более чем зыбкие контуры. Рисунки из теней. Экран не серебрист, а
темен. Заставь замереть эту убогую фальшивку, если хочешь понять, что к
чему. Следи за прелестными красками: вот они неподвижны, вот снова
шевелятся. Варятся, парятся, булькают, брызгают. И скручиваются от жара, и
шелушатся - как будто разлепляются чьи-то разбитые губы, и этот образ
отступает под натиском чистого белого света (видишь, малыш, что я для тебя
делаю?).
Нет, я не он. Я всего лишь наблюдаю за ним. Это случайный встречный,
человек, которого я когда-то знал.
Думаю, я с ним еще увижусь. Позже. Всему свое время.
Сейчас я сплю, но... Да, сейчас я сплю. И этого достаточно.
Нет, я не знаю, где я.
Нет, я не знаю, кто я.
Да, конечно, я знаю: все это - сон.
А что не сон?
Ранним утром налетает ветер и разгоняет туман. Я, не разлепив толком
глаз, одеваюсь и пытаюсь вспомнить сны. Но даже не уверен, что сегодня ночью
мне что-то снилось.
В небе над водой туман медленно поднимается, открывает моему взору
серые силуэты огромных раздутых пузырей. Сколько хватает глаз, вдоль мостя
висят аэростаты воздушного заграждения.
Их, наверное, сотни. Они плавают в воздухе вровень с крышей, а то и над
нею. Частью они заякорены на островах, частью принайтовлены к траулерам и
другим судам.
Последние сгустки тумана уходят вверх, рассеиваются. Броде бы денек
будет недурной. Аэростаты слаженно колышутся в небе, напоминая даже не стаю
птиц, а скорее косяк исполинских серых китов, чьи могучие тела медленно
дрейфуют в ласковых атмосферных течениях. Я вжимаю лицо в холодное оконное
стекло, осматриваю море и горизонт, приглядываюсь под самым острым, каким
только возможно, углом к расплывчатому боку моста. Аэростаты везде,
пересекают все небо, до ближайшего каких-то сто футов, до других - несколько
миль.
Наверное, это для того, чтобы предотвратить новые авиарейды. Реакция,
как по-моему, несоразмерная угрозе.
Приподнимается заслонка над щелью для почты, на ковер падает письмо.
Это приглашение от Эбберлайн Эррол. Нынче утром она хочет порисовать на
сортировочной станции в нескольких секциях отсюда, и не соблаговолю ли я
составить ей компанию?
Похоже, и вправду денек намечается приятный.
Я вспоминаю, что надо отправить письмо доктору Джойсу, написанное после
того, как я избавился от шляпы. Пусть добрый доктор узнает, что я бы хотел
отложить сеанс гипноза. Примите мои извинения, уверяю, что буду рад в любое
время встретиться с вами и обсудить мои сны, тем более что они в последнее
время более связные, а стало быть, лучше подходящие к изначально выбранной
вами методике.
Я кладу оба письма в карман и гляжу напоследок в окно. Аэростаты
медленно покачиваются в утреннем свете, как будто это огромные швартовные
бочки плавают на какой-то невидимой снизу поверхности.
Кто-то стучит в дверь. Хотелось бы надеяться, что это ремонтник -
явился чинить телевизор, или телефон, или и то и другое. Поворачиваю ключ и
пытаюсь отворить дверь, но не тут-то было. Стук повторяется.
- Да? - спрашиваю, дергая за ручку.
- Пришел взглянуть на ваш телевизор! - отвечает с той стороны мужской
голос. - Это мистер Орр?
Я воюю с дверью. Ручка поворачивается, дверь не открывается.
- А? Мистер Дж. Орр? - кричат снаружи.
- Да, да. Подождите секундочку, никак не открыть чертову дверь.
- Хорошо, мистер Орр.
Я тяну, дергаю ручку, кручу ее, трясу. До сих пор даже ни намека не
подавала, стерва, что с ней не все ладно. Может, в этой квартире все с
полугодовым сроком годности?
Начинаю злиться.
- Мистер Орр, вы уверены, что отперли дверь?
- Да, - пытаюсь говорить спокойно.
- И тем ключом, каким положено? Уверены?
- Абсолютно! - кричу.
- Я просто на всякий случай спросил. - Голос снаружи мне кажется
насмешливым. - А вы не меняли дверь, мистер Орр?
- Нет! Нет, не менял.
- Тогда я вот что вам посоветую. Просуньте ключ в прорезь для почты, а
я попробую отпереть с этой стороны.
Он пробует. Ничего не получается. Я отхожу к окну, глубоко дышу и гляжу
на скопище аэростатов. Затем возвращаюсь и слышу невнятный разговор за
дверью.
- Мистер Орр, это телефонный мастер, - докладывает другой голос. - У
вас что-то с дверью?
- Он открыть не может, - отвечает первый голос.
- А вы точно отомкнули? - спрашивает телефонист. Дверь трясется. Я
молчу.
- А у вас тут нет другого входа? - кричит второй.
- Я его уже спрашивал, - говорит первый. Снова стук в дверь.
- Что? - спрашиваю.
- У вас есть телефон, мистер Орр? - интересуется телевизионщик.
- Ну конечно же есть! - возмущенно отвечает спец по телефонам.
- Мистер Орр, а знаете что? Позвоните в "Помещения и коридоры", там
дежурят ре...
- Да как он позвонит?!! - не может поверить своим ушам телефонист. - Я
же для чего, по-твоему, пришел? Чинить его телефон.
Я возвращаюсь к окну - пока телефонный мастер не предложил мне включить
телевизор, чтобы скоротать время.
Проходит еще час. Появляется дворник и сносит все наличники вокруг
двери. Наконец та просто щелкает без предупреждения, и он с удивлением,
переходящим в мнительность, - стоит в изувеченном проеме, посреди ломаного
дерева и дробленой штукатурки. Остальные мастера ушли по своим делам. Я
выхожу из квартиры, перешагивая через планки с согнутыми гвоздями.
- Спасибо, - говорю дворнику. Он чешет себе затылок
молотком-гвоздодером.
Я отправляю письмо доктору Джойсу, потом покупаю фрукты, это будет
что-то вроде завтрака. Из-за всех проволочек есть серьезная опасность
опоздать на свидание с мисс Эррол.
Вагон, в котором я еду, битком набит людьми, и все обсуждают появление
аэростатов. У большинства - никаких догадок, с чего бы это вдруг. Когда
трамвай выезжает из секции на малозастроенный соединительный пролет, мы все
дружно поворачиваем головы - взглянуть на баллоны. Я потрясен.
Они только с одной стороны! Вниз по течению такая прорва аэростатов,
что просто глазам не верится! Вверх по течению - ни одного. Все остальные
пассажиры таращатся и показывают пальцами на скопище аэростатов, кажется,
один лишь я обалдело гляжу в противоположную сторону, на незапятнанные
небеса. За перекрестьями балок соединительного пролета - ни единого, даже
самого захудалого аэростатишки.
- Доброе утро.
- И еще какое доброе, правда? Вам того же. Как голова?
- Голова в порядке. А как ваш нос?
- Такой же распухший. Но хоть не кровоточит. О, ваш платок.
Эбберлайн Эррол сует руку в карман жакета, достает мой платок. Он
отстиран и накрахмален до хруста.
Мисс Эррол только что прибыла на служебном путейском поезде.
Мы на сортировочной станции, это самый широкий участок моста, по
крайней мере в известных мне пределах. Некоторые запасные пути выступают на
широких платформах с кронштейнами за края основной конструкции. Огромные
локомотивы, длинные составы из разнообразных вагонов, коренастые маневровые
паровозы, хрупкие дрезины - все это шипит, лязгает и ездит вперед-назад
среди невообразимого скопища рельсов, платформ, семафоров и стрелок,
напоминая фишки в некой грандиозной медленной игре. В утреннем свете
клубится пар, в лучах не погашенных с ночи дуговых ламп на фермах витает
дым. Мельтешат люди в форме, кричат, размахивают цветными флажками, дуют в
свистки и что-то тараторят в расставленные вдоль путей телефоны.
Эбберлайн Эррол сегодня в длинной серой юбке и коротком сером жакете,
волосы убраны под кепи строгого покроя. Она здесь для того, чтобы изобразить
весь этот хаос. Ее вольные эскизы и акварели на железнодорожную тематику уже
попали в некоторые административные кабинеты и фойе, она считается
перспективным художником.
Мисс Эррол отдает мне носовой платок. В ее позе, в ее глазах что-то
необычное. Я гляжу на отстиранный платок и засовываю его в свободный карман.
Мисс Эррол улыбается, но не мне, а своим мыслям. Испытываю тревожное
ощущение, будто я что-то упустил.
- Спасибо, - говорю.
- Мистер Орр, можете понести мой этюдник. На прошлой неделе я его здесь
оставила.
Мы пересекаем несколько путей, направляясь к небольшому навесу ближе к
центру широкой, обнесенной перилами платформы. Вокруг нас медленно движутся
взад и вперед сцепленные вагоны и спаренные локомотивы, в других местах
паровозы медленно погружаются под настил - массивные платформы уносят их в
ремонтные цеха ярусом ниже.
- И что вы думаете насчет этих загадочных аэростатов, мистер Орр? -
спрашивает Эбберлайн Эррол по дороге.
- Наверное, они должны препятствовать самолетам. Хотя никак не возьму в
толк, почему только с одной стороны моста.
- Никто этого тоже не понимает, - произносит она задумчиво. - Скорее
всего очередная бюрократическая путаница. - Она глубоко вздыхает. - Даже мой
отец ничего об этом не слышал, а он обычно очень хорошо информирован.
Под навесом она отыскивает свой этюдник, и я переношу его к указанному
мне наблюдательному пункту. Судя по всему, объектом изображения мисс Эррол
выбрала громоздкий подъемник для локомотивов. Она устанавливает этюдник,
рядом с ним - складной стульчик; раскрывает сумку, и я вижу баночки с
красками и набор карандашей, угольков, восковых мелков. Она задумчиво
смотрит на них и выбирает длинный уголек.
- Никаких новых последствий нашей маленькой аварии, мистер Орр? -
интересуется она и проводит черту на сероватой бумаге.
- Устойчивая нервозность при звуках бегущего рикши, а больше ничего.
- Надеюсь, это лишь временный симптом. - Она меня одаривает совершенно
сногсшибательной улыбкой и снова поворачивается к мольберту. - Помнится, мы
говорили о путешествиях, прежде чем нас так грубо прервали. Не правда ли?
- Да, и я как раз хотел спросить, как далеко вам приходилось ездить.
Эбберлайн Эррол добавляет к линии несколько кружков и дужек.
- До университета, - отвечает она, быстро рисуя несколько
пересекающихся штришков. - Это примерно... - Она пожимает плечами: - Сто
пятьдесят... двести секций отсюда. В сторону Города.
- А вы... случайно, не видели оттуда землю?
- Землю, мистер Орр? - оборачивается она ко мне. - Боже, да вы
амбициозны. Нет, землю я не видела, если не считать обычных островов.
- Так вы считаете, Королевства не существует? И Города?
- Ну что вы! Надеюсь, они где-то есть. - И рисует новые линии.
- И у вас никогда не возникало желания взглянуть на них?
- Не могу утверждать, что возникало. По крайней мере, с тех пор, как
мне расхотелось стать машинистом.
Она выбирает на бумаге участок и начинает его затенять. Я вижу
изгибающуюся сводом шеренгу иксов, слабые контуры окутанных облаком секций.
Рисует она быстро. На фоне ее бледной изящной шеи - несколько выбившихся
из-под кепи черных завитков, словно вычурные буквы незнакомого алфавита на
кремовой бумаге.
- Видите ли, - говорит она, - когда-то я была знакома с инженером,
причем высокопоставленным. Так вот, он считал, что мы живем вовсе не на
мосту, а на одинокой громадной скале в центре непроходимой пустыни.
- Хм... - говорю, не зная, как еще на это реагировать. - Возможно, для
каждого из нас это что-то иное? А вам что видится?
- То же, что и вам, - на миг поворачивается она ко мне. - Обалденно
здоровенный мостище. А что, по-вашему, я тут изображаю?
- Оскорбленную невинность? - с улыбкой предполагаю я. Она смеется:
- А вы, мистер Орр?
- Наигранный пафос.
Она одаривает меня одной из своих ослепительных улыбок и
сосредоточивается на работе, затем ненадолго поднимает рассеянный взгляд:
- Знаете, чего мне после университета не хватает?
- Чего?
- Звезд. - Она задумчиво качает головой. - Здесь слишком светло, и они
плохо видны. Конечно, можно уплыть подальше в море... А университет воткнули
между агросекциями, и там довольно темные ночи.
- Агросекции?
- Вы что, не знаете? - Эбберлайн Эррол встает, складывает руки на груди
и отходит на несколько шагов от мольберта. - Это где еду выращивают.
- Да, понял.
Мне и в голову не приходило, что какие-то секции моста могут служить
для сельского хозяйства, хотя технически это, наверное, легко осуществимо.
Для многоярусной фермы, мне думается, нужны защита от ветра и система зеркал
для передачи света, их соорудить тоже несложно. Так что мост, должно быть,
полностью обеспечивает себя пищей. Мое предположение, что его протяженность
ограничена временем, необходимым поезду для доставки продовольствия, теперь
выглядит несостоятельным. То есть мост может иметь любую длину, какую ему
только заблагорассудится.
Моя собеседница зажигает тонкую сигару. Нога в сапожке постукивает по
металлическому настилу. Эбберлайн Эррол поворачивается ко мне, снова
складывает руки под обтянутой блузкой и жакетом грудью. Подол ее юбки
качается, облепляет ноги. Это плотная, дорогая ткань. К ароматному сигарному
дыму примешивается легкий запах дневных духов.
- Так что же, мистер Орр?
Я рассматриваю уже законченный рисунок.
На бумаге была сначала вчерне набросана, а затем подвергнута
фантастической метаморфозе широкая платформа сортировочной станции. Передо
мной - необъятные адские джунгли. Рельсы и шпалы превратились в ползучие
лианы, поезда - в кошмарных узловатых тварей, напоминающих огромные личинки
или гниющие поваленные деревья. Фермы и трубы наверху трансформировались в
ветви и сучья; они исчезают в дыму, что курится над нижним ярусом
растительности. Один паровоз обернулся рыкающим огнедышащим драконом, от
него убегает человечек. Его крошечное лицо едва различимо, но видно, что оно
искажено ужасом.
- Очень... своеобразно, - по некотором размышлении говорю я. Она тихо
смеется:
- Вам не нравится?
- Боюсь, у меня слишком... натуралистические вкусы. Но мастерство
впечатляет.
- Да, я знаю.
У нее бодрый голос, но лицо кажется чуть опечаленным. Я жалею, что
набросок не понравился мне чуть больше.
Но до чего же широка эмоциональная гамма у серо-зеленых глаз мисс
Эбберлайн Эррол! Сейчас они смотрят на меня едва ли не сочувственно! И я
думаю о том, что мне очень нравится эта молодая леди.
- А ведь я специально для вас старалась. - Она вынимает из сумки
тряпку, стирает угольные следы с рук.
- Правда? - Я откровенно польщен. - Вы очень добры.
- Спасибо. - Она снимает лист с этюдника и скатывает в трубку. - Можете
делать с этим все, что угодно, - говорит она. - Хоть бумажный самолетик.
- Ну что вы! - Я принимаю подарок. Такое чувство, будто мне вручили
диплом. - Я его в рамку и на стенку. И он уже гораздо больше мне нравится,
ведь я теперь знаю, что это вы специально для меня.
Отъезд Эбберлайн Эррол опять выглядит эффектно. На этот раз она
остановила дрезину инженера-путейца - изящную, с красивыми стеклами и
панелями, битком набитую сложными, но устаревшими инструментами. Внутри -
сплошь медный блеск, позвякиванье противовесов, шуршание бумажных рулонов и
стрекот самописцев. С шипением и громыханием дрезина тормозит, дверь
складывается гармошкой, и молодой охранник отдает честь мисс Эррол, которой
угодно позавтракать с отцом. Я стою и держу этюдник, мне велено снова
спрятать его под навесом. Ее сумку распирают свернутые в рулон наброски -
она рисует на заказ. Отдав мне картинку с джунглями, она занялась тем, ради
чего, собственно, и приехала. Правда, за работой она не прекращала
разговаривать со мной. Уже поставив ногу на верхнюю ступеньку подножки, она
протягивает мне руку:
- Спасибо за помощь, мистер Орр.
- Спасибо за рисунок, - пожимаю я ее кисть. Впервые между подолом юбки
и сапожком мелькает чулок - тонкая черная сеточка.
Я сосредоточиваюсь на глазах Эбберлайн Эррол. В них - веселые блестки.
- Надеюсь, мы еще увидимся.
Гляжу на изящные припухлости под серо-зелеными глазами. И тут сеточка!
Неужели я попался в эти прекрасные тенета? Голова кружится от нелепой
эйфории. Мисс Эррол сильнее жмет мою руку:
- Что ж, мистер Орр, если я наберусь храбрости, то, может, и не
откажусь, если вы пригласите меня на ужин.
- Это будет... в высшей степени приятно. Надеюсь, вы отыщете в себе
неисчерпаемые запасы храбрости, и в самое ближайшее время. - Я отвешиваю
легкий поклон и в награду получаю еще один шанс мельком увидеть
пьяняще-чарующую ножку.
- Коли так, до свидания, мистер Орр. Не пропадайте.
- Не пропаду. До свидания.
Дверь закрывается, дрезина лязгает и шипит. Ее прощальный пар окутывает
меня, клубится вокруг, словно туман, и у меня слезятся глаза. Я вынимаю
платок.
На нем появилась монограмма. В уголке мисс Эррол приказала вышить
изящное "О" голубой шелковой нитью.
Как это мило! Нет, я и впрямь попался в сеть! А эти несколько дюймов
восхитительной женской кожи под черным шелком!
После ленча мы с Бруком сидим в "Дисси Питтоне" на подвесных скамьях у
окна, попиваем подогретое вино с пряностями и глядим на поредевший
рыболовецкий флот. Уходящие траулеры трубят, минуя своих собратьев, что
застыли на противовоздушной вахте.
- Вряд ли стоит тебя за это упрекать, - ворчит Брук. - Я тоже
сомневаюсь, что этот деятель медицины способен кого-нибудь вылечить. - (Я
уже рассказал мистеру Бруку, что решил не соглашаться на гипноз у доктора
Джойса. Мы оба глядим на море.) - Чертовы пузыри! - зло высказывается мой
приятель, подразумевая надоевшие аэростаты. Они серебристо отсвечивают в
лучах солнца, их тенями регулярно испятнаны серые воды - налицо еще одна
явная система.
- А мне казалось, ты - за... - Но я тут же умолкаю, хмурюсь и напрягаю
слух. Брук оборачивается ко мне:
- Не мое это дело - быть за или против... Орр?
- Тсс! - шиплю.
Я сосредоточиваюсь на далеком звуке, потом отворяю большое окно. Брук
встает. Уже отчетливо слышен гул приближающихся самолетов.
- Только не говори, что опять летят эти проклятые штуковины! - кричит
за моей спиной Брук.
- Так ведь летят.
В поле зрения появляются самолеты, ниже, чем в прошлый раз, средняя
машина - почти на одном уровне с "Дисси Питтоном". Они направляются в
сторону Королевства тем же вертикальным строем, что и прежде. И снова каждый
двигатель выпускает маслянистый дым, порцию за порцией, и в воздухе зависают
длиннейшие гирлянды темных пятен. Серебристо-серые фюзеляжи не несут никаких
опознавательных знаков. Фонари кабин блестят в солнечных лучах. Тросы
аэростатов, по всей видимости, лишь чисто символическое препятствие для
самолетов - они летят в четверти мили от моста, где тросов особенно много,
но только раз мы замечаем, что звену пришлось свернуть, огибая преграду. Гул
пропадает вдали, остается дым.
Брук с размаху бьет кулаком о ладонь:
- Сволочи наглые!
Ровный морской ветерок медленно несет гирлянды дымовых пятен к мосту.
После двух энергичных партий в теннисном клубе я звоню в столярную
мастерскую, где делают рамы для картин. Рисунок мисс Эррол накладывают на
фанеру, покрывают небликующим стеклом и во второй половине дня возвращают
мне.
Я подыскиваю для подарка местечко, где он будет ловить утренний свет, -
над книжной полкой, сбоку от уже починенной входной двери. Когда я поправляю
картинку на стене, включается телевизор.
На экране все тот же мужчина в окружении больничной аппаратуры. На его
лице - никакого выражения. Но освещение чуть изменилось, в палате стало
темней. Скоро надо будет заменить капельницу. Я смотрю на бледное, дряблое
лицо. Хочется постучать по экрану, разбудить бедолагу, но вместо этого я
выключаю телевизор. Есть ли смысл проверять телефон? Поднимаю трубку. Все те
же ровные, короткие гудки.
Я решаю отобедать в баре при теннисном клубе.
Как уверяет тамошний телевизор, официальная версия появления самолетов
такова: кому-то где-то в другой части моста приспичило вдруг устроить
дорогостоящий розыгрыш. Но сегодняшний инцидент показывает, что "оборону" из
аэростатов необходимо усилить (и ни слова о том, почему "обороняется" только
одна сторона моста). Ведутся поиски ответственных за эти несанкционированные
полеты. Администрация просит всех нас проявлять бдительность. Я отыскиваю в
баре знакомого журналиста.
- Ничего не могу к этому прибавить, - разводит он руками.
- А как насчет Третьей городской библиотеки?
- В наших архивах о ней никаких сведений. На том уровне был не то
пожар, не то взрыв, но уже давно. А ты уверен, что два дня назад, а не
раньше?
- Вполне.
- Ну, может быть, до сих пор тушат... - Он щелкает пальцами. - О, могу
сказать то, чего в новостях не было.
- Давай.
- Установлено, на каком языке пишут самолеты.
- И на каком?
- На Брайле.
- Что-что?
- Азбука Брайля, язык слепых. Текст местами расшифрован - полная чушь.
Но что Брайль - это точно.
Я откидываюсь в кресле, напрочь сбитый с толку уже во второй раз за
этот день.
Я стою над болотистой, чуть всхолмленной тундрой, она простирается
передо мной к горной гряде под серым, невзрачным небом. Землю овевает
холодный порывистый ветер, он теребит и вздувает мою легкую одежду,
пригибает жесткую низкорослую траву и вересковый кустарник.
Тундра полого уходит вниз, тает в серой дали - там склон постепенно
набирает крутизну. Монотонность и унылость травянистой пустоши нарушается
лишь одним - узкой влажно блестящей полоской. Это что-то вроде канала.
Студеный ветер гонит рябь по поверхности воды.
С гряды раздается далекий звук паровозного гудка.
Вдоль горизонта виден серый дым, гонимый и терзаемый ветром. Над
гребнем появляется поезд. Он приближается, и снова звучит гудок, резко и
гневно. Черный паровоз и несколько темных вагонов образуют смутно различимую
черточку, и она движется прямо на меня.
Я опускаю взгляд. Я стою между рельсами железнодорожного пути. Две
тонкие серебристые линии ведут от меня к приближающемуся поезду. Делаю шаг в
сторону и снова опускаю глаза. Я по-прежнему между рельсами. Снова шаг в
сторону. Железнодорожный путь преследует меня.
Рельсы словно ртутные: я движусь, и они движутся. Я все еще между ними.
Снова верещит гудок поезда.
Я делаю еще шаг вбок, и снова смещаются рельсы. Кажется, будто они
скользят по поверхности тундры самопроизвольно, не встречая сопротивления. А
поезд все ближе.
Я пускаюсь бежать, но рельсы не отстают, один всегда впереди, другой
всегда за моей спиной. Пытаюсь остановиться, падаю, качусь кувырком, но я
все еще между рельсами. Встаю и бегу в другую сторону, навстречу ветру; в
легких бушует огонь. А рельсы скользят впереди и позади. Поезд уже совсем
рядом, он снова ревет. Ему нипочем все крутые повороты, все зигзаги, которые
появляются на железнодорожном пути из-за моего лавирования, из-за моих
судорожных метаний. А я все бегу, я взмок от пота, охвачен ужасом, не верю,
что это со мной происходит на самом деле, но рельсы слаженно скользят,
выдерживают неизменную дистанцию. Состав надвигается, оглушительно ревет
гудок.
Трясется земля. Звенят рельсы. Я кричу и обнаруживаю рядом канал. И за
миг до того, как меня бы настиг локомотив, я бросаюсь в неспокойную воду.
Под ее поверхностью, оказывается, есть воздух. Я тону в густом тепле,
медленно переворачиваюсь лицом вверх, вижу нижнюю поверхность воды, она
блестит, как масляное зеркало. Я мягко приземляюсь на покрытое мхом дно
канала. Тут покойно и очень тепло. Над головой - ни шевеления.
Сверху падает тусклый свет. Стены здесь из гладкого серого камня, и
расстояние между ними очень невелико: я едва не касаюсь обеих, вытянув руки
в стороны. Они слегка изгибаются, постепенно исчезая из виду позади и
впереди меня. Я веду ладонью по гладкой стене и ушибаю большой палец ноги
обо что-то твердое, скрытое подо мхом.
Я отгребаю мох и обнаруживаю блестящий металл. Расчищаю дальше. Моя
находка длинна, как труба, и прикреплена ко дну канала. В поперечнике у нее
форма раздутой буквы "I". Вскоре оказывается, что она тянется подо мхом
вдоль всей стены, - невысокий такой валик, едва приметный. Вдоль другой
стены туннеля - аналогичный гребень мха.
Я вскакиваю на ноги, торопливо заравниваю мох над рельсом.
И тут плотный теплый воздух начинает медленно обтекать меня, и издали,
из-за поворота узкого туннеля, доносится слабый гудок приближающегося
паровоза.
У меня легкое похмелье. Сижу в закусочной "Завтрак на траве", жду
заказанную копченую сельдь и размышляю, не снять ли дома со стены рисунок
мисс Эррол.
Я сильно встревожен сном. Пробудился весь в поту, ерзал, ворочался на
простыне, пока наконец не пришло время вставать. Я принял ванну, уснул в
теплой воде - и очнулся от холода, вскинулся в ужасе, как от удара
электротоком: приснилось, что я в туннеле, который на самом деле вовсе и не
туннель, а западня со сходящимися стенами, а ванна - это туннель-канал, и
холодная вода в ней - это мой собственный пот.
Читаю утреннюю газету и пью кофе. Автор передовицы критикует власти за
вчерашний полет. В настоящее время обсуждаются меры (какие именно, не
сказано) для предотвращения новых вторжений в воздушное пространство моста.
Вот и нарезанная ломтиками сельдь; удаленные косточки оставили рисунок
на светло-коричневой рыбьей плоти. Вспоминаю свои рассуждения по поводу
общей топографии моста. На похмелье стараюсь не обращать внимания.
Итак, возможностей три:
1. Мост - это всего лишь мост, связующее звено между двумя массивами
суши. Они очень далеко отстоят друг от друга, и мост ведет независимое от
них существование, но транспорт движется по нему с одного массива суши на
другой.
2. Мост - это, по сути, пирс: один конец примыкает к земле, другой -
нет.
3. Мост вовсе не имеет связи с землей, если не считать крошечного
островка под каждой третьей секцией.
Второй и третий варианты не исключают вероятности того, что мост еще
находится в процессе строительства. Пирсом он может быть и просто потому,
что еще не достиг дальнего массива суши. А если у него вообще нет
соприкосновения с землей, то, возможно, его начали возводить в открытом море
и достраивают не с одного конца, а с обоих.
В случае номер три есть одна интересная возможность. Мост кажется
прямым, но существует горизонт; солнце всходит, описывает на небосводе дугу
и заходит. Поэтому можно допустить, что мост в конце концов встречается сам
с собой, образует замкнутый круг.
По пути сюда я заглянул в библиотеку, искал учебник Брайля, и это мне
напомнило о запропастившейся Третьей городской. После завтрака мое
самочувствие приходит в норму, и я решаю прогуляться до секции, где
расположены и клиника доктора Джойса, и мифическая библиотека. Попытка, как
говорится, не пытка.
День опять выдался погожий. Легкий теплый ветерок дует против течения,
натягивает тросы - серые пузыри тянутся к мосту. В небе появились новые
аэростаты, на больших баржах лежат полунадутые баллоны, а некоторые траулеры
держат уже по два аэростата, и пары тросов образуют гигантские "V".
Отдельные баллоны покрашены в черный цвет.
Насвистывая и помахивая тросточкой, я иду от секции к секции.
Общедоступный, хоть и отделанный плюшем лифт поднимает меня на высший из
открытых для посещения ярусов, который, впрочем, находится несколькими
ярусами ниже самого верха секции. Мне уже знакомы высокие, темные, пахнущие
плесенью коридоры. По крайней мере, шапочно знакомы. Их детальная планировка
остается для меня загадкой.
Я прохожу под флагами, потемневшими от времени. Шагаю от ниши к нише,
где стоят запечатленные в камне чиновники. Я пересекаю комнаты, где тихо
переговариваются опрятно и одинаково наряженные клерки. На перекрестках
коридоров цокаю каблуками по тусклому белому кафелю световых люков.
Заглядываю в замочные скважины и вижу темные безлюдные галереи, на полу там
дюймовый слой пыли и мусора. Я пытаюсь открыть двери, но петли приржавели
намертво.
Наконец прихожу на знакомое место. Впереди, там, где расширяется
коридор, на ковре лежит большое круглое пятно света. Пахнет сыростью, и я
готов поклясться, что толстый темный ковер еле слышно чавкает под моими
ногами. Вижу высокие растения в кадках и участок стены, где должен
располагаться вход в L-образный лифт. В центре белого пятна на полу лежит
тень, которую я не припоминаю, и эта тень шевелится.
Я подхожу к свету. Вижу большое круглое окно, оно смотрит "вниз по
течению" и похоже на огромный циферблат без стрелок. Тень отбрасывает не кто
иной, как мистер Джонсон, пациент доктора Джойса, тот самый
маньяк-стекломой, отказывающийся вылезать из своей люльки. Он чистит раму,
водит по стеклам тряпкой, на лице - выражение глубокой сосредоточенности.
Позади и чуть ниже его, прямо в воздухе, в доброй тысяче футов над
морем, дрейфует маленький траулер.
Суденышко висит на трех тросах. Оно темно-коричневое, с полосой
ржавчины над ватерлинией и слоем ракушек - под. Набирая высоту, траулер
медленно сближается с мостом.
Я подхожу к окну. Высоко над летящим траулером вижу три черных
аэростата. Я гляжу на увлеченно работающего мистера Джонсона. Стучу по
стеклу. Он не обращает внимания.
А траулер все поднимается - прямиком к нашему окну. Я колочу по стеклу,
так высоко, как могу достать, размахиваю тростью и шляпой и кричу во всю
силу легких:
- Мистер Джонсон! Оглянитесь! Назад!
Он перестает тереть, но только для того, чтобы нежно улыбнуться и
дохнуть на стекло.
Я стучу по стеклу на уровне колен мистера Джонсона; выше мне не достать
даже тростью. Траулер уже в двадцати футах. Мистер Джонсон самозабвенно
орудует тряпкой. Бью по толстому стеклу медным набалдашником трости.
Появляются трещины. Пятнадцать футов. Траулер уже на одном уровне с
башмаками мистера Джонсона.
- Мистер Джонсон!
Я что есть силы ударяю по стеклу набалдашником. Оно наконец не
выдерживает, сыплются осколки. Я отшатываюсь от стеклянного града. Мистер
Джонсон глядит на меня и злобно щерится.
Десять футов.
- Сзади! - кричу я, показывая тростью, и спешу в укрытие.
Мистер Джонсон смотрит, как я убегаю, затем поворачивается. Траулер в
морской сажени от него. Мистер Джонсон бросается на дно своей люльки, а
траулер врезается в центр огромного круглого окна, его киль царапает
поручень люльки и осыпает мистера Джонсона ракушками. Лопаются рамы, на
площадку перед окном сыплется блестящее крошево. Звон бьющегося стекла
соревнуется со скрежетом разрываемого металла. Форштевень траулера таранит
окно в центре, металлическая рама сминается, точно паутина, с ужасающим
треском, с душераздирающим грохотом. Подо мной содрогается пол.
В следующий миг наступает тишина. Траулер чуть отшатывается, но уже
через секунду снова рвется вперед и вверх, переваливает через верхушку
огромной мандалы, обрушивая все новые дожди осколков. Ракушки и стекляшки
вместе сыплются на ковер, барабанят по широким листьям фикусов в кадках.
И вдруг, к моему изумлению, все это прекращается. Траулер исчезает из
виду. Перестает сыпаться стекло. Скрежет удаляется - корабельный киль
бороздит верхние ярусы.
Люлька мистера Джонсона качается маятником, колебания постепенно
затухают. Стекломой шевелится, медленно встает, озирается; на его спине
золотистой чешуей блестят осколки. Он лижет ранку на тыльной стороне ладони,
осторожно стряхивает со спецовки ракушки и битое стекло, идет в конец
покачивающейся люльки и берет швабру с коротким черенком.
Сметает мусор, насвистывает при этом. Время от времени он печально
поглядывает на то, что осталось от круглого окна.
Я стою и наблюдаю за ним. Он вычищает люльку, проверяет, целы ли тросы,
перевязывает кровоточащие руки. Затем внимательно осматривает окно и находит
несколько фрагментов, не выбитых и не вымытых. И снова приступает к любимому
делу.
После удара траулера прошло минут десять, а я в коридоре по-прежнему
один. Никто не приходит выяснить, что случилось, не надрываются сирены. А
мистер Джонсон знай себе моет и натирает. В разбитое окно затекает теплый
бриз, ворошит изорванные листья растений. Там, где была дверь в L-образный
лифт, сейчас голая стена с нишами для статуй.
Я ухожу. Поиск Третьей городской библиотеки снова прерван по не
зависящим от меня обстоятельствам.
Возвращаюсь в свою квартиру, но там меня ждет еще большая катастрофа.
В апартаменты входят и выходят люди в серых спецовках, складывают
одежду на тележку. Перед моим оторопелым взором появляется очередной
грузчик, сгибающийся под тяжестью картин и рисунков. Сгружает их на тележку
и возвращается в комнату.
- Эй! Вы! Эй, вы! Что вы тут вытворяете?!
Люди останавливаются и недоуменно смотрят на меня. Я пытаюсь вырвать из
рук одного, долговязого, рубашки, но он слишком силен. Он озадаченно
моргает, но крепко держится за мою одежду. Его приятель пожимает плечами и
исчезает в дверях.
- А ну стоять! Вон отсюда!
Я оставляю в покое олуха с рубашками и бросаюсь в комнату. А там -
настоящее столпотворение. Всюду мельтешат люди в сером, одни опрастывают
шкаф с постельным бельем, другие выносят вещи, третьи сгребают с полок книги
и укладывают в коробки, снимают картины со стен и фигурки мостовиков со
столов. Я озираюсь. Я в ужасе. Я парализован.
- Прекратите! Что вы делаете? Кто-нибудь объяснит?! Перестаньте!
Некоторые оборачиваются и глядят на меня, но не прекращают свое черное
дело. Один вознамерился унести все три зонтика.
- Клади назад! - кричу, преграждая ему путь и даже замахиваясь тростью.
Он вырывает из моей руки трость и вместе с ней и зонтиками исчезает в
коридоре.
- А, так вы, должно быть, мистер Орр. - Из спальни появляется крупный
лысый мужчина в черном пиджаке поверх спецовки. В одной руке он держит
черную шляпу, а в другой скоросшиватель.
- Он самый! А кто же еще?! И что тут происходит, черт возьми?!
- Мистер Орр, вы переселяетесь, - улыбается лысый.
- Что? Почему? Куда? - выкрикиваю. У меня дрожат ноги, в желудке -
тяжелый тошнотворный ком.
- Гм... - Лысый заглядывает в папку. - Ага, вот: уровень У-семь, триста
шестая комната.
- Что? Где это? - Я ушам своим не верю. - У-семь?
Это же под железной дорогой! Но ведь там живут рабочие, простолюдины!
Что происходит? В чем я провинился? Должно быть, это какая-то ошибка!
- Вообще-то, я не знаю, сэр, - бодро отвечает лысый. - Но уверен, вы
сможете спросить дорогу.
- Но почему? Почему я должен переселяться?
- Ни малейшего понятия, сэр, - весело ответствует он. - А долго вы
здесь прожили?
- Полгода. - Из гардеробной исчезают все новые и новые предметы одежды.
Я снова поворачиваюсь к лысому: - Постойте, но ведь это мои вещи! Зачем они
вам?
- Возвращаем, сэр, - отвечает он с улыбкой.
- Возвращаете?! Куда? - вопию в отчаянии. Все это очень несолидно, но
что еще мне остается?
- Не знаю, сэр. Наверное, туда, где вы их взяли. Точно могу сказать: не
в мой департамент.
- Но ведь они - мои!
Он хмурится, снова заглядывает в папку, снова шуршит бумагами.
Отрицательно качает головой, участливо улыбается:
- Нет, сэр.
- Мои, черт возьми!
- Простите, сэр, но они не ваши. Собственность больничной
администрации. Видите, вот здесь написано? - Он сует мне под нос список всех
моих покупок в магазинах одежды по больничному кредиту. - Видите? - Он
хихикает. - А я уж было испугался, сэр. Если б мы и правда забрали
что-нибудь из вашего, это было б незаконно. Вы б могли заявить на нас в
полицию и были бы совершенно правы. Вы б могли обратиться...
- Но мне сказали, я могу покупать все, что захочу! У меня было пособие!
Я...
- Послушайте, сэр, - говорит лысый, глядя, как очередная партия шляп и
костюмов проплывает мимо нас к выходу, и что-то отмечая в папке, - я не
адвокат и не какой-нибудь там законник, но зато не возьмусь и припомнить,
сколько лет занимаюсь вот этим делом. Если мне не верите, сэр, то можете
сами проверить, что все это барахло принадлежит больнице, а вы им только
пользовались. Позвоните туда, сэр, и вам скажут.
- Но...
- Сэр, я уж не знаю, чего вам такого наговорили, но если мне не верите
- проверьте. Чего проще?
- Я... - Мне становится нехорошо. - Послушайте, а что если вы...
перерыв сделаете, а? Только на минутку, а? Пожалуйста! Дайте позвонить моему
лечащему врачу. Это доктор Джойс, вы наверняка о нем слышали. Он во всем
разберется. Должно быть, это...
- Недоразумение? - Лысый от души смеется. - Не обижайтесь, сэр.
Простите, что перебил, но как тут не смеяться? Знали б вы, сколько людей мне
это говорили! Кабы мне каждый раз платили по шиллингу, давно был бы
миллионером. - Он качает головой, вытирает щеку. - Ладно, сэр, если вы и
правда в это верите, лучше свяжитесь с соответствующими инстанциями. - Он
оглядывается. - Тут где-то телефон был...
- Не работает.
- Да что вы, сэр! Работает. Я полчаса назад звонил в департамент,
сказал, что мы уже здесь.
Я нахожу телефон на полу. Он совсем плох, только щелкает, когда я
пытаюсь набрать номер. Рядом наклоняется лысый.
- Что, сэр? Отключили? - Он смотрит на часы. - Однако рановато, сэр. -
Он делает новую пометку в папке. - Ну и шустер же народ на станции! - Он
негромко причмокивает губами и восхищенно качает головой.
- Послушайте, а все-таки нельзя ли чуть-чуть подождать? Дайте мне
переговорить с врачом, он во всем разберется. Его зовут доктор Джойс.
- Так в этом нужды нет, сэр, - радостно заявляет лысый. И тут ко мне в
голову заползает противная до тошноты мыслишка. Лысый ворошит листы в папке,
ведет пальцем по предпоследнему. - Ну вот же, сэр. Вот сюда гляньте.
Там подпись доброго доктора.
- Видите, сэр, он уже в курсе, - говорит лысый. - Это с его
разрешения...
- Да. - Я сажусь и гляжу в голую стену перед собой.
- Ну так что, сэр, вы удовлетворены? - В голосе лысого нет ни малейшей
иронии.
- Да, - слышу собственный голос. Я в шоке, в ступоре, в ватном коконе;
все чувства угасли, их пепел разворошен и залит водой.
- Сэр, боюсь, нам все-таки придется взять и то, что на вас. - Бригадир
грузчиков смотрит на мою одежду.
- Не верю, что вы это всерьез, - отвечаю вяло.
- Всерьез, сэр. Да не расстраивайтесь вы так. Мы вам спецовку принесли.
Новую, между прочим. Хотите прямо сейчас переодеться?
- Это же смехотворно.
- Понимаю, сэр, но ведь правила - они на то и правила, верно? Да вы не
сомневайтесь, спецовочка вам понравится. Новехонькая!
- Спецовочка?..
Она ядовито-зеленая. Туфли, брюки, рубашка и очень грубое нательное
белье.
Я переодеваюсь в опустошенной туалетной комнате, в голове так же пусто.
Кажется, мое тело решило жить по своему разумению. Оно, как робот,
совершает движения, которых от него ждут, затем останавливается и ждет
нового приказа. Я аккуратно складываю свою одежду, а когда добираюсь до
пиджака, замечаю платок Эбберлайн Эррол. Вынимаю его из нагрудного кармана.
Я возвращаюсь в гостиную. Лысый смотрит телевизор, там идет какая-то
викторина. Он выключает телевизор при моем появлении с охапкой одежды.
Надевает черную шляпу.
- Вот этот платок, - кивком указываю на носовой платок, венчающий
охапку. - Он с монограммой. Можно, я его оставлю?
Лысый взмахом руки велит помощнику взять у меня одежду. Сам же берет
носовой платок и сверяется с перечнем в папке. Острым карандашом стучит по
одной из строчек:
- Да, тут есть носовой платок, но... насчет буквы на нем - ничего. - Он
встряхивает платок, подносит к глазам и рассматривает вышитое синее "О". Я
уже начинаю опасаться, что он сейчас вытянет нитку и отдаст мне. - Ладно,
оставьте, - раздраженно говорит он. Я беру платок. - Но вам придется
выплатить его стоимость из нового пособия.
- Благодарю вас. - В такой ситуации быть вежливым до смешного просто.
- Ну вот, собственно, и все, - серьезным тоном произносит он и прячет
карандаш. Мне этот жест напоминает о добром докторе. Лысый указывает на
дверь: - После вас.
Я сую носовой платок в карман ярко-зеленой спецовки и покидаю квартиру
вслед за лысым. Из грузчиков остался только один, с какой-то бумагой,
скатанной в трубку, и пустой картинной рамкой. Он ждет, когда начальник
запрет и опечатает дверь, потом что-то шепчет ему на ухо. Бригадир берет и
разворачивает бумагу, и я вспоминаю, что это рисунок Эбберлайн Эррол.
- Ваше?
Я киваю:
- Да, подарок от...
- Держите. - Он сует рисунок мне и отворачивается. Вместе с подчиненным
уходит по коридору.
Я направляюсь к лифту, держа эскиз обеими руками. Успеваю сделать
несколько шагов, как вдруг раздается крик. Ко мне бежит лысый бригадир,
машет рукой. Я разворачиваюсь и иду навстречу. Он трясет папкой.
- Не спешите, приятель. Тут еще вопросик имеется. Насчет широкополой
шляпы.
- Клиника доктора Джойса. Прекрасный денек, не правда ли?
- Это мистер Орр. Я хочу поговорить с доктором Джойсом. Дело очень
срочное.
- Мистер Орр! Просто замечательно, что вы позвонили. Как поживаете? Не
правда ли, денек выдался на славу?
- Я... Сказать по правде, я сейчас поживаю хуже некуда - меня только
что из дома вышвырнули. И все-таки нельзя ли поговорить с доктором Джой...
- Но ведь это ужасно! Это просто ужасно!
- Согласен. Потому-то мне и нужен доктор Джойс.
- О, мистер Орр, вам сейчас не доктор нужен, а полиция. Вас же, я так
понимаю, не сбросили с балкона, тогда бы вы физически не могли...
- Погодите! Очень благодарен за сочувствие, но я звоню из будки, денег
у меня нет, и...
- Что? Так вас еще и ограбили? Мистер Орр?
- Нет. Послушайте! Можно поговорить с доктором Джойсом?
- Боюсь, что нет, мистер Орр. Доктор на конференции. Он сейчас... гм...
дайте-ка взглянуть. А! Кажется, вот: Комитет по процедурам оформления сделок
(контрактов), подкомитет по выбору новых членов.
- Но не могли бы вы...
- Нет! Нет, простите ради бога! Я вас обманул! Это было вчера, а
сейчас... То-то я говорю, а сам думаю: что-то не то... Вот: планирование
строительства зданий и комбинирование вертикальных...
- Черт возьми! Да какое мне дело до всех этих чертовых комитетов?!
Когда я смогу с ним поговорить?
- Зачем же так, мистер Орр? Комитеты и о вашем благе пекутся, между
прочим.
- Когда я смогу с ним поговорить?
- Извините, мистер Орр, но я этого не знаю. Может, попросить, чтобы он
с вами связался?
- Когда? Не могу же я весь день болтаться вокруг телефонной будки!
- А что если он позвонит вам домой?
- Я же только что сказал: из дома меня выгнали.
- И что же, вы не можете вернуться? Мистер Орр, я уверен, что если вы
обратитесь в полицию...
- Дверь опечатана! И это с ведома властей, и доктор Джойс сам
подписался. Вот я и хочу с ним...
- А-а! Мистер Орр! Так вас же перевели! Теперь понятно! Я-то думал...
- Что это за шум?
- Это? А, это гудки, мистер Орр. Надо положить в желоб монетки.
- Нет у меня больше монеток.
- А жаль. Ну что ж, мистер Орр, приятно было с вами пообщаться. До
свидания. Удачного вам...
- Алло? Алло?
У-7 расположен семью ярусами ниже железнодорожного. Это достаточно
малое расстояние, чтобы можно было отличить поезд ближнего следования от
транзитного или продовольственного по одной лишь вибрации, не говоря уж о
громыхании, реве и визге. Уровень широк, тускло освещен, тесен, акустика
просто замечательная. Непосредственно внизу постоянно что-то монтируют и
режут листовой металл, выше - еще шесть этажей жилых помещений. В душном
воздухе господствуют запахи пота и стоялого дыма. Комната 306 принадлежит
мне целиком, в ней одна-единственная узкая койка, ветхий пластмассовый стул,
расшатанный стол и узкий платяной шкаф. Мебели немного, но все равно тесно.
По пути сюда я учуял общественный туалет в конце коридора. За окном световой
люк, но это одно название.
Я затворяю дверь и иду в клинику доктора Джойса как ходячий автомат:
слепой, глухой, без единой мысли в голове. Когда прихожу, оказывается, я
опоздал, дверь уже на запоре, доктор и даже секретарь ушли домой. На меня
подозрительно смотрит охранник и предлагает вернуться на мой уровень.
В животе бурчит. Я сижу на своей коечке и смотрю в пол, подперев голову
руками. Слышу, как в цеху ниже ярусом визжит разрезаемый металл. У меня ноет
грудь.
В дверь стучат.
- Войдите.
Входит неряшливо одетый человечек, его взгляд обегает комнату и
задерживается на скатанном в трубку рисунке на шкафу. Затем взгляд
останавливается на мне, хотя с моим не встречается.
- Извини, приятель. Новенький? - Он остается у открытой двери, как
будто готов в случае чего шмыгнуть назад. Прячет ладони в глубоких карманах
длинного блестящего темно-синего плаща.
- Да, новенький. - Встаю. - Меня зовут Джон Орр. - Протягиваю руку. Он
хватает ее, но тут же отпускает и снова прячет свою. - А вас как зовут? -
едва успеваю спросить.
- Линч, - обращается он к моей груди. - Зови меня Линчи.
- И чем я могу быть вам полезен, Линчи? Он пожимает плечами:
- Да ничем. Мы ж соседи. Я и подумал: может, тебе надо чего.
- Как любезно с вашей стороны! Я был бы очень благодарен за небольшую
консультацию насчет обещанного мне пособия.
Теперь мистер Линч смотрит мне в лицо, его давно не мытая физиономия
хоть и тускло, но сияет.
- А... ну с этим-то я помогу, никаких проблем.
Я улыбаюсь. За все то время, пока я вращался в рафинированном обществе
на верхних ярусах моста, никто из соседей даже доброго утра мне не пожелал,
не говоря уж о том, чтобы помощь предложить.
Мистер Линч ведет меня в столовую, там покупает мне пирожок с рыбой и
пюре из морских водорослей. И то и другое на вид ужасно, но я проголодался.
Мы пьем чай из кружек. Мистер Линч уборщик вагонов и живет в комнате 308. Он
безмерно удивился, когда я показал пластмассовый браслет и сообщил, что
нахожусь на излечении. Он объяснил, куда идти и к кому обращаться завтра
утром насчет пособия. Он очень любезен. Даже предлагает мне деньжат взаймы,
однако я и так уже обязан ему, поэтому благодарю, но отказываюсь.
В столовой много шума, пара и люда, но нет окон. Повсюду грохот и лязг,
а запахи крайне негативно влияют на мой процесс пищеварения.
- Значит, так просто взяли и выперли?
- Да. И мой врач им разрешил. Я не согласился лечиться по новой
методике, наверное, потому-то меня и выгнали. Может, я и не прав.
- Во урод! - Мистер Линч качает головой, во взоре появляется злость. -
Гады они, врачи эти.
- Да, его поступок кажется непорядочным, смахивает на подленькую месть,
но все же, боюсь, я вправе винить только себя.
- Все они уроды, - настаивает мистер Линч и глотает чай из кружки.
Глотает шумно, и мне эти звуки так же неприятны, как царапанье ногтями по
грифельной доске. Я скриплю зубами. Гляжу на часы над раздаточным окошком.
Попытаюсь связаться с Бруком, - наверное, он скоро придет в "Дисси Питтон".
Мистер Линч вынимает пачку табака, стопку папиросной бумаги и
сворачивает себе сигарету. Мощно втягивает носом воздух, издает горлом
хриплый, простуженный сип. Завершает его приготовления пулеметная очередь
кашля, словно где-то в груди энергично трясут мешок с камнями.
- Куда-то собрался, приятель? - спрашивает мистер Линч, перехватив мой
взгляд на часы. Он зажигает сигарету, выпускает струю едкого дыма.
- Да, пожалуй, мне пора. Хочу навестить старого друга. - Встаю. -
Большое вам спасибо, мистер Линч. Извините, что приходится покидать вас в
такой спешке. Когда снова буду при деньгах, постараюсь вознаградить вас за
щедрость - и надеюсь, вы не будете против.
- Да без проблем, приятель. Если помощь понадобится, стукни. Завтра у
меня выходной.
- Спасибо. Вы очень добры, мистер Линч. Всего наилучшего.
- Ага. Покеда.
До "Дисси Питтона" я добираюсь позже, чем рассчитывал, и ноги все
сбиты. Надо было соглашаться, когда мистер Линч предлагал деньги, - доехал
бы поездом. Поразительно, как мало удовольствия доставляет ходьба, когда
перестает быть развлечением, а становится необходимостью. Смущает меня также
и спецовка, - по-моему, она полностью обезличивает человека. Все же я иду,
высоко подняв голову и расправив плечи, как будто на мне лучшие костюм и
пальто из моего гардероба, и, по-моему, в свое отсутствие трость куда
заметней, чем когда я ею помахивал на самом деле.
Однако на швейцара возле "Дисси Питтона" это не производит впечатления.
- Вы что, не узнаете меня? Да я же здесь чуть ли не каждый вечер бывал.
Я мистер Орр. Взгляните.
Я сую ему под нос пластмассовый браслет. Швейцар не смотрит; он вроде
стесняется, что должен разбираться со мной и в то же время приветствовать
посетителей, отворять им дверь.
- Слышь, катился бы ты, а?
- Вы меня не узнали? Да в лицо посмотрите, далась вам эта чертова
спецовка. Ну хоть передайте мистеру Бруку, пусть выйдет сюда. Он еще здесь?
Ну Брук, инженер. Маленький такой, чернявый, сутулый...
Швейцар выше меня и шире в плечах. Если б дело обстояло иначе, я бы
рискнул прорваться.
- Или ты сейчас же свалишь, или тебе очень не поздоровится, - говорит
детина. И оглядывает широкий коридор перед баром, словно кого-то ищет.
- Да я же еще вчера здесь был! Помните? Это я вернул Бучу шляпу. Вы не
могли этого не запомнить. Вы держали шляпу у него перед носом, а он туда
наблевал.
Швейцар улыбается, дотрагивается до фуражки, пропускает в бар
незнакомую мне пару.
- Вот что, приятель, я две недели пробыл в отпуске и только сегодня на
работу вышел. Или сейчас же исчезнешь, или очень пожалеешь.
- А... понимаю. Простите. Но все-таки можно попросить вас о пустяковой
услуге? Я напишу записку, а вы...
Договорить не удается. Швейцар еще раз оглядывается, убеждается, что в
коридоре, кроме нас, никого, и дает мне под дых тяжеленным кулаком в
перчатке. От парализующей боли я складываюсь пополам, и он вторым кулаком
бьет мне в челюсть, отчего голова едва не слетает с плеч. Я отшатываюсь,
обезумев от боли, и третий удар приходится в глаз.
Уже почти без чувств, я врезаюсь в дверные филенки. Меня поднимают за
шиворот и штаны, несут и вышвыривают в дверь - на свежий, холодный воздух.
Мешком валюсь на голый металлический настил. Еще два тяжелых удара ловлю уже
боком, это, похоже, пинки.
Лязгает дверь. Дует ветер.
Я как упал, так и лежу. Просто не могу пошевелиться. В животе растет
ужасная пульсирующая боль. Я даже не вижу (наверное, глаза кровью залиты),
куда выблевываю пирожок с рыбой и водоросли.
Я лежу на смятой постели. В комнате надо мной спорят мужчина и женщина.
Меня скрутили боль, тошнота и голод. Болят голова, зубы, челюстные кости,
правый глаз, висок, живот и бок, это сущая симфония муки. В ней почти утонул
назойливый шепоток, эхо старой раны, круглая боль в груди.
Я чист. Как сумел, вымыл рот и приложил платок к рассеченной брови.
Плохо представляю, как мне сюда удалось дойти или доползти, но я это сделал,
в болезненном отупении, как в подпитии.
В койке неудобно, но не стоя же встречать бесконечные волны боли,
которые набегают на меня, как на истерзанный берег.
Уже глубокой ночью наконец уплываю в сон. Но уплываю не по тихим водам,
а по океану горящей нефти. Пытки яви, которые бодрствующий рассудок мог бы
хоть попытаться поместить в контекст - заглядывая в будущее, в котором боль
утихнет, - сменяются мучительным полусознательным трансом, и в этом трансе
маленькие, рудиментарные, глубинные круги разума лишь машинально фиксируют
вопли обжигаемых болью нервов; и плачь не плачь, а утешать некому.
Я не знаю, как давно здесь нахожусь. Давно. Я не знаю, где я нахожусь.
Где-то далеко. Я не знаю, по какой причине здесь нахожусь. Должно быть, в
чем-то перед кем-то провинился. Я не знаю, долго ли еще здесь пробуду.
Долго.
Этот мост невелик, но ему нет конца. До берега совсем близко, но мне
туда не добраться вовек. Я иду, но не схожу с места. Медленно ли, быстро ли,
бегом ли, ползком ли, прямо или зигзагом, с низкого старта или замирая
столбом - толку никакого.
Мост сделан из железа. Он ржавеет, он шелушится, он весь в рытвинах
коррозии. Это железо отвечает на мои шаги и прыжки тяжким мертвым звуком,
таким тяжким и таким мертвым, что это, можно сказать, даже и не звук вовсе,
а просто волны, проходящие через мой скелет к головному мозгу. Мост кажется
отлитым целиком, а не склепанным из кусков металлопроката. Может, он и
состоял раньше из деталей, но сейчас это одно ржавое целое; он ветшает и
гниет как одно целое. А может, не склепанным, а сваренным или сплавленным.
Да какая разница?
Повторяю, мост невелик. Он пересекает речушку, которую я вижу в
просветах толстых чугунных брусьев, подпирающих высокие перила. Речка в этом
месте прямая, она медленно вытекает из тумана, журчит под мостом, а затем,
такая же прямая и медленная, пропадает в таком же точно проклятом тумане.
Я бы переплыл речушку за пару минут, да вот незадача - здесь водятся
плотоядные рыбы. Собственно, я бы и по мосту добрался до берега, причем за
гораздо меньшее время, даже если бы еле плелся.
Мост - это часть поверхности цилиндра, верхняя четверть. В целом он
представляет собой большое полое колесо, через которое течет река.
Позади меня к мосту подходит через болото дорога, мощенная булыжником.
На противоположном берегу живут мои дамы, они бездельничают или развлекаются
в многочисленных павильончиках, или открытых возках, или на полянке,
окруженной высокими широколистыми деревьями (их я вижу, когда чуть редеет
туман). Я все иду и иду к этим женщинам. Иногда шагаю медленно, иногда
быстро, а порой даже бегу. Они зовут меня, простирают ко мне руки, машут. До
меня доносятся голоса, но слов не разобрать. Но голоса такие нежные,
ласковые, теплые и соблазнительные и таким бешеным желанием наполняют мои
чресла... Нет, это невозможно передать.
Дамы разгуливают или лежат на атласных подушках в павильончиках и
широких возках. На них самые разнообразные одежды. Есть и строгие, деловые,
закрывающие своих владелиц с головы до пят, есть и свободные, ниспадающие
шелковыми волнами, есть и тонкие до прозрачности или с множеством искусно
размещенных прорех и отверстий, отчего пухлые тела (белые, как алебастр,
черные, как гагат, золотистые, как само золото) просвечивают, словно
заключенный в них юный любовный жар не метафора, а физическое явление,
которое мои глаза способны улавливать.
Иногда, глядя на меня, женщины демонстративно раздеваются. Их движения
при этом неторопливы, большие печальные очи полны желания, изящные тонкие
руки плавно касаются плеч, стряхивают, отбрасывают полосы и слои материи,
точно капли воды после купания. Я вою, я бегу быстрее; я кричу во всю силу
легких.
Бывает, что дамы подходят к воде, чуть ли не к самому мосту, и срывают
одежды, и стенают от похоти, и заламывают руки, и водят бедрами, и
опускаются на колени, и раскидывают ноги, и взывают ко мне. Я тоже кричу и
рвусь вперед, несусь что есть сил. Все мои мышцы сводит желанием, член
торчит, как копье охотника на мамонтов; я бегу, потрясая им; я реву от
чудовищного спермотоксикоза. Я часто эякулирую и, вялый, выжатый, опускаюсь
на жесткое ржавое железо, и лежу, и тяжело дышу, и хнычу, и заливаюсь
слезами, и до крови разбиваю кулаки о шелушащийся чугун.
Порой женщины занимаются любовью друг с дружкой, прямо на моих глазах.
В такие минуты я вою и рву на себе волосы. Они могут часами предаваться
обоюдным ласкам, нежно целовать и поглаживать, лизать и массировать. Они
кричат в оргазме, их тела содрогаются, корчатся, пульсируют в едином ритме.
Бывает, дамы при этом смотрят на меня, и я не могу понять, остаются ли в
больших влажных глазах печаль и желание или их сменила сытая насмешка. Я
останавливаюсь и грожу кулаком, я надрываю голосовые связки: "Суки! Шалавы
неблагодарные! Подлые садистки! А как же я? Идите сюда! Сюда! Сюда
поднимайтесь! Сюда! Ну?! Идите же! Что стали? Топайте! Хоть веревку говенную
мне киньте!"
Но ничего такого они не делают. Только манят, показывают стриптиз,
трахаются, спят, читают старые книжки, стряпают и оставляют для меня на краю
моста бумажные подносики с едой. Но иногда я бунтую. Сбрасываю подносики в
реку, и плотоядные рыбы уничтожают и жратву, и рисовую бумагу. Но женщины
все равно не ступают на мост. Я вспоминаю, что ведьмы не способны переходить
через воду.
Я все шагаю и шагаю. Мост плавно крутится, подрагивает и погромыхивает.
Брусья по его бокам неспешно рассекают туман. Я бегу, но и мост ускоряет
свое вращение, не отстает, дрожит под ногами; брусья тихонько стрекочут в
тумане. Я останавливаюсь, замирает и мост. Я по-прежнему над серединой
медлительной речушки. Сажусь. Мост неподвижен. Я подпрыгиваю и бросаюсь к
берегу, к дамам. Кувыркаюсь, ползу, прыгаю, скачу, сигаю, а мост знай себе
погромыхивает, и никогда не позволяет мне продвинуться вперед больше чем на
несколько шагов, и каждый раз обязательно возвращает меня назад, на середину
своего невысокого горба, в высшую точку над медлительной рекой. Я - ключевой
камень моста.
Сплю я - в основном по ночам, но иногда и днем - над стрежнем.
Несколько раз я таился до глубокой ночи, часами гнал сон, а потом - р-раз!
Прыг! Могучий скок вперед! Стремительный рывок! Але-оп! Но мост тот еще
ловкач, его не проведешь. И не важно, бегу я, скачу или кувыркаюсь, - он
обязательно возвращает меня на середину реки.
Я пробовал бороться с мостом, обращая против него его же инерцию,
суммарное количество движения, громадную неповоротливую массу, то есть
устремлялся сначала вперед, а потом обратно, пытался молниеносной сменой
направления застичь его врасплох, обмануть, перехитрить, околпачить подлеца,
доказать, что я ему не по зубам (и, разумеется, памятуя о плотоядных рыбах,
я всегда это делал с тем расчетом, чтобы в итоге очутиться на дамском
берегу), но без успеха. При всей своей тяжести, при всей своей громоздкости
мост всегда ухитряется оставить меня в дураках и позволяет мне приблизиться
к берегу лишь на считаные прыжки.
Иногда налетает ветерок, ему не по силам разогнать туман, но мне
хватает и этого. Если ветер дует со стороны павильонов, он приносит запахи
духов и женских тел. Я зажимаю нос, я отрываю длинные лохмотья от своих
ветхих одежд и затыкаю ими ноздри. Я подумываю, не заткнуть ли заодно и уши,
не закрыть ли повязкой глаза.
Раз в несколько десятков дней из леса за лужком выбегают ряженные
сатирами приземистые, плотные мужички и кидаются на дам. А те,
продемонстрировав должное жеманство, с непринужденной грацией сдаются своим
маленьким любовникам. Оргии длятся без перерыва, практикуются все мыслимые и
немыслимые формы сексуальных извращений. По ночам эту сцену освещают костры
и красные фонари, и в их сиянии поглощается невообразимая уйма жареного
мяса, экзотических фруктов и пряных деликатесов вкупе с бесчисленными
бурдюками вина и бутылками более крепких напитков. Про меня в такие
праздники обычно все забывают и даже еду не приносят на мост, поэтому я
вынужден страдать от голода, пока они предаются обжорству, насыщают все и
всяческие аппетиты. Я сижу к ним спиной, скалю зубы и гляжу на сырой
торфяник и недосягаемую дорогу, трясусь от злобы и ревности и схожу с ума от
криков наслаждения и от сочных запахов жаркого.
Однажды я охрип, крича на дам и сатиров, повредил лодыжку, прыгая на
месте, прикусил язык, исторгая площадную брань. Дождался, когда захотелось
по-большому, и запустил в них какашками. Но моим экскрементам тут же нашлось
применение в грязной сексуальной игре.
Когда чернявые мужички, еле волоча ноги, убирались в свой лес, а дамы
отсыпались и приводили себя в порядок после безумных игрищ, все шло как
прежде, разве что мои истязательницы выглядели теперь чуточку смущенными,
пристыженными, даже задумчивыми. Для меня готовили особые блюда и вообще
кормили щедрей, чем прежде. Но я все равно часто расстраивался и бросал в
них едой или скармливал ту плотоядным рыбам. Покаявшись-постыдившись, дамы
возвращались к старым своим делам, то есть к чтению и сну, прогулкам и смене
нарядов и любовью друг с дружкой.
Глядишь, когда-нибудь мои слезы превратят этот мост в ржавую пыль и я
наконец обрету свободу.
Сегодня тумана не было. Рассеялся он ненадолго, но мне хватило. Мост
бесконечен, но я-то, я уже дошел до своего конца.
Я не одинок.
Когда туман поднялся, я увидел, что с обоих боков моста река уходит в
чистые дали. С одной стороны к ней примыкает торфяник, с другой - луг и лес.
Выше по течению, шагах в ста, еще один мост, в точности как мой: чугунная
бочка без дна и крышки, но с толстыми радиальными брусьями. На ней мужчина,
он держится за брусья и смотрит на меня. Дальше опять мост, на нем тоже
мужчина. И так далее. Череда мостов постепенно превращается в чугунный
туннель, и он пропадает на горизонте. К каждому мосту подходит по болоту
отдельная дорога, а на другом берегу собрались женщины со своими павильонами
и повозками, И ниже по течению - точно такая же картина. Но мои дамы,
похоже, этого не замечают.
Мужчина на ближайшем, ниже по течению, мосту какое-то время смотрит на
меня, затем пускается бежать. Я смотрю, как вращается громадный полый
цилиндр, поражаюсь идеальной плавности его движения. Человек останавливается
и снова глядит на меня, потом на мост, что ниже по течению от него.
Незнакомец карабкается по брусу, становится на перила и почти без колебаний
падает в воду. Та окрашивается в алое. Самоубийца вопит и тонет.
Возвращается туман. Я какое-то время кричу, но ни сверху, ни снизу по
течению не доносится отклика.
Теперь я бегу. Ровно, быстро и решительно. И так - несколько часов.
Темнеет. Дамы обеспокоены - я уже растоптал три подноса с едой.
Дамы стоят и наблюдают за мной, у них большие печальные глаза, и в них
какое-то смирение - будто все это они уже видели, будто всегда это только
так и заканчивается.
А я знай себе бегу. Мы с мостом теперь одно целое, детали какого-то
огромного отлаженного механизма, игольного ушка для речки-ниточки. Я буду
бежать, пока не упаду, пока не умру. Иными словами, буду бежать всегда.
Дамы мои плачут, я же - счастлив. Это они в плену, это они в западне.
Узницы, покорившиеся своей судьбе. А вот я - свободен.
Я просыпаюсь от крика, я всерьез верю, будто скован льдом похолоднее
того, что получается из воды. Мой лед такой студеный, что прожигает до
костей, как расплавленный камень. И такой тяжелый, что с треском дробит
кости.
Но это не я кричу. Я безмолвствую, а визжит разрезаемый металл. Я
одеваюсь, иду в туалет.
Вытираю руки носовым платком. Вижу в зеркале свое лицо, распухшее, без
кровинки. И несколько зубов чувствуют себя в деснах посвободнее, чем им
полагается. Я весь в синяках, но серьезных травм вроде бы нет.
В конторе, где меня зарегистрировали для выдачи пособия, обнаруживаю,
что половину месячной суммы удержали за носовой платок и шляпу. Получаю
деньги. Их кот наплакал.
Мне дают адрес магазина подержанного платья, там я покупаю длинное
пальто. Оно старое, но, по крайней мере, прячет зеленую робу. С половиной
денег пришлось расстаться. Иду в соседнюю секцию. Я не отказался от
намерения встретиться с доктором Джойсом. Скоро устаю, приходится сесть на
трамвай и заплатить за билет наличными.
- Травма на три этажа ниже, в двух кварталах к Королевству, - сообщает
юный секретарь, когда я добираюсь до приемной своего лечащего врача. И он
снова утыкается в газету. Кофе или чаю на этот раз не предлагает.
- Я мистер Орр. Мне нужно встретиться с доктором Джойсом. Помните,
вчера мы с вами об этом говорили? По телефону.
Молодой человек устало поднимает ясные, как хрусталь, очи, оглядывает
меня с головы до ног, прикладывает к гладкой щеке наманикюренный палец,
втягивает воздух через чистейшие, даже чуть светящиеся от белизны зубы.
- Мистер... Орр? - Он поворачивается заглянуть в картотеку. Мне снова
дурно. Сажусь на стул. Секретарь смотрит на меня возмущенно:
- Кто вам позволил садиться?
- А что, я спрашивал разрешения?
- Ну ладно... надеюсь, пальто на вас чистое.
- Я могу повидать доктора?
- Я ищу вашу карточку.
- Так вы меня помните или нет?
Он долго меня разглядывает.
- Да, но ведь вас, кажется, перевели.
- А что от этого меняется?
Он с язвительным смешком качает головой и роется в картотеке.
- Ну, так я и думал, - говорит он, прочитав текст на красной карточке.
- Вы переведены.
- Я это уже заметил. Мой новый адрес...
- Нет, я в том смысле, что у вас теперь другой врач.
- Не нужен мне другой врач. Мне нужен доктор Джойс.
- Да что вы говорите? - Он смеется и стучит пальцем по красной карте. -
Боюсь, придется вам уйти ни с чем. Доктор Джойс вас к кому-то перевел, и все
тут. И если вас это не устраивает, что с того? - Он кладет красный лист
обратно в картотеку. - А теперь будьте любезны выйти.
Я подхожу к двери в кабинет доктора. Она заперта.
Молодой человек больше не поднимает глаз от бумаг. Я пытаюсь заглянуть
в кабинет через матовое стекло, потом вежливо стучу.
- Доктор Джойс! Доктор Джойс!
Секретарь хихикает. Я поворачиваюсь к нему, и тут звонит телефон. Юноша
отвечает:
- Клиника доктора Джойса. Сожалею, но его сейчас здесь нет. Он на
ежегодной конференции руководящих работников. - При этих словах секретарь
разворачивается вместе с креслом и смотрит на меня с презрительным
снисхождением. - Две недели, - ухмыляется он мне. - Код межгорода
подсказать?.. О да, офицер, доброе утро. Да, конечно, мистер Беркли. Как
пожи... О да! В самом деле? Стиральная машина? Да неужто? Ну, должен
сказать, это что-то новенькое. Мм... гм... - Юный секретарь напускает на
себя профессиональную важность и пишет в блокноте. - И много ли он съел
носков? Так-так... Хорошо. Да, понял и немедленно отправляю своего
заместителя в автопрачечную. А вам желаю чудесно провести день. До свиданья,
мистер Беркли.
У моего нового врача фамилия Анцано. Помещение у него в четыре раза
меньше, чем у Джойса, и восемнадцатью этажами ниже, без вида на море. Анцано
стар, пузат, с редкими желтоватыми волосами и зубами им в тон.
Прождав часа два, я удостаиваюсь чести побеседовать с ним.
- Нет, - говорит доктор. - Скорее всего с переводом я не смогу помочь.
Да я здесь и не для этого, видите ли. Дайте время прочитать вашу историю
болезни. Наберитесь терпения. У меня сейчас и так забот по горло. Как только
освобожусь, мы подумаем, как вернуть вам здоровье. Хорошо? - Он старательно
изображает бодрость и участие.
- Ну а пока? - Меня охватывает усталость. Наверное, выгляжу я ужасно: в
лицевых мышцах пульсирующая боль, у левого глаза сужено поле зрения, волосы
грязные, да и побриться мне сегодня не удалось. Разве могу я в таком виде
убедительно претендовать на свой прежний образ жизни? Я же одет черт-те во
что и вообще потрепан и в прямом, и в переносном смысле.
- Пока? - недоуменно переспрашивает доктор Анцано и пожимает плечами. -
Вам рецепт нужен? У вас достаточно того, что вам прописывали?..
Он тянется за рецептурной книжкой. Я мотаю головой:
- Я о том, как мне теперь быть...
- Тут я вряд ли могу существенно помочь, мистер Орр. Я же не доктор
Джойс. Мне даже себе помещения побольше никак не выхлопотать, что уж тут
говорить о пациентах... - В словах пожилого врача звучит горечь, похоже, его
раздражает мое присутствие. - Вам остается лишь ждать пересмотра вашего
дела, а я дам все рекомендации, которые сочту нужными. У вас ко мне больше
нет вопросов? Я очень занятой человек, мне, знаете ли, некогда на
конференциях краснобайствовать.
- Вопросов больше нет, - успокаиваю его. - Спасибо, что уделили мне
время.
- Не за что, не за что. Мой секретарь свяжется с вами и известит насчет
приема. Обещаю, это будет очень скоро. Если вам еще что-нибудь понадобится,
звоните.
Возвращаюсь в свою комнату.
В дверях снова появляется мистер Линч.
- А, мистер Линч! Добрый день!
- Что с тобой стряслось, приятель?
- Имел неосторожность повздорить с отвратным привратником. Да вы
входите, входите. Устроит вас этот стул?
- Я задерживаться не могу. Вот, принес. - Он сует мне в руку
запечатанный конверт.
На бумаге остались следы пальцев мистера Линча. Я вскрываю. - Почтальон
в дверях оставил. Ведь так и спереть могут.
- Спасибо, мистер Линч, - говорю. - Вы уверены, что не хотите остаться?
Я надеюсь отблагодарить вас за вчерашний добрый поступок, пригласив сегодня
на ужин.
- Да ну? Спасибо, приятель, только сегодня не могу. Сверхурочная у
меня.
- Ладно, тогда как-нибудь в другой раз. - Я смотрю на письмо, оно от
Эбберлайн Эррол. Просит прощения за наглое использование моего имени - под
предлогом ужина со мной хочет сбежать с вечеринки, грозящей скукой смертной.
Не желаю ли я стать ее сообщником, постфактум? Она записала номер телефона в
апартаментах ее родителей и просит позвонить. Читаю адрес на конверте.
Письмо переслали сюда из моей прежней квартиры.
- Ну, чего? - спрашивает мистер Линч, так глубоко засунувший руки в
карманы пальто, как будто карманы его брюк набиты краденым свинцом и он изо
всех сил пытается их удержать. - Новости-то хорошие хоть?
- Да, мистер Линч. Одна молодая леди хочет, чтобы я пригласил ее на
ужин. Мне надо позвонить по телефону. Но не забудьте: вы следующий в списке
тех, кого я намерен угостить, насколько это позволят мои скромные средства.
- Да как скажешь, приятель.
Удача пока на моей стороне - мисс Эррол оказывается у родителей.
Человек, которого я принимаю за слугу, отправляется ее искать. Ожидание
стоит мне нескольких монеток. Вероятно, апартаменты у семейства Эрролов
довольно внушительных размеров.
- Мистер Орр? Алло? - Похоже, она запыхалась.
- Добрый день, мисс Эррол. Я получил ваше письмо.
- Да? Хорошо. Вы сегодня вечером как, свободны?
- Я бы очень хотел с вами встретиться, но...
- Что случилось, мистер Орр? У вас простуженный голос.
- Простуда ни при чем, у меня рот... - Я замолкаю на несколько секунд.
- Мисс Эррол, я правда очень хочу вас увидеть, но боюсь... в моей жизни
наступила черная полоса. Меня перевели. Можно сказать, понизили в должности,
причем существенно. Это доктор Джойс меня опустил, если можно так
выразиться. Если точнее, на уровень У-семь.
- Да?
Бесцветный тон, с каким она произносит это простое слово, дает мне
больше, чем дал бы целый час вежливых объяснений о праве собственности,
социальном положении, благоразумии и такте. Возможно, от меня ждут
продолжения разговора, но это выше моих сил. Сколько длится мое молчание?
Секунды от силы две? Три? По меркам моста это пренебрежимо мало, однако я
успеваю пережить гамму чувств в диапазоне от отчаяния до гнева. Что же
делать? Бросить трубку, уйти, порвать с мисс Эррол немедленно и навсегда?
Положить конец этой пытке? Да, я так и сделаю. И пропади оно все пропадом!
Бросаю трубку! Вот сейчас... Да, сейчас же...
- Простите, мистер Орр, я отходила дверь затворить. Тут мой братец
рядом сшивается.
Так куда, говорите, вас перевели? Я могу помочь? Хотите, сейчас приеду?
Орр, ты идиот!
Облачаюсь в одежду брата Эбберлайн Эррол. Девушка появилась у меня за
час до условленного времени, с чемоданом, полным ношеных шмоток, в основном
ее братца. Мисс Эррол сочла, что у нас с ним примерно одинаковое
телосложение. Пока я переодевался, она ждала за дверью. Ужасно неприятно
было оставлять ее в столь вульгарной обстановке одну, но вряд ли она смогла
бы находиться в комнате.
И вот я выхожу. Она ждет в коридоре, прислонившись спиной к стене,
согнув ногу в колене и упершись пяткой в стену, так что ягодица касается
каблука. Руки сложены на груди. Мисс Эррол разговаривает с мистером Линчем,
а тот глядит со смесью подозрения и благоговения на лице.
- О нет, дорогой, мы всегда в конце тайма меняемся сторонами, -
досказывает Эбберлайн Эррол анекдот и хихикает.
Мистер Линч ошалело таращится, а потом разражается хохотом. Мисс Эррол
замечает меня:
- А, мистер Орр!
- Он самый. - Отвешиваю легкий поклон. Впрочем, не такой уж и легкий.
Эбберлайн Эррол смотрится просто великолепно в мешковатых брюках из
грубого черного шелка, жакете такого же цвета, шелковой блузе, сапогах с
высокими каблуками и потрясной шляпке. Девушка делает мне комплимент:
- Да у вас просто сногсшибательная фигура, мистер Орр.
- Сильно сказано.
Мисс Эррол вручает мне черную трость:
- Ваша тросточка.
- Спасибо.
Она протягивает руку и ждет. Мне приходится подставить локоть. Рука об
руку мы смотрим на мистера Линча. Я чувствую тепло мисс Эррол через куртку
ее брата.
- Что скажете, мистер Линч? Разве плохо мы смотримся? - спрашивает она,
выпрямляясь и вскидывая подбородок.
Мистер Линч смущенно кашляет:
- Ага... Очень... очень... - Он с трудом подыскивает подходящее слово:
- Очень... красивая пара.
Как хочется в это верить! Вроде бы мисс Эррол тоже польщена.
- Спасибо, мистер Линч. - Она поворачивается ко мне: - Не знаю, как вы,
а я проголодалась.
- Так какие у нас теперь приоритеты, мистер Орр?
Эбберлайн Эррол перекатывает между ладонями стакан, глядит сквозь
голубое свинцовое стекло и бледно-янтарную жидкость на пламя свечи. Я
любуюсь ее смоченными виски губами, влажно блестящими в мягком свете.
За ужин платит мисс Эррол, она на этом настояла. Мы сидим за столиком у
окна в ресторане "Высокие прогоны". Здесь просторно, вкусная еда,
вышколенная обслуга, отменные вина и красивый вид: по всему морю мигают огни
держащих аэростаты траулеров; сами баллоны плохо различимы, они почти
вровень с нами - смутные глыбы в ночном небе отражают многочисленные огни
моста. Еще заметны несколько самых ярких звезд.
- Мои приоритеты?
- Да. Что важнее вернуть: статус любимого пациента доктора Джойса или
утраченную память?
- Гм... - Я только теперь задумываюсь об этом по-настоящему. -
Безусловно, потеря привычных благ воспринимается довольно болезненно и
доставляет уйму неудобств, но я, наверное, в конце концов научусь жить
сообразно своему новому положению, если судьба не предложит чего-нибудь
получше. - Потягиваю виски. Мисс Эррол смотрит на меня с бесстрастным
выражением. - Однако неспособность вспомнить, кто я... - Не удерживаюсь от
смешка. - О ней, увы, я не способен забыть. Я всегда буду сознавать, что в
моей прежней жизни что-то было, поэтому, наверное, всегда буду искать.
Знаете, такое ощущение, будто во мне есть какая-то запертая и забытая
комната, и я буду мучиться неопределенностью, пока не найду вход.
- Жутковато звучит. Наводит на мысли о гробницах. А вы не боитесь того,
что можете найти за этой дверью?
- Библиотеку. А библиотек боятся только злые и глупые.
- Так для вас важнее найти библиотеку, чем вернуть апартаменты? -
улыбается Эбберлайн Эррол.
Я гляжу на нее и киваю. Войдя сюда, она сняла шляпку, но волосы не
распустила. И теперь ее голова и шейка выглядят умопомрачительно. И
по-прежнему меня чаруют обманчивые припухлости у нее под глазами. Они словно
защита, словно мешки с песком перед гнездами снайперов. А снайперы - ее
серо-зеленые глаза. Веселые, живые, смелые, уверенные в себе, неуязвимые.
Эбберлайн Эррол глядит в свой бокал. Я собираюсь что-то сказать насчет
складочки, миг назад образовавшейся у нее на лбу, но тут гаснут огни.
Мы остаемся в сиянии нашей свечи, на других столиках тоже качаются и
мерцают огоньки. Включаются тусклые аварийные лампы. Звучит глухое фоновое
бормотание. Снаружи один за другим исчезают огни траулеров. Аэростаты уже не
видны, потому что не отражают свет моста. Очевидно, все громадное сооружение
погрузилось в мрак.
Это самолеты. Они летят с погашенными огнями со стороны Города, их гул
разносится в ночи. Мы с Эбберлайн Эррол встаем и подходим к окну, и рядом с
нами выстраивается много других посетителей, и все вглядываются во мглу,
отгораживая глаза ладонями от слабого света аварийных ламп и свечей,
прижимаясь носами к холодному стеклу, как школьники у витрины со сластями.
Кто-то растворяет окно.
Источник звука - почти на одной высоте с нами.
- Вы их видите? - спрашивает Эбберлайн Эррол.
- Нет. Но, судя по звуку, они совсем близко.
Самолеты невидимы, их навигационные огни не горят. В небе нет луны, а
звезды слишком слабы, им не осветить летательные аппараты.
Звук начинает удаляться. Похоже, темнота самолетам не помеха.
- Как думаете, им это удастся? - спрашивает мисс Эррол, неотрывно
вглядываясь во мрак. От ее дыхания туманится стекло.
- Не знаю, - говорю искренне. - А если удастся, я не удивлюсь.
Она закусывает нижнюю губу, кулачки прижаты к темному оконному стеклу,
на лице возбуждение. Она кажется такой юной...
И тут загораются лампы.
Самолеты оставили свои бессмысленные сообщения - клочки дыма едва
видны, это мгла на фоне мглы. Мисс Эррол садится и берет стакан. Когда я
поднимаю свой, она наклоняется ко мне через стол и заговорщицки произносит:
- За наших бесстрашных авиаторов, откуда бы они ни были.
- И кем бы они ни были, - касаюсь ее стакана своим.
Когда мы уходим, среди более осязаемых ресторанных ароматов едва
улавливается легкий маслянистый чад. Загадочные сигналы исчезнувших
самолетов сливаются друг с другом и текут через структурную грамматику
моста, словно критика.
Мы ждем поезда. Мисс Эррол курит сигару. В роскошном зале ожидания
играет музыка. Девушка потягивается в кресле и позевывает.
- Извините, - говорит она и добавляет: - Мистер... постойте, если я вас
буду звать Джон, вы согласны звать меня Эбберлайн? Но только не Эбби?
- Ну разумеется, Эбберлайн.
- Договорились, Джон. Как я поняла, ты совсем не в восторге от своего
нового жилища?
- Это лучше, чем ничего.
- Да, разумеется, но...
- Но все-таки не ахти. И без мистера Линча я бы там совсем пропал.
- Гм... да, наверное. - У нее задумчивый вид. Она пристально глядит на
свой черный блестящий сапог. Проводит пальцем по губам, серьезно смотрит на
сигару. - О! - Гладивший губы палец показывает вверх. - Идея! - Теперь ее
улыбка шаловлива.
- Это мой дедушка по отцовской линии построил. Секундочку, найду
выключатель. Кажется, он где-то... - Раздается глухой удар. - Черт! - Мисс
Эррол хихикает. Слышу ритмичный шелест, - кажется, это плотный шелк трется о
гладкую женскую кожу.
- Ты цела?
- Цела! Голенью стукнулась. Где-то здесь они, лампы. Кажется, нашла...
нет. Вот зараза, ничего не вижу. Джон, у тебя, случайно, зажигалки не
завалялось в кармане? Я от последней спички прикурила.
- Извини, нет.
- Черт! А тросточку не одолжишь?
- Пожалуйста. Держи. Да вот она... Нашла?
- Да, спасибо, взяла. - Я слышу, как она постукивает и поскребывает,
ищет путь во тьме. Ставлю на пол чемодан и жду, - может, глаза привыкнут к
мраку и удастся что-нибудь различить. Вроде бы в углу есть что-то светлое,
но все остальное абсолютно черно. Издали доносится голос Эбберлайн Эррол: -
Он хотел гнездышко рядом с эспланадой, а здесь - самое подходящее место. А
потом наверху построили спортивный центр. Дедуля был слишком горд и не
согласился взять компенсационный выкуп, поэтому квартира осталась в семье.
Папа хотел продать, да никто не предлагал хорошей цены. Вот мы и устроили
здесь кладовку. Кое-где потолок отсырел, но мы починили.
- Ясно. - Я слушаю девушку, но воспринимаю только звуки моря.
Поблизости о камни или пирсы разбиваются волны. Я и чувствую море - в
воздухе господствует его сырая свежесть.
- Ну наконец-то, - звучит приглушенный голос Эбберлайн Эррол.
Щелчок - и все освещено. Я стою в огромной полутораэтажной квартире,
преимущественно с открытой планировкой. Кругом полно старой мебели и
упаковочных ящиков. С высокого, в пятнах сырости, потолка гроздьями свисают
причудливые люстры, стены облицованы потемневшими от времени деревянными
панелями, лак с них облупился. Везде - белые полотнища, они полускрывают
старинные, тяжеловесные серванты, платяные шкафы, кушетки, стулья и комоды.
Другие предметы мебели зачехлены полностью и даже обвязаны веревками - ни
дать ни взять огромные и пыльные подарки. Там, где раньше угадывались пятна
света, сейчас - длинный экран непроглядной черноты, за незашторенными
оконными стеклами видна ночь. Из соседней комнаты появляется Эбберлайн
Эррол, широкая плоская шляпка все еще на ее голове. Девушка хлопает в ладоши
- отряхивает пыль.
- Ну, так-то лучше. - Она оглядывается. - Тут чуток сыро и пыльно, зато
тихо. И места побольше, чем у вас на У-седьмом. - Она возвращает мне
тросточку, потом ходит среди мебели, откидывает простыни и чехлы,
заглядывает под них. При этом она поднимает тучи пыли и чихает. - Тут где-то
должна быть кровать. - Она кивком указывает на окна: - Может, закрыть
ставни? Обычно здесь сумрачно, но утром солнце может разбудить.
Я пробираюсь к высоким окнам - кускам обсидиана в обрамлении
потрескавшейся белой краски. Загораживаю пыльные стекла тяжелыми ставнями,
они при этом громко скрипят. Снаружи, внизу, я вижу изломанную линию прибоя
и несколько огней вдали - это навигационные фонари и бакены. Выше, там, где
должен находиться мост, - только беззвездная мгла. Волны блестят миллионами
тупых ножей.
- Вот она. - Эбберлайн Эррол находит кровать. - Кажется, отсырела
немножко, но я найду побольше простыней. Они где-то здесь, в этих ящиках.
Кровать огромна. Изголовье резного дуба изображает пару огромных
распростертых крыл. Эбберлайн, в клубах пыли, идет рыться в шкафах и ящиках.
Я испытываю кровать на прочность.
- Эбберлайн, это очень любезно с твоей стороны. Но ты уверена, что у
тебя не будет из-за этого проблем?
Она громко чихает рядом с далеким ящиком.
- Будь здорова, - говорю.
- Спасибо. Нет, я не уверена. - Она стягивает с ящика простыни и
газеты. - Но если вдруг отец каким-то образом прознает и рассердится, я
наверняка смогу его уговорить. Не беспокойся, сюда никто не ходит. Ага! -
Она обнаруживает толстый плед, несколько простыней и подушку. Зарывается
лицом в плед, глубоко вдыхает: - Да, вроде сухой. - Она стелит кровать.
Я предлагаю содействие, но получаю отлуп. Тогда снимаю пальто и
отправляюсь искать ванную комнату. Она раз примерно в шесть больше комнаты
306 на уровне У-7. Одна ванна чего стоит - в ней может поплавать приличных
размеров яхта. Туалет просто шикарен. Умывальник работает, душ и биде тоже
дают водяные струи. Я задерживаюсь перед зеркалом, зачесываю волосы назад,
оправляю рубашку, смотрю, не застряли ли кусочки пищи в зубах.
К моему возвращению в комнату постель уже готова. Над белым одеялом из
утиного пуха раскинулись громадные дубовые крылья. Эбберлайн Эррол ушла.
Входная дверь медленно покачивается на петлях.
Я закрываю дверь, гашу почти все огни. Нахожу старую настольную лампу и
ставлю ее на ящик рядом с огромной холодной постелью. Потом лежу и
разглядываю на потолке большие тусклые следы давно пролитых слез.
А они, словно древние фрески, глядят в ответ, отражая круглый стигмат
на моей обнаженной груди.
Я дотягиваюсь до старой лампы и снова включаю тьму.
"Злезь на Покойника", - скозал мине етат старый убльюдок када я па
питался палучит ат ниво коикакии свиденя. Ты гаварю старий долбаной
изврашченетс закаво ты миня принимаиш. Тирпение мае лопнуло и я падрезал иму
глодку. Я тибя спрашиваю где ста долбана Спяшчая Кросавитса и нахрена мине
сдалса твой пакойник. "Нет, нет, - гаварид и крававими слунями всю маю новую
керасу за бризгал. - Это скалу звать Покойник. На ней стоит замок, там ты и
найдешь Спящую Красавицу, но только не забудь, что надо остерегаться..." - и
тута убльудок памираит пависнуф на мине. Вот видь думаю зашибис ета ж
аффигеть можна. Насраение упала канешна да тока ничиво ни паделаишь чо
случилас то случилас.
Ни как ни мог вспомнит где ета я ранше слухал про Спяшчу Кросавитсу но
видь слухал ета тотчна. Сичас кругом стока всякой магии куцы ни пльунь
валшебники калдуны и ведь мы. В какой горад ни зойди абизатилно на поришса
на какованибуть убльудка каторый на водид чары и гаварид за клинания и на
равид кавонибуть привратить в лигужку или чирвяка или пляватильнитсу или ишо
чаво. Многа сичас розвилос хитразадых пидрил да видь нада камуто и навое па
палям раз кидывать и дама строить и хлеп растидь и все такое верна видь. В
падобных дилах магия ни охти кака памошнитса. Ана хараша када нада рыжывье
ховать и памядь адшибать и приврашчать льудей в то во што ани приврашчатца
ни хатяд и все такое протчее а ни када нада пачинить калисо долбаной павозки
или откапать поели паводка фамильну халупу из ричнова ила. Такчо вы миня
лутчше ни спрашевайти какета магия дейзтвуид можид ия навсех ни хватаид или
шо адин калдун накал давал другой фзад разкалдуид коротчи нетак ана крута
как ие разписываюд или на верна мир уже давно был бы афигенна чюдестным и
щасливым и люди жыли бы в мири и гормонии и па мне так ета било бы проста
зашибис. Но жызнь такава какава ана ест и па мне так ета савсем ни плоха
патамушта инатче ни нужны били бы парни в роди миня и кака мине с таво
радост верна видь да и скукатень била бы.
А ваще нынтче жетуха ничиво работы завалис в аснавном патаму што все
eти калдуны такие хитрамудрые што за бывайюд пра тошто метч могет койчиво
делат чиво валшебство ни могет асобена када твой пративник ждет от тибя
закленания а ни удара метчом. Ващето я и сам об завелся койкакими валшебными
даспехами а ишшо дабыл закалдовоный ножытчек каторый пра сибя думал што он
баивой кинжял и все такое протчее но я им пачти ни ползуюз. Лутчи полагаца
на сваю крепку руку и острий метч вот што я вам скожу.
- Мой первый имеет английский король И то, где грызутся за главную
роль. Второй - меж клыков, источающих яд, И в лицах людей, что над мертвым
скорбят. Их вместе нельзя обнажать просто так, Но если уж вынул... (Ответ -
не елдак.)
Ни обрашчайти внымания ета долбаный ножытчек нисет всяку чуш. Атвет
кстати кинжял. Дуратчина этот ножытчек ни мазгоф ни граматы. А ишшо у ниво
отчень писклиавый галасишко и как он мине инагда на не вы действуид эта ж
проста аффигеть можна. Правда под час ета штутчка дрьютчка бываид палезной
ана на пример спасобна видить в тимнате и ишшо гаварид мине кто мой друк а
кто врак и клянус ана пару рас випрыгивола из маих рук и литела как птитца и
ванзалас прям в глодку убльюдку каторый мине даставлял ниприятности. Нужная
штуковвина. Раньши ана была у дивитцы у юной кастлявой ведь мочки. Ие
дамагалси адин калдун а ана ни хатела играть с ним в ети игры и тада нанила
миня штобы я пазаботилса о старом казле и ета юная дивитца дала мине в
награду ножытчек скозала ето токо копия но ана явилас из будушчево и можид
тибе пригадица.
И ета была ни идинствена мая нограда. Знаити што за чудиса ети ведь мы
в койки вы тваряюд? Зашибис проста аффигеть можна. Каданибуть ишшо ее
навешчу при слутчае.
Вобщим гдета я услухал пра Спяшчу Кросавитцу и ришил узнать где жи ана
абритаица но аказалось што ета савсем нилегкая задатча. На конетц мине
папался етот калдун каторый росказал пра сколу Пакойник но тока я иво при
контчил ранше чем он успел мине росказать все што знал. Пажалуй эта я
патарапилса всигда тараплюс ест у миня токая слабост но тут ничиво ни
паделаиш низря жи гаваряд што биспалезна пириучиват чилавека на старасти
лет. Хатя я ишшо савсем ни старый ни падумайти чиво. Штобы бить рубакой
найомником нада бить маладым и крепким иуда ретч сичас не об етом. Так на
чом я астанавилса? Ахда на Пакойнике.
Ну каротче гаваря поели многих валнуюшчих прекльутчений я дабралса да
етава волшебника и зоставил иво паказать мине дорошку в какуйта Приисподню.
Прешлос пачти три нидели жарить на медлином агне жырых кошаков но в кантце
кантцов я сваиво до билса. Валшебник наказал мине на правление и дал койкаки
саветы но у миня тада была тупая бошка патамушта наконуни я на пилса вина и
к тамужи очин валнавалса патамушта я сабиралса на конетц вайти в Надземный
Мир. Кароче я за помнил ни все из таво што мине скозал калдун. "Юноша,
остерегайся Леты, реки забвения!" - гаварил валшебник када я стаял в падвале
иво замка и бошка у миня тупая была и я думал здря ты ета ни скозал вчира
перид тем как я ножралса. Чиво чиво астиригаца гаварю. А он кречит: "Леты!"
Лады старикашшка все понял гаварю и станавлюс прям в ету зобавную звездотчку
катору он нарисавал на палу в сваем падвали.
Нихринаж сибе мистечко думаю ета ж проста аффигеть можна. Кругом арут
вапят кречат и зубьями скрижешчут и все при ковоны к стенкам в надземных
калидорах а тут аткуда ни воз мис я са сваим пахмелием. Итак бошка тресчит
атут енти тридзвонят по питался я при кончить койково изетих шумных
убльюдков но ничиво ни вышло. Рубиш их на двое а они все ровно арут кречат и
рвутца с ципей и я ришил с ними ни связывотца. Иду я далше па падземным
калидорам и вижу ямы то с агнем то со лдом и вних люди кречат. А я диржу
метч наисгатофку а ишшо думаю эх жаль бутылотчку шатланскаво ни при хвотил
патамушта сушняк спахмела страшенный.
Иду я сибе иду и скока миль уже атшагал хрен сащитаиш. Иду и думаю што
можид поизд черис менуту-другую падайдед падкинид хоть но хрена лысава тока
ети убльюдки дастали все вапят арут кречат и дергаюца а ишо ниприятны дым и
агни и лды и ветпр воюшчий и ишшо хрензнат што и я уждумаю ни ис пить ли
водитцы из лединова озирца но тута вспаминаю слова калдуна пра Лету и воз
держиваюс.
Но пастипено все стихаит. Иду я сибе иду па длиному танелю и вот вижу в
кантце чевота в роди днивнова света но тока он очинь тусклый и скушный и я
выхажу в низу балшова утеса перид рикой а вакрух сплош аблока да туман. И ни
душы долбоной и даже етих балтливых убльудков с ципями ни слыхать. Уже
натчинаю думать што валшебник мине укозал ннверну дарогу. И пить хода снлна
и все ишчу пывнушку или ченибуть в роди а кругом тока коминюки и рика мимо
медлина тикет. Иду я иду па беригу и тута вижу каковата мужыка он котит
балшой волун на склон халма. Я иму гаварю здарова мужык я пириправу ишчу где
тута можна сесьть на парахот. Можа где при стань паблизости а? Да тока етот
убльудок дажи ни павернулса. Котит свою долбону коменюку прям в верх. Но
тута комишока сарвалас и покотилас в низ а глупый пидрила за ней пагналса. Я
кречу эй ты а мужык ни атвичаит. Эй ты казел гаварю я каво с прашиваю где
тута при стань и парахот. И плошмя бью метчом дурака по заднитце и забигаю
перид коминюкой и ни даю ей далше котица.
Да тока ни визет мине у порно муджик разговариват толком ни магет
балбочит на какомта инасраном языке. Вот видь зараза думаю и пытаюс иму
знаками вталковат што мине надо и хатя он в роди бы понял всеровно ни
гаварид и тада я скозал што памагу иму закотить волун на горку если атветит
на мой вапрос. Хитрый убльудок захател штобы я снатчала закотил коминюку. Я
так и зделал и пака он диржал волун я иво падпер камишками памелче штоб ни
скотилса. Мужыку eтa страшно панравилос он покозал на бериг рики и скозал
"Хрен" или штота в етом роди и утопал в туман аставив здаравеный каминь на
виршине халма.
Я тада по тащилса далше па беригу етой долбоной туманой рики и патом
увидил балшую птитцу ана литела в тумани и арала. Я за метил што ана
апустилас на сколу к каторой был приковон ципями какойта мужык вспарола иво
кльувом и стала вы рывать и жрать иво патроха а бедный убльудок арал и выл
так што мог бы паднят мертвово но пака я туда шол я на верна спугнул птитцу
и ана у бралас. Я ришил пасматрет как там дила у парня аказалос он уже па
правилса дажи шрама ни асталос там где арел полднитчал. Звини гаварю тчувак
я тута ишчу пириправу можа под скажиш?
Визет же мине на етих долбоных инасрантцев. Я снова па питалса знаками
паказать но мужык кажис не понял знай сибе арет и ципями трисет. Я ришил што
напрастно тиряю время все ровно што кавырят в насу рукой в пирчатке. Тута
вирнулас птитца и стала арать и кидаца на миня и целить кльувом мине в
бошку. Я уже был ни в насраении всяки глупости тирпеть а патаму махнул
метчом и атрубил ей крылыжко. Птитца упала в рику и паплыла креча и
борахтаяс а тчувак на скале абизумел от радости за арал и за гремел ципями.
Лады гаварю преятиль можиш ни благадарить. И спустилса со сколы.
Но при стани так и ни нашол. И вот стаю я перид рикой и думаю ни
хлибнуть ли из ние.
Мой первый имеет картежный игрок И северный витязь, который двурог.
Второй был разбит на священной горе...
За ткнис и ни вякай гаварю ножытчку и трясу им перид сваей фезиономией.
Я жудко злой патаму што все хажу хажу а толку нет и бошка все ишшо с
похмелия балит.
Содержится первый в похлебке из рыб И в смехе, исторгнуть который могли
б Владельцы второго: монарх-лицедей И средневековый помещик-злодей, Услышав
подобный ответ от меня: "Похлебка с монархом? Да это ж..."
Ты убльудок ишшо чивонибудь вякниш и будиш патом разгавариват с крабами
и рыбами понял пригразил я ножытчку. И тута я увидил как из тумана выходит
лотка с веслами а в ней мужык здаравеный такой урод в чорных лахмотях. Стаит
он в лотке руки слажил на пузи и рожа высокамерна такайа. А я ни магу панять
как лотка то двигаица наверна магия каканибудь. При стает лотка к беригу
перидо мной я зализаю и мужык мне руку пратягиваит. Я ие нажимаю а он
гаварид плати молыш и руку ни апускаит.
Тута я метч дастал ета ж аффигеть можна с етими инасрантцами. При
ставил астрие к иво глодке а иму кажица хоть бы хны. Ета ты гаварю Хрен.
"Харон", - атвичаит как ни в чом ни бывало. Так вот гаварю у миня дениг ни
многа так што как насчот в долг? А он дажи ни раз думываид сразу бошкой
мотаид. "У тебя должны быть монеты на глазах, все мертвецы обязаны платить
перевозчику". Нихринаж сибе сурпризики думаю ета ж аффигеть можна. Да тока
ято ни миртветц гаварю и он как буто над етим по кумекал. "Совсем
пограничная стража распустилась, - гаварид на конетц. - Ну да ладно, может,
ты и расплатишься со мной, если умеешь орудовать этой железкой". Я тута
смикаю што он имеит ввиду мой метч. А што ты от миня хочиш преятиль
спрашиваю.
Каротче мы сашлис на том што циной маей пириправы чериз рику будит
песяя бошка. Мужык скозал што пес па клитчке Серь-Берь живед на том берегу
на сколе Пакойник и стерижот вхот ва дваретц. "По одной голове он скучать не
будет, - гаварид Харон, - а мне нужно украшение на нос лодки". Ета каким жи
нада быть изврашченцем штоб до такой прозьбы дадумаца но я рассудил што люди
абриченые жыть в стой мидвежией дыре далжны видь какта развликаца.
Па ту сторану рики то же было тумано и тимно. Я аставил Харона в ивоной
лотке а сам пашол па дароге к етому балшому дому типа дварца каторый стаял
на утесе. Па пути я ухо диржал вастро в друк паявица етат пес Серь-Берь. И
правилно делал што астиригалса патаму што чудовишче выскотчило мне
навстретчу из варот када я паднялса на сколу. И у етай долбоной звирьюшки
было ажно три бошки! И все ани рытчали и слюни пускали. И я тута понял што
етот пидрила Харон имел ввиду када гаварил што па одной бошке пес скутчать
ни будит. Адну враз и аттяпал. Тока ета ж скока нада летцензий для ахоты на
таку тварь адну или три. А у псины правалица мне наетом месте бошка апядь
хоп и вырасла.
Шел первый в храм Божий дорожкой кривой По полюшку-полю с травой
кормовой. Второй коченел на ледовой горе, Потом согревался в медвежьей норе.
При встрече заливисто лаяли, но Наивно считать, что разгадка - "гов..."
Тута я кречу эй преятиль лави и выхватываю кинжял каторый между тем
всяку чуш нисет и швыряю сабрыва. И пес купился.
Гляжу я сабрыва и вижу што Серь-Берь шмякнулси в низу об коминюки. И
тада я очинь даволный сабой нагнулса за бошкой а ана возми да покатис
кабрыву. Хател паймать да замеш-колса ана сорвалас и разбилась в смядку об
камни и кинжял я тожи патирял. Вот же гацтво думаю и иду к балшому двартцу в
очинь плахом настраении. А в нутре темно хочь глаз кали. И я дажи ни вижу
куды миня нисет датамушта бошкой страшна треснулси об низку приталоку ажио
искры из глаз ну как о статуйю мраморну прилажился. И ни видна пачти ничиво
можит у миня бошка рас сажена и кров тикет на глаза. Кароче хажу я вслипую и
ошшупью пытаюс апредилить где ста я и натыкаюс на разные вешчи и ругаюс
вавсю. И тута я вдрук слышу шыпение и мима миня литят стрелы и стукаюца об
калоны и стены и падают на каминый пол. А я все ишшо очинь плоха вижу но
мине удаеца раз глядеть в тени какова то страннава убльудка. Он шыпит и
пытаица воткнуть в миня стрилу другую. Ну думаю зашибис ета ж аффигеть
можна. Эх жалка нету при мине таво смышленава кинжяла.
Ей первый любезно приносит пчела И лепит на грудь за лихие дела. Второй
даст одна из сестер девяти За путы, которых прочней не найти. Вдвоем
охраняют волшебный дворец. Ты понял, кто это? Ан поздно - ...
Хватит гаварю всяку долбону чуш нисти жива иди сюда. И вижу как возли
маей руки завис в воз духе валшебный кинджял. Я иво лавлю и кидаю а сам
бросаюс на пол. И та поскуда катора шыпела вдрук издает придушиный
кашляюшчий звук и смолкаит. Я падошол и ета оказываица женшчина ужастная
навид в миня из лука стриляла. Я ишшо плоха вижу но замичаю какие у ние
жудкие волосы прям крысины хвасты наверна с раждения бошку ни мыла. Так и
аставил ие валяца мордой в лужи крови а вот валшебный кинжял выдирнул из ие
глодки. Клянус у етой жудкой бабы кров была што твая кислата от ние дажи дым
шол.
Ну да минета што стово я пашол далше искать Спяшчу Кросавитсу.
Ну нихренаж сибе сурпризики.
Апять аблом! А случилас вот што я на конец нашел комнадку типа келья
адну на весь дваретц в каторой было коешто а в астальных было пусто. Ни
ужастных женшчин ни песов приврадников с лишними бошками и сокровишч тожи
нету. И казалос уже мине што все ета совершено напрастная патеря времини и
от етой мыстли у миня насраение ис портилос но на худой конетц думаю здес
есть красивая дивитца катора спит мертвым сном а штоб ие раз будить нада ие
пациловать. Нащщет пацилуя ни знаю а уж трахнуть ие не откажус канешна.
И вот аказываица ета ни ана а он. Спяшчий Кросавитс. Лижит в койке
мужык рожа вся белая дрыхнит. А кругом всяки железны сундуки панаставлины и
к ниму всяки длинные штуки от етих сундуков тянуца. Проста аффигеть можна. У
миня канешна от такова зрелишча насраение савсем ис портилос и я уж было
сабралса перирезать глодку убльудку да тут вдрук на стине паявилас кортинка
и не прастая а жывая. Бабья рожа притчем даволна симпотитчна с рыжьши
воласами. "Не надо!" - гаварид. Я ни спишу при контчить мужыка падхажу к
кортинке и спрашиваю тыто сутчка кто така. А дивитца гаварид: "Не убивай
его!" Я по кортинке па стучал на стикло пахоже. Зашол в комнату за кортинкой
там нету никаво значид нихрена не акошко. Ета пачиму же я ни должен иво
убивать спрашиваю бабу. "Потому что он станет тобой. Ты его убьешь, а он
будет снова жить, но уже в твоем теле. Уходи, пожалуйста. Не смотри в лицо
Медузе и не бери..." Тута дивитца ищщезаит а кортинка становица серой и
шыпит как та ужастная баба. Я вдарил па стиклу рукаяткой метча но оно тока
раз билос. И адин асколок прям в бошку мине папал и кров снова палилас.
Ладна хрен с вами гаварю и вытераю кров с лоба. Тока сабралса ухадить как
вдрук вижу на падоконике рыжывье. Ета скулптура лигужки или кавота на ние
пахожево. Я ие поднял ничиво увесестая. Сунул в корман штонов и надумал што
пора как гаварица деладь ноги. Мужыка на койки ни тронул хрен с ним он итак
идва дышыт. Хател было паискать дивитцу с кортинки но видь я устал и довно
ни чиво ни ел и ни пил и думаю в гастях харашо а дома лутчше. Пашол на зад в
патемках и идва ни спаткнулса об труп ужастной женшчины. Вспомнил об чем
прасил Харон и падумал што от песих бошек наверна мало што асталос пад
абрывом дажи если туда слезу а возвращаца с пустыми руками не хочица и
атрубил бошку ужастной женшчине и закинул ие сибе за шштчо. У ние воласы
были как змиюки хатите верьте хатите нет.
Вирнулса я к весильной лотке где миня дажидалса Харон высокий такой
уротливый стаит руки на пузи слажил и вид у ниво все та-койже натменный и
при зрительный. Здарова Харон гаварю песа я там не встретил зато при нес
тибе бошку ужастной женшчины надеюс сгодитца. И наказываю иму бошку и качяю
ею перид ним. А он застывает. Хатите верьте хатите нет етат убльудок прям на
маих глазах при врашчаитца в коменюку. И праламываит днишче лотки как статуй
до самава пиздчанава дна тонит. И лотка иво тонит в месте с ним. Ну нихринаж
сибе думаю ста ж аффигеть можна и кидаю бошку ужастной женшчины в воду. И на
фига мине спрашиваица такая жызнь. И ваще пачиму era все праисходит са мной
а ни с кемнебуть другим. Сел я на берижку и пригарюнилса. Проста выдалса
ниудатчный день гаварю сибе ни визет так ни визет.
И тута я в роде как слухаю шум в сваем кормане. Дастаю запатую
статуетку приглядываюс. И правда пахоже на лигужку тока у ние типа крылыжки
на спинке. Паглядел я на ние паглядел на воду и думаю а и хрен с ним авось
периплыву какнибуть. Но пришлос аставить на етом беригу валшебный даспех и
новую керасу. Пояс с метчом я павесил на шею а ишшо етим поясом абвизал
статуетку вашол в воду и паплыл. Носки перид етим не снял а в адин изних за
сунул валшебный кинжял. Плавать я ни мостак но па сабачьи кто изнас ни умеит
правда веть. В кантце кантцов до бралса до таво берига. И водитца в рике на
вкус оказалас ничиво такшто я всетаки уталил сваю жажду. На том беригу
астанавилса у балшой сколы где был мужык приковоный ципями. Арла и след
прастыл. Правда и тчувак на сколе падох у ниво чевота в нутре рас пухло и
вырвалос на ружу все вакрух заляпало. Можит рак а можит ишшо чивонибуть.
Пахоже на ливер. Залатая статуетка все шибуршалас в кормане. Ващето мине
было нипанятно ета я в самом дели слухал галоса или проста мерешчилос аттаво
што бошкой вдарилса. Но я всетаки паднес лигужку с крылыжками к уху и ета
была балшая ашипка.
- Мой мальчик! До чего же это благородный поступок - вызволить меня из
адских сфер. Мне даже не верилось, что телепатия Спящей Красавицы работает
между мирами или что ты сюда доберешься. Я тебя недооценивал. Мог бы,
впрочем, и догадаться, что ты легко сойдешь за тень, - ты ведь у нас никогда
особенно не блистал, верно? А знаешь, я готов поклясться: эти породы -
метаморфические, а не вулканические... Ну что ж, мой маленький Орфей, пора
выбираться отсюда, пока ты не превратился в саловаренный столп или
что-нибудь в этом роде. Предлагаю...
А я думаю зашибис ета ж аффигеть можна.
Мой первый - в...
- Ну и ну! Летательный нож - шарадист! Дружок, да как тебя угораздило
им завладеть? Или как его угораздило завладеть тобой? Сказать по правде,
чего я на дух не переношу, так это машин, которые дерзят и перечат...
МОЛЧАТЬ!!!
Кинжял взял и задкнулси. Малчид таперь втряпотчку. А ета лигужка катору
я диржу возли сваиво уха болше ни залатая. Ана сидит на маем плитче и пахожа
на кошака с крылыжками и голос у ние ужастно...
- Знакомый? - гаварид. - Да, мой мальчик, ты совершенно прав.
Ну нихринаж сибе сурпризики.
Прекращенный поиск... Запах соли и ржавчины. Кругом тьма, захороненная
в основании, чтобы с глаз долой. Тьма бродит через свет и тень под звуки
моря...
Я медленно просыпаюсь; я все еще погружен в грубые, примитивные мысли
варвара. Сюда, в просторное, но загроможденное помещение, огибая края
ставней, просачивается мягкий серый свет; он очерчивает зачехленную мебель и
подпитывает мое пробуждающееся сознание, словно принял его за росток,
пробивающийся через липкую глину.
Меня обвивают, словно веревки, холодные белые простыни. Дремотно
ворочаюсь, пытаюсь устроиться поудобнее, но ничего не выходит. Я связан, я в
ловушке, меня вмиг затопляет парализующий страх, и вдруг сна ни в одном
глазу. Замерзший, в поту, сажусь в постели, вытираю лицо и озираюсь в
сумраке и покое.
Открываю ставни. Тридцатью футами ниже море бьется о камни. Оставляю
нараспашку дверь в ванную, чтобы, моясь, слышать этот неторопливый рокот.
Я завтракаю в скромном баре. Официанты длинными белыми тряпками
протирают ближайшие столы. В воздухе кричат и барражируют чайки. В ту
сторону выходят окна кухни, и птицам бросают обрезки. Мерцает белизна
крыльев. Тряпки громко шлепают по столам. По пути сюда я зашел в комнату
306, посмотрел, нет ли для меня почты. Ничего. Внизу по-прежнему режут
листовое железо.
Я долго пью последнюю чашку кофе.
Неспешно перехожу с одного бока моста на другой. Почти все траулеры
сейчас держат по два аэростата воздушного заграждения. Некоторые аэростаты,
похоже, заякорены прямо на морском дне. Там, где тросы встречаются с водой,
на волнах покачиваются оранжевые буйки.
На ленч я взял сандвич и бумажный стаканчик чая и устроился на скамье с
видом вверх по течению. Погода меняется, свежеет, небо постепенно
затягивается тучами. Когда меня сюда прибило, стояла ранняя весна, а нынче
лето уже почти на исходе. Мою руки в туалете на трамвайной остановке, сажусь
в общий вагон и еду в ту секцию, где должна быть потерянная библиотека. Ищу
и ищу. Осмотрел все встреченные шахты лифтов, но L-образной кабины и старого
служителя так и не нашел. На мои вопросы все отвечают лишь равнодушными
взглядами.
Поверхность моря сейчас серая, как небо. Тросы аэростатов натянуты чуть
ли не до звона. Мои ноги гудят от бесчисленных ступенек. В грязное стекло
верхних коридоров барабанит дождь. Сижу там, пытаюсь набраться сил.
В самом верхнем коридоре, темном и протекающем, нахожу под разбитым
световым люком кучную стайку белых шариков. Они шероховатые и очень твердые
на ощупь. У меня на глазах очередной мячик влетает в пробоину и падает на
пол коридора. Я вытаскиваю из ниши поеденный молью стул, ставлю его под
световой люк, забираюсь и просовываю голову в дырку.
Вдали виднеется рослый старик с седой шевелюрой. На нем гольфы, джемпер
и кепка. Длинной тонкой битой он замахивается на что-то, лежащее у него под
ногами. Ко мне по высокой дуге летит белый шарик.
- Эй, впереди! - кричит старик. Наверное, ко мне обращается. Он
жестикулирует, а мячик падает возле светового люка и отскакивает. Старик
снимает кепку, упирает руки в бока и глядит на меня. Я спрыгиваю со стула и
нахожу винтовую лестницу наверх. Когда я появляюсь на крыше, старика и след
простыл. Но зато там траулер, окруженный рабочими и чиновниками. Он лежит за
поврежденной радиобашенкой, спущенные баллоны свисают с ближайших ферм. Они
похожи на обломанные черные крылья. Льет дождь, дует сильный ветер.
Вздуваются и блестят полы плащей и непромокаемых накидок.
Тусклый и сырой ранний вечер. У меня болят ноги, урчит в животе.
Покупаю сандвич и съедаю его в трамвае. Меня ждет долгий и утомительный
спуск по однообразной винтовой лестнице к старой квартире Эрролов. К тому
времени, когда добираюсь до нужного этажа, ноги уже как чугунные. В
безлюдном коридоре я себе кажусь вором-домушником. Иду, держа перед животом
ключ от апартаментов, точно крошечный кинжал.
Внутри холодно и темно. Включаю несколько ламп. Снаружи пенятся серые
валы, а комната наполнена запахом йода и соли. Закрываю ставнями окна и
ложусь на постель. Собираюсь лишь минутку полежать, дух перевести, но
засыпаю и возвращаюсь на болото, где невероятные поезда гоняют меня по узким
туннелям. Наблюдаю за тем, как варвар шествует в преисподней, где вой и
скрежет зубовный; я - не он, я прикован к стене, я взываю к нему... А он
идет размашистым шагом, неся меч в опущенной руке... Я опять на крутящемся
чугунном мосту, сквозь который течет река. Бегу и бегу под дождем, а ноги
болят, болят...
Снова просыпаюсь, весь мокрый от пота, не от дождя. Мышцы ног сведены.
Звенит звонок. Полуобморочно шарю в поисках телефона. Снова звонки, и я
понимаю, что это в дверь.
- Мистер Орр? Джон?
Встаю с кровати и приглаживаю разлохмаченные волосы. В дверях стоит
Эбберлайн Эррол в длинном темном пальто, ухмыляется, как озорная школьница.
- Эбберлайн? Здравствуй. Проходи, пожалуйста.
- Ну как ты, Джон? - Она властно вторгается в комнату, оглядывается,
приподнимает голову и смотрит на меня. - Все в порядке?
- Да, спасибо. Что если я предложу твой же стул? - Затворяю дверь.
- Можешь мне предложить моего же вина, - говорит она со смехом,
крутнувшись на одной ноге и взметнув полы пальто. Ко мне плывут запахи
каких-то резких духов и крепких напитков. У нее поблескивают глаза. - Вон
там. - Она указывает на полузакрытый белой простыней шкаф. - А я принесу
бокалы. - Она идет на кухню.
- Ты вчера вечером так внезапно меня покинула, - говорю, открывая шкаф.
Там полки, полки, полки. А на полках - бутылки с винами и кое-чем покрепче.
- Что? - возвращается она с двумя бокалами и штопором.
Я выбираю вино, не слишком старое и дорогое на вид.
- Я решил тут осмотреться, а когда вернулся, тебя уже не было.
Она вручает мне штопор. У нее озадаченное выражение лица.
- В самом деле? - спрашивает неуверенно. На лбу пролегает складка. - Ах
да! - Она улыбается, пожимает плечами, садится на застеленную простыней
кушетку. Эбберлайн еще не сняла пальто, но мне видны черные чулки, черные
туфли на высоком каблуке, что-то красное у ворота и краешек красного подола.
- Я была на вечеринке.
- Вот как? - Я откупориваю бутылку.
- Хм. Не веришь - оцени мой наряд.
- Почему бы и нет?
Она встает и отдает мне бокал. Расстегивает длинное черное пальто,
легким движением сбрасывает его с плеч и бросает на стул. Производит пируэт.
На ней обтягивающее платье из алого атласа. Длиной до колена, однако с
разрезами до верха бедер. Когда она кружится, я вижу гладкую полоску белой
кожи между густой чернотой чулок и краем черного же кружева. Высокий ворот
почти скрывает тонкую черную горжетку. Плечи подбиты, лиф - нет.
Эбберлайн Эррол останавливается, упирает ладони в бедра и смотрит на
меня. У нее голые руки; темный пушок на них создает эффект черного контура.
Лицо с искусно наложенным макияжем, ироничный взгляд. Внезапно она
поворачивается и сует руку в карман пальто и достает какие-то вещи. Сперва я
их принимаю за другую пару чулок, но это оказываются черные перчатки. Эррол
их надевает; они почти достают до локтей. Из ее горла вырывается смешок.
Следует еще один балетный пируэт.
- Что скажешь?
- Как я догадываюсь, это была неформальная вечеринка? - Наливаю вино.
- Что-то вроде бала-маскарада. Я изображала женщину легкого поведения,
но так нагрузилась... - Она прикладывает ладонь ко рту и смеется. И, взяв у
меня бокал, делает реверанс.
- Эбберлайн, ты выглядишь просто сногсшибательно, - говорю серьезно и
за это получаю очередной реверанс.
Она глубоко вздыхает и проводит рукой по волосам, поворачивается и идет
неторопливо, постукивая костяшками по старому высокому буфету из темного,
щедро лакированного дерева, проводит по нему длинными пальцами в перчатках.
И пьет вино. Я смотрю, как она огибает зачехленную и незачехленную мебель,
отворяет дверцы, заглядывает в ящики, приподнимает за углы белые полотнища,
стирает ладонью пыль со стекол и инкрустации, неслышно напевая и отхлебывая
вино маленькими глотками. Кажется, я на время забыт. Но я не обижаюсь.
- Ничего, что я пришла? - Она сдувает пыль с торшера.
- Ну что ты! Я очень рад.
Она оборачивается, на лице опять улыбка. Но уже в следующий миг она
хмурится и глядит на серое море и дождевые тучи за окнами и кладет ладони на
свои обнаженные предплечья, не выпуская ножки бокала из пальцев. Делает
маленький глоток. Есть что-то странное и даже трогательное в этом жесте -
быстром, вороватом, почти детском, неосознанно кокетливом.
- Замерзла. - Она поворачивается ко мне, и в серых глазах, кажется,
сквозит печаль. - Не закроешь ставни? Там так холодно... А я огонь разведу.
Хорошо?
- Конечно. - Ставлю бокал и иду к окну. Со стуком отгораживаюсь
высокими деревянными панелями от сумрачного дня.
Эбберлайн убеждает старый газовый камин зажечься и, оставаясь перед ним
на корточках, протягивает руки в перчатках к огню. Я сажусь поблизости на
зачехленное белым кресло. Она смотрит на огонь. Тот шипит.
Через некоторое время она, словно очнувшись от дремы, говорит, глядя в
камин:
- Как спалось?
- Спасибо, прекрасно. Было очень удобно.
Ее бокал стоит на изразцовой каминной полке. Эбберлайн берет его,
прихлебывает вино. На ее чулках рисунок крестиком - маленькие иксы в больших
иксах, более плотные строчки на просвечивающей материи, там натянутые
слабее, тут - сильнее и подсветленные девичьей кожей.
- Вот и хорошо, - тихо говорит она и медленно кивает, все еще
зачарованная огнем; платье, словно рубиновое зеркало, отражает
желто-оранжевые языки пламени. - Хорошо, - повторяет она.
Ее кожа согревается, в воздухе постепенно крепнет аромат духов. Она
делает глубокий вдох, задерживает дыхание, выпускает, не сводя при этом
взгляда с шипящего камина.
Я допиваю вино, беру бутылку, подхожу к девушке, сажусь и наполняю
бокалы. У ее духов сладкий и пряный запах. До этого она сидела на корточках,
а теперь опустилась на пол, согнув ноги в коленях и опираясь на руку. Она
смотрит, как я наливаю вино. Я ставлю бутылку, вглядываюсь в лицо Эбберлайн.
В уголке рта чуть размазалась помада. Эбберлайн замечает, что я смотрю, у
нее медленно изгибается бровь. Я говорю:
- Помада.
Достаю из кармана носовой платок, на котором она вышила монограмму. Она
наклоняется вперед, чтобы я стер ненужный красный мазок. Чувствую пальцами
воздух из ее ноздрей, когда касаюсь пальцами ее губ.
- Все.
- Боюсь, я оставила следы не на одном воротнике. - У нее тихий и низкий
голос, почти мурлыканье.
- Э-э! - Я с притворным, насмешливым неодобрением качаю головой. - Я бы
не стал целовать воротники.
Она тоже качает головой:
- Не стал бы?
- Не стал бы. - Я наклоняюсь, чтобы осторожно коснуться ее полного
бокала своим.
- А что стал бы? - Ее голос звучит не тише, но в нем появляется новый
тон, понимающий, даже ироничный. Намек достаточно прозрачен; я не
набрасывался на нее зверем.
Я целую ее совсем легонько и гляжу в глаза (и она отвечает на поцелуй,
легонько, и смотрит в мои зрачки). У нее слабый вкус вина и еще чего-то
пряного, и немножко чувствуется сигарный дым. Я чуть сильнее прижимаюсь
губами и кладу свободную ладонь ей на талию и ощущаю ее тепло через гладкий
алый атлас. За моей спиной деловито шипит камин, пригревает. Я медленно вожу
губами по ее губам, дразню ее губы, щекочу зубы. Ее язык встречается с моим.
Она шевелится, подается вбок, на лбу возникают складки - неужели
отстраняется? Нет, это она смотрит, куда поставить бокал. Потом она берет
меня за плечи и закрывает глаза. Ее дыхание чуть убыстряется, я это чувствую
щекой. Я целую ее крепче, оставив свой бокал на подлокотнике кресла.
У нее мягкие волосы и пахнут все теми же пряными духами, а талия на
ощупь еще изящней, чем на вид. Груди движутся под красным атласом - там их
поддерживает, не стесняя, какой-то предмет нательного белья. Чулки гладкие
на ощупь, бедра теплые. Она меня тискает, прижимается, затем отталкивается,
кладет ладони мне на виски и смотрит блестящими глазами в упор, зрачки в
зрачки. Ее соски приподняли атлас в двух местах, получились красные холмики.
У нее влажен рот, размазана помада. Она коротко, с дрожью смеется,
сглатывает. По-прежнему тяжело дышит.
- А я и не подозревала, Джон, что ты можешь быть таким... страстным.
- А я не подозревал, что тебе так легко вскружить голову.
Чуть позже:
- Здесь, здесь. Не в постели. Там слишком холодно. Здесь.
- А тебе перед этим ничего не надо?..
- Что? А, нет. Только... Ладно, Орр, давай, снимай пиджак. Можно, я это
на себе оставлю?
- Почему же нельзя?
Тело Эбберлайн Эррол заключено в клетку мглы, обвязано и обрешечено
обсидиановыми шелками. Ее чулки пристегнуты к чему-то похожему на корсет из
шелка, с кружевами впереди, - опять узор из иксов, только этот идет от лобка
почти до нижнего края отдельного лифчика, прозрачного, как и чулки,
вмещающего в свои чаши крепкую, красивую грудь. Расстегивается он спереди -
Эбберлайн показывает где. Женский гарнитур отходит от тела, пуская меня к
черным завиткам. Мы сидим в обнимку, неторопливо целуемся. Я уже вошел, но
мы пока не двигаемся. Она сидит на мне, ноги в чулках сжимают мои ягодицы,
руки в длинных перчатках, пройдя у меня под мышками, вцепились в плечи.
- Синяки, - шепчет она (я совершенно голый) и гладит места, куда
пришлись швейцаровы удары. От этих восхитительно нежных прикосновений у меня
по всему телу волоски дыбом.
- Ерунда. - Целую груди (соски ярко-розовые, толстенькие и длинные, с
продолговатыми впадинками и красными пупырышками на вершинках; круглые и
гладкие ореолы тоже выступают). - Не обращай внимания. - Я клоню ее к себе и
клонюсь сам, чтобы лечь на нашу скомканную одежду.
Медленно двигаюсь под девушкой, гляжу на нее, очерченную огнем шипящего
газового камина. Эбберлайн висит надо мной в воздухе, оседлала меня. Ее
ладони - на моей груди, голова опущена, расстегнутый гарнитур подлетает, как
и ее густые черные волосы.
Все ее тело заключено в дамское белье, в этот абсурдный капкан, - а
ведь ей, чтобы быть соблазнительной, не нужно ничего. Она сама - соблазн,
эта движущая сила, этот разум, что обитают под ее плотью и костью. Вспоминаю
женщин в башне варвара.
Иксы, эти рисунки в рисунках, покрывают ее ноги - еще одна сеть, поверх
той, что дана ей природой. Зигзаги кружев на ее гарнитуре, перекрещенные
ленточки, что удерживают шелк на теле, лямочки и тесемочки, шелк на руках и
ногах - все это язык, все это архитектура. Кронштейны, трубы, раскосы,
темные линии подвесок крест-накрест облегают тугие бедра, идя от трусиков до
плотных черных полосок на верхних краях чулок. Это кессоны и строительные
трубы, только из эластичного материала. Их предназначение - вмещать в себя и
частично прятать, частично показывать женственную мягкость.
Эбберлайн кричит, выгибает спину, запрокидывает голову. Волосы
свешиваются между лопаток, пальцы растопырены, вытянутые, напряженные руки
за спиной образуют букву "V". Я поднимаю девушку, осознавая вдруг свое
присутствие в ней, в этой конструкции из темных материалов, и в тот самый
момент, когда я напрягаю мышцы, когда толкаю вверх ее тяжесть, я вдруг
ощущаю мост над нами, эту громадину, возвышающуюся в сером вечере,
конструкцию со своими узорами, со своими бесчисленными иксами, со своими
опорами и уравновешенными напряжениями, со своим характером, со своим
бытием, со своей жизнью. Он - над нами, надо мной. Он давит. И я
сопротивляюсь, тщусь выдержать эту сокрушительную тяжесть. Эбберлайн еще
сильней выгибается, кричит, хватает меня за лодыжки. Потом опускается со
стоном - как будто рушится здание; я в женском теле (и вправду -
конструктивный элемент, член уравнения) сам содрогаюсь в недолгой
конвульсии. Эбберлайн падает на меня, тяжело дышит, расслабляется,
простирает руки и ноги. Надушенные волосы щекочут мне нос.
Мне больно. Я иссяк. Такое ощущение, будто отымел целый мост.
Пенис обмяк, но я его не вынимаю. Через некоторое время она сжимает
его. Этого достаточно. Мы снова двигаемся, но нежнее, медленней, чем в
прошлый раз.
Потом мы перебираемся в постель. Та и вправду холодная, но быстро
согревается. Я методично снимаю всю черную ткань (мы решаем, что одна из
составляющих ее эффекта - четкое очерчивание зон для уплотненной программы
ласк). Последний заход получается самым долгим и включает, как и положено
лучшим образцам такой работы, множество различных приемов и частую смену
ритма. Впрочем, в кульминационный момент я остываю, отчего-то мне, мягко
говоря, не радостно. Напротив, даже жутко.
На этот раз она подо мной. Руками обнимает меня за бока и спину, под
конец ее стройные, длинные ноги берут меня в замок, давят на ягодицы и
копчик.
Оргазм у меня получается так себе. Машинальная работа желез, слабый
сигнал с периферии. Я кричу, но не от удовольствия. И даже не от боли. Меня
сокрушают эта хватка, этот нажим, этот плен. Как будто мое тело необходимо
нарядить, уложить, обернуть бумагой, перевязать шпагатом и отправить по
какому-то адресу. Все это вызывает у меня воспоминание, одновременно древнее
и свежее, мертвенное и тухлое. Вызывает надежду и боязнь освобождения и
плена, страх перед зверем, машиной, перед ячеистыми сооружениями, перед
началом и концом.
Я в капкане. Я раздавлен. Маленькая смерть, опустошение. Девушка держит
меня, точно клетка.
- Мне надо идти. - Она протягивает руку, возвращаясь от камина с
одеждой. Я беру ее кисть, пожимаю. - Сама бы хотела остаться, - печально
говорит она, прижимая тонкое белье к бледному телу.
- Ничего, все в порядке.
Эбберлайи здесь уже несколько часов. Ее ждет семья. Она одевается,
насвистывает как ни в чем не бывало. Где-то вдали ревет судовая сирена. За
ставнями совершенно темно.
Перед прощанием - заход в ванную. Эбберлайн находит расческу,
торжествующе ею потрясает. Волосы безнадежно спутаны, и ей, уже надевшей
пальто, приходится терпеливо сидеть на краешке кровати, пока я аккуратно
расчесываю локоны. Она сует руку в карман пальто и достает коробочку тонких
сигар и спички. Морщит нос.
- Тут все пропахло сексом, - заявляет она, вынимая сигару.
- Разве?
Она, держа в руке коробочку, поворачивается ко мне.
- Гм... ужасное поведение, - говорит она и закуривает.
Я расчесываю ей волосы, постепенно устраняя путаницу. Она пускает дым
колечками, серые "О" летят к потолку. Она поднимает руку, ведет ей вместе с
расческой по волосам. Глубоко вздыхает.
Поцелуй перед уходом. У нее свежее после умывания лицо, пряное дыхание,
с привкусом табака.
- Осталась бы, да не могу.
- Ничего, свой след ты уже оставила. И пришла, кстати, сама, так что
зачтется. - Я бы еще что-нибудь сказал, но не могу. Во мне по-прежнему сидит
страх, все еще резонирует, словно глухое эхо. Страх перед ловушкой, боязнь
быть раздавленным. Эбберлайн Эррол целует меня.
Когда она уходит, я еще какое-то время лежу в широкой остывающей
постели, слушаю гудки в тумане. Один гудок раздается совсем близко; если
туман не рассеется, эти сирены, чего доброго, глаз мне не дадут сомкнуть. В
воздухе витает сигарный дым, но запах постепенно слабеет. Бесцветные разводы
на потолке кажутся отпечатавшимися дымовыми кольцами. Я глубоко вздыхаю,
пытаясь уловить последние молекулы ее духов. Она права, в этой комнате
пахнет сексом. Я голоден и хочу пить. А ведь еще даже не ночь. Встаю и
принимаю ванну, затем медленно одеваюсь, чувствуя во всем теле приятную
усталость. Включаю лампы. Входная дверь уже отворена, когда я замечаю
свечение из дверного проема на той стороне загроможденной комнаты. Затворяю
дверь и иду на разведку.
Это бывшая библиотека. Книжные полки пусты. В углу - включенный
телевизор. Сердце хочет выпрыгнуть из груди, но тут я соображаю, что ничего
знакомого не вижу. Экран бел. Вернее, на нем краповая пустота. Я иду
выключить телевизор, но не успеваю Что-то темное заслоняет экран, потом
отодвигается. Рука. Изображение дрожит, успокаивается, и я вижу человека на
кровати. Женщина отходит от камеры, останавливается у края кадра, поднимает
щетку и медленно ведет ею по волосам, глядя перед собой. Наверное, там на
стене зеркало. Картина знакома донельзя, изменения минимальные: передвинут
стул и кровать не такая свежая, как прежде.
Вскоре женщина опускает щетку, наклоняется вперед, прислонив ладонь
козырьком ко лбу, выпрямляется. Она берет щетку и отходит, превращается у
самой камеры в темное пятно, а затем и вовсе исчезает из кадра. Я не успеваю
толком разглядеть ее лицо.
У меня пересыхает в горле. Женщина снова появляется возле кровати, на
ней темное пальто. Она стоит, глядя на мужчину, потом наклоняется и целует
его в лоб и при этом откидывает с его лба прядь волос. Поднимает с пола
сумку и уходит. Я выключаю телевизор.
В кухне на стене есть телефон. Когда я снимаю трубку, слышу знакомые
звуки. Гудки. Не совсем ровные и, может быть, чуть почаще, чем прежде.
Я выхожу из квартиры и лифтом спускаюсь на железнодорожный уровень.
Кругом туман, в этом густом паре свет фонарей образует желтые и
оранжевые конусы. С ревом и лязганьем проходят трамваи и поезда. Я иду
подвесной дорожкой вдоль бока моста, веду ладонью по высоким перилам. Через
фермы медленно течет туман, с невидимого моря доносятся голоса корабельных
сирен.
Мимо проходят люди, в основном путейцы. Чувствую запах пара, угольной
гари и дизельных выхлопов. Под навесом депо сидят за круглыми столами люди в
спецовках, читают газеты, играют в карты, пьют из больших кружек. Я прохожу
мимо. Вдруг мост под ногами содрогается, откуда-то спереди доносится
металлический скрежет и треск. Этот шум эхом разносится по мосту, отражается
от вторичной архитектуры, отлетает в насыщенный влагой воздух. Я иду в
плотной тишине, потом один за другим подают голоса туманные горны. Я слышу,
как поблизости тормозят, останавливаются поезда и трамваи. Впереди оживают
сирены и клаксоны.
В мерцающем тумане подхожу к самому краю моста. Опять саднят ноги, в
груди тупая пульсирующая боль, словно ребра сочувствуют ногам. Я думаю об
Эбберлайн. Воспоминания о ней должны бы улучшать мое самочувствие, но этого
не происходит. Ведь то, что было между нами, произошло в доме с
привидениями. Призраки того бессмысленного шума и почти не меняющегося
изображения присутствовали там все время - достаточно было протянуть руку,
щелкнуть выключателем. Все это таилось там еще в момент нашего первого
поцелуя и в тот момент, когда меня сковывали четыре женские конечности и я
кричал от страха.
Поезда теперь молчат, вот уже несколько минут ни один не прошел мимо.
Зато клаксоны и сирены состязаются с воем горнов.
Да, все было очень приятно и мило, и я бы с удовольствием пожил свежими
воспоминаниями, но что-то во мне сидящее не допускает этого. Я пытаюсь
вообразить запах Эбберлайн, ее тепло, но удается вспомнить только женщину,
которая спокойно расчесывает волосы, глядя в невидимое для меня зеркало. Все
расчесывает, расчесывает... Я силюсь представить комнату, но вижу только
черно-белую картинку, причем в неизменном ракурсе, из-под потолка. Вижу лишь
постель, окруженную аппаратурой, и человека на ней.
Мимо в тумане проносится поезд, горят прожектора. Он едет туда, где все
еще надрываются сирены.
И все-таки, что дальше? Да то же, что и раньше, только будет его еще
больше, говорит свеженасытившаяся часть моего разума; дни и ночи все того
же, знакомого, месяцы прежнего, и побольше, побольше. И тем не менее: что
впереди? Очередная тупиковая ветвь наподобие затерянной библиотеки,
таинственных самолетов или вымышленных снов?
В обоих случаях... да во всех случаях я не вижу для себя хороших
перспектив.
Я иду и иду в клубящемся тумане, шагаю в растущую какофонию сирен,
людских криков и дымного зарева на сцене трагедии.
Сначала я замечаю пламя, его языки вздымаются в тумане, точно дрожащие
толстые мачты. Дым раскатывается плотной тенью. Кричат люди, вспыхивают
фонари. Мимо меня проходят, пробегают железнодорожники, все спешат к месту
крушения. Я вижу хвост прошедшего мимо меня несколько минут назад поезда.
Это аварийный состав с кранами, брандспойтами и госпитальными вагонами. Он
медленно идет по рельсам, исчезая за товарными вагонами другого поезда,
стоящего ближе ко мне, через путь. Первые несколько вагонов целы, стоят на
рельсах, но следующие три съехали с рельсов, их колеса угодили в точности в
металлические желоба рядом с путем - как и задумано строителями моста на
случай аварии. Дальше наискось через рельсы лежит вагон, а за ним еще и еще,
и каждый следующий вагон поврежден сильнее предыдущего. По-прежнему впереди
вздымается зарево. Я уже близок к огням, и сквозь туман мне в лицо пышет
жар. Думаю, не отступить ли; я здесь скорее всего не нужен. Трудно
ориентироваться в тумане, но, похоже, я в конце секции, здесь мост сужается,
как невероятно длинные песочные часы, образуя мост на мосту - соединительный
пролет.
Тут по путям рассыпаны вагоны. В этом месте паутина разъездов приводит
поезда из главной секции в бутылочное горло соединительного пролета; через
него лишь несколько путей тянутся в соседнюю секцию. По эту сторону
рухнувшего поезда жар поистине жуток, струи воды из аварийного состава,
остановившегося по ту сторону места катастрофы, падают по дуге на горящие
товарные вагоны, шипят на обугленных досках и раскаленных металлических
каркасах. Мельтешат путейцы с огнетушителями, другие разматывают брезентовые
рукава и присоединяют их к гидрантам. Огни дрожат, корчатся, шипят под
натиском воды. Я иду дальше, прибавляя шаг, спешу миновать жаркий участок.
Вода льется в колесные и сточные желоба, испаряется в борьбе с огнем; пар
смешивается с туманом и черным дымом. Над пожарищем, на своде яруса, что-то
воспламенилось, капли жидкого огня падают на разбитые вагоны.
Я вынужден зажать уши ладонями, когда прохожу мимо сирены. Укрепленная
на столбе, она оглашает надрывным воем туман. Меня с криками обгоняют
железнодорожники. Огонь теперь за моей спиной, ревет в тесном пространстве
между фермами. Впереди разбитый поезд, длинная ломаная линия на путях - как
сброшенная откуда-то сверху дохлая змея. А каркасы горящих вагонов - ее
сокрушенные кости.
А впереди еще один поезд, подлиннее, и вагоны у него длинные, с окнами,
- пассажирские вагоны. В них зияющие пробоины - пассажирский состав
столкнулся с товарным. Тяжелое рыло локомотива так и утонуло в пробитом им
вагоне. Здесь кишат люди. Я вижу, как из обломков вытаскивают пострадавших.
Возле поезда лежат носилки, звучат клаксоны и рожки; в их шуме теряются
голоса далеких судовых сирен. Безумная энергия этой трагической сцены
заставляет меня остановиться, и я наблюдаю за работой спасателей. Все новые
и новые люди, окровавленные, стенающие, появляются из пассажирского состава.
Позади меня в обломках что-то взрывается, и люди бегут к этому новому очагу
катастрофы. Уносят раненых на носилках.
- Эй, ты! - кричит мне кто-то. Он стоит на коленях у носилок, держит
залитую кровью руку женщины, а другой человек накладывает жгут. - Помоги-ка
нам. Берись за носилки. Осилишь?
Возле поезда с этой стороны десять или двенадцать носилок. Подбегают
спасатели и уносят их, но многие раненые остаются ждать своей очереди. Я
переступаю через рельс, по железнодорожному пути подхожу к носилкам, берусь
за одни вместе с каким-то парнем в спецовке. Мы доставляем их на аварийный
поезд, там их забирают санитары.
Среди обломков товарняка раздается новый взрыв. Когда мы возвращаемся
за очередной жертвой, оказывается, что аварийный поезд уже передвинут на
пути, подальше от взрывов. Нам приходится нести носилки со стонущим,
истекающим кровью мужчиной двести ярдов, к голове товарного состава, и там
нас сменяют фельдшеры. Мы снова бежим к пассажирскому поезду.
Следующая жертва, возможно, уже мертва. Из этого человека кровь так и
хлещет. Железнодорожный чиновник велит нам нести его не к аварийному поезду,
а к соседнему, встречному.
Это экспресс, он тут застрял из-за аварии и возьмет часть пострадавших,
чтобы подвезти их к ближайшей больнице. Мы ставим носилки на пол вагона.
Похоже на ресторан класса "люкс"; в нем врач ходит от раненого к раненому.
Мы перекладываем свою ношу на белую скатерть, полотно тотчас пропитывается
кровью. К нам приближается врач, прижимает к шее изувеченного пальцы,
держит. Я еще не понял, откуда бьет кровь. Врач смотрит на меня. Он довольно
молод, у него испуганное лицо.
- Прижмите здесь, - говорит он мне, и я вынужден держать ладонь на шее
раненого, пока доктор куда-то ходит. Мой напарник убегает. Я ощущаю слабый
пульс лежащего на обеденном столе мужчины. Его кровь течет по моим рукам,
когда я расслабляюсь или стараюсь получше прижать полуоторванный клок кожи к
его шее. Я держу, я прижимаю, я делаю, что мне велено, и гляжу на лицо этого
человека, бледное от потери крови. Он без чувств, но страдает. С него
сорвана маска, которую он всегда надевал перед встречей с миром, и без этой
маски он смахивает на какую-то маленькую жалкую зверушку.
- Хорошо, спасибо. - Это вернулись врач с медсестрой. У них бинты,
капельница, пузырьки и шприцы. Я больше не нужен.
Я осторожно пробираюсь между скулящими ранеными. Останавливаюсь в
пассажирском вагоне, безлюдном и неосвещенном. Мне нехорошо. Присаживаюсь на
минутку, а когда встаю, мне удается доплестись лишь до туалета в конце
вагона. Там я сажусь. В голове глухо стучит кровь, в глазах пляшут огоньки.
Я мою руки и жду, когда сердце придет в согласие с остальными органами.
Наконец чувствую, что готов встать, и тут поезд трогается.
Когда он замедляет ход, я возвращаюсь в вагон-ресторан. Там суетятся
сестры и нянечки из больницы, принимают носилки. Мне велят не путаться под
ногами. Три медсестры и два фельдшера столпились вокруг носилок, которые
заносят через ближайшую дверь. На них рожает раненая. Я вынужден вернуться в
туалет.
Там я сижу и думаю.
Никто меня не беспокоит. Во всем поезде вдруг становится очень тихо.
Раза два его дергает и встряхивает, и я слышу через матовое оконное стекло
крики, но в вагоне ни звука. Я иду в ресторан. Его уже не узнать - свежо,
чисто, пахнет полиролью. Лампы погашены, в проникающем через окна сиянии
моста призрачной белизной отсвечивают столы. А сам мост по-прежнему окутан
туманом.
Может, следует сойти? Этого от меня хотели бы и добрый доктор, и Брук,
и, надеюсь, Эбберлайн Эррол.
Но зачем? Ведь я способен только дурака валять и притворяться - и с
доктором, и с Бруком, и с мостом, и с Эбберлайн. Все это очень мило, а с ней
было просто бесподобно, если не считать того крика ужаса...
Так что, сойти? Я ведь могу. А почему нет?
Вот он я, в вещи, которая становится местом, в пути, который становится
пунктом прибытия, в процессе, который становится результатом... Я в этом
длинном недвусмысленном фаллическом символе, нацеленном к броску из
средоточия нашего грандиозного чугунного идола. Как велик соблазн взять да и
остаться, то есть уехать. Смело бросить дома женщину и - отправиться в
путешествие. Место и вещь, вещь и место... Неужели это действительно так
просто? Неужели женщина - это место, а мужчина всего лишь вещь?
Ну конечно же нет, дорогой ты мой друг-приятель. Ха-ха-ха, что за
бредовая идея? Все гораздо цивилизованней, чем ты себе возомнил...
И все же (лишь потому, что это мне кажется столь отталкивающим) я
подозреваю: в этом что-то есть. В таком случае что же я здесь означаю, сидя
в этом поезде, в этом символе? Хороший вопрос, говорю я себе. Хороший
вопрос. И тут поезд снова трогается.
Я сижу за столом, гляжу, как мимо несется поток вагонов. Мы медленно
набираем скорость, оставляем другой поезд позади. Снова притормаживаем -
проезжаем место крушения. Рядом с путями громоздятся товарные вагоны,
исковерканные рельсы вздымаются с опаленного настила, как скрученные
провода, и дым головешек растворяется в тумане под яркими дуговыми лампами.
Аварийный состав стоит чуть дальше, его прожектора светятся. Наш поезд
набирает скорость, и вагон, в котором я сижу, тихо подрагивает.
Туман пронизан лучами прожекторов. Мы проскакиваем главную станцию
секции, несемся мимо других поездов, мимо трамваев, мимо уличных фонарей,
транспортных магистралей и зданий. Мы все еще разгоняемся. Огни редеют, мы
почти проехали секцию. Я еще секунду-другую гляжу на огни, затем иду в конец
вагона, где находится дверь. Опускаю оконное стекло и выглядываю в туман, с
ревом проносящийся мимо меня, с ревом, модулированным неразличимыми фермами
моста, и эхом отзывающийся на стремительное продвижение поезда, а характер
эха зависит от плотности окружающих ферм и зданий. Позади остаются огни
последних домов; я расстегиваю больничный браслет, медленно, болезненно
стягиваю его с запястья, лижу там, где застревает, наконец решительно
срываю, при этом порезавшись.
Мы пересекаем соединительный пролет. Невидимая граница, до которой меня
пускает идентификационный браслет, еще, конечно, далеко. Маленький
пластиковый обруч с моим именем. Странное это ощущение, когда его нет на
запястье. Оказывается, я уже успел к нему привыкнуть. И теперь словно голый.
Я бросаю его за окно, в туман. Браслет исчезает мгновенно.
Закрываю окно, возвращаюсь в купе. Надо отдохнуть, а там посмотрим,
далеко ли я уеду.
...Так что, включен микрофон?
А, вот вы где? Что ж, хорошо... Беспокоиться не о чем, никакой тут не
бардак, ей-богу. Наоборот, полный порядок. Все под контролем, на мази и
работает как часики. Лучше просто не бывает. "Мы знали все время, что хрень
включена". Это цитата из бессмертного... Что-что? Виноват, виноват, цитата
из смертного Джими Хендрикса. Ну, так на чем я остановился? Ах да.
Так вот, состояние пациента стабильное: он мертв. Стабильнее, блин, не
бывает, правильно я говорю? Конечно, конечно, гниение и все такое.
Я просто шучу, такой уж у меня юмор. Господи боже, некоторые люди
совершенно шуток не понимают. Эй, вы там, на галерке! Угомонитесь.
Ну что ж, ребята, двинули дальше (оказывается). Откуда и куда? Вопрос
не в бровь, а в глаз.
Рад, что вы его задали. А знает ли кто-нибудь ответ? Нет?
Черт. Ну да ладно.
Куда меня тащат? И главное, за что? Да кто меня спрашивал? Вы, уроды!
Кому-нибудь пришло в голову поинтересоваться: "Ты, как там тебя... не
возражаешь, если мы тебя переведем?" А? Фигушки! А может, там, откуда я
взялся, мне совсем не плохо жилось. Кто-нибудь из вас об этом подумал?
Ну так вот, можно полосовать меня вдоль и поперек, можно отрезать кишки
и вшивать новые, можно латать меня и накачивать всем, чем угодно, можно на
меня давить и можно меня щипать, а вот чего нельзя, так это меня поймать,
так это меня найти, так это до меня добраться. А я - вот он: на недосягаемой
высоте, неуязвим, непобедим, командую парадом.
Но злая королева-то какова! Как она могла дойти до такой подлости, до
такой низости, до такой пакости, мерзости и гнусности, до недоразумения
столь вопиющего? Как она могла опуститься столь низко? (Эка фигня, берешь и
сгинаешься, вот так...) Подговорила чертовых варваров восстать против меня!
Ха! Неужели ничего поумнее не способна была придумать?
Наверное, не способна. Никогда не отличалась сильным воображением,
бедняжка. Может, разве что в койке или еще где-нибудь. Нет, это неправда.
Просто во мне живет обида; начистоту так начистоту (обычно с легким, слабым,
еле заметным оттенком алого, как мне довелось выяснить... впрочем, не стоит
об этом).
И все-таки какое это хамство - поднимать против меня мятеж! Ведь
совершенно же без толку, и тем не менее... А сейчас-то что не так? Черт
возьми, нельзя уже человеку немного самому с собой поговорить? Обязательно
надо его... Опять! Блядь! Да что тут происходит, вашу мать?! Уроды безрукие,
за кого вы меня тут держите, а? Это часть...
Ну хватит же, наконец! Ухаб на ухабе! Больно же! Это часть терапии, что
ли? Если уж очень захочется, я как встану да как настучу кое-кому по Кумполу
- на всю жизнь запомните! Хрясь!!! И хрен зашьешь, Джимми.
Ну, слава Богу, прекратилось наконец. Только небольшая боковая качка,
но это пустяки. Как на лодке или еще на чем-то вроде. Трудно сказать.
Нет, это не лодка. Качает помягче. Это что-то на подвеске, с
амортизаторами. Скрипит? Слышатся ли мне голоса? (Все время, док. Это они
меня подучили. Так что моей вины тут нет. Идеальное алиби, непробиваемая
защита.)
Изнасиловал? Какая наглость! В суд подам! (И хрен пришьешь, Джемима. Да
я сам тебя пришью. Нет, простите, это не смешно, но в натуре! Что вы себе,
распронахер, позволяете, а?)
Для меня это никогда ничего не значило. Наверное, и для нее. Она,
знаете ли, несмотря на всю свою ученость, была женщиной прямой, если не
сказать буквальной. Да-да. И не только буквальной, но еще и знаковой. Как-то
раз я ей об этом сказал, и она смеялась. И мы в этом разобрались. Сейчас
покажу.
За каждым коленом есть буква Н. Перекрестие межъягодичной щели со
складкой под ягодицами - чем не +? Ее ноздри - это , (надеюсь, я вас еще не
совсем запутал), талия - ) (, а самое интересное место смахивает на V (вид
спереди) и ! (вид снизу). Тут она, понятное дело, все это переварила и
добавила, что еще у нее есть : и регулярные . (но это, впрочем, не знаки, а
каламбуры; я уже говорил, что она буквальная женщина). Не суть; но, завидев
!, я сделал I (а она - О).
Ну да ладно, хватит об этом. Поехали дальше. Вр-р-р, вр-р-р... Снова -
часть машины; загрузились, удолбались и полетели (Ми-и-мя-а-у,
ми-и-мя-а-у?.. Джимми, никогда не торгуй мороженым на такой скорости. Мне
бутерброд с джемом, пожалуйста. И чтоб малины побольше). Вот смеху-то будет,
если навернемся! Надеюсь, не через мост (ой, Харон, ты уж извини, но на
дорогах сейчас такие пробки...). Не знаю, может, я уже покойник, а может,
это просто они так думают. Трудно сказать (ничего трудного), я тут, типа,
потерял ориентацию. Все маленько травматично (травм... травма? Опять - буквы
и ни во что не складываются. Ре... волю... поллю... ция... Ля-ля-ля,
бля-бля-бля...
(что он городит?
"бля-бля-бля"
да? похоже, на поправку идет).
Вы б на меня, типа, раньше позырили. Впечатляющий был чувак. Ну так мне
казалось. Пламенный реполлюционер. Стойкий как ! (да ладно вам если можно
иметь римский нос почему нельзя иметь римский хрен и не надо меня доставать
учтите я нездоров). Вот так-то.
Как она пищит, зараза! Мог бы и догадаться. Рассказ о моей долбаной
жизни. Нет на свете ни хера справедливости (вообще-то есть, да как обрушится
градом с земного нимбосвода; хаотично, с эпизодическими то наводнениями, то
засухами на десятилетия кряду).
Ну так где я на этот раз остановился? Ага, мы в машине, прекрасно в нее
вмонтированы и шпарим по трассе. Будем надеяться, шпарим не через сами
знаете что. Это мне напоминает одну историю... Совершенно заурядную историю,
без каких-нибудь там наворотов, без стрельбы и сумасшедших погонь (извините,
коли разочаровал). Если вас интересует мое честное мнение, то и не история
это, скорее уж биография с географией... И тем не менее...
Она получила
да погоди, сынок, дай вступленье-то закончу; угомонись, а? Господи
Исусе, уж и договорить не дадут...
Она получила
и ты козел щас получишь если не заткнешь Джимми свое
Она получила степень
с микрофоном проблемы? да? Не слыхать меня ни хрена, что ли?
Она
ну получила она степень, получила. Валяй, вперед и с песней; не стоит
благодарности. Блин, нельзя же быть таким впечат...
Она получила вожделенную степень и буквы после своей фамилии, а он
немножко постебался над ее новой профессией и отыскал в ее облике новые
символы. Из комнаты на Сайеннес-роуд он переселился в квартирку в
Кэнонмиллзе. Андреа подолгу жила у него, но оставила за собой квартиру на
Камли-бэнк. Там поселилась Шона, кузина из Инвернесса, пока училась на
преподавательницу физкультуры в Крамоне, городе, откуда вышел род Андреа.
На каникулах ему приходилось по-прежнему работать, а она отдыхала за
границей с семьей и друзьями, чем будила в нем и ревность, и зависть. Но
потом они снова встречались, и все шло как раньше. И однажды (он так и не
сумел вспомнить, когда именно) ему начало казаться, что их отношения
способны перерасти в нечто посерьезнее череды коротких встреч. Родилась даже
мыслишка, не предложить ли Андреа оформить брак. Но какая-то гордость не
позволила ему пойти на такую уступку государству, уже не говоря о Церкви. Да
и кому вообще нужен этот официоз? Главное то, что у них в сердцах или,
скорее, в мозгах, а не в какой-нибудь книге актов гражданского состояния. Да
к тому же Андреа, вероятнее всего, ответила бы отказом. Он понимал, что не
стоит питать иллюзий.
По его мнению, они были уже экс-хиппи. Хотя являлись ли они
когда-нибудь настоящими хиппи, это еще вопрос. Поколение цветов... что ж,
люди выбирают афоризмы на свой вкус - завяло, пошло в семена, отцвело... Он
как-то высказался, что проблема в усталости лепестков.
Она усердно училась, ради хороших выпускных отметок, а он получил
диплом лишь спустя год после того, как она закончила аспирантуру. На
праздниках она гостила у знакомых в других краях Шотландии, в Англии и
Париже, а каникулы проводила в Штатах, странах Европы и Советском Союзе. Она
восстановила связи с давними эдинбургскими приятелями. Она стряпала ему,
когда он учился, навещала мать, иногда играла в гольф со своим отцом -
вполне здравомыслящим и легким в общении человеком, как выяснилось, - и
читала романы на французском.
Из СССР она вернулась с твердым намерением изучать Россию. Приезжая на
квартиру, он иногда заставал ее за чтением беллетристики и учебников с
курьезным кириллическим алфавитом, половина букв которого казались
знакомыми. Она хмурила лоб, карандаш застывал над блокнотом. Затем она
недоверчиво смотрела на часы и долго извинялась, что ничего ему не
приготовила. А он отвечал: "Не говори ерунды" - и сам шел к кухонной плите.
День торжественного вручения дипломов он пропустил, так как отлеживался
в "Ройал инфермэри" - ему вырезали аппендицит. Однако его мать и отец
отправились на церемонию - услышать, как прозвучит его фамилия. С ним рядом
была Андреа, и они отлично провели время. Когда пришли родители, он
поразился тому, что с Андреа они разговаривают как старые друзья, - и
покраснел при мысли о том, что раньше краснел за них.
Стюарт Маки познакомился с Шоной, кузиной из Инвернесса, и они
поженились в первый год учебы Стюарта в аспирантуре. Он был шафером Стюарта,
Андреа - подружкой жениха. Оба произносили тосты. Он лучше подготовился, но
у нее лучше получилось. Он сидел и глядел, а она стояла и говорила. И тогда
он понял, как сильно любит ее, как восхищается ею. Он даже смутно
чувствовал, что гордится ею, хоть это, наверное, было неправильно. Она села
под бурные аплодисменты, он поднял в ее честь бокал. Она подмигнула.
Через несколько месяцев она сказала, что собирается в Париж - изучать
русский. Он подумал, что это шутка. Он тогда все еще искал работу. Были
туманные идеи поехать вместе с ней, пройти ускоренный курс французского и
подыскать какое-нибудь поприще, но тут ему предложили неплохое местечко в
фирме, проектировавшей электростанции, так что пришлось согласиться. "Три
года, - сказала она ему. - Всего-то навсего три года". "Всего-то навсего?" -
спросил он. Она пыталась его соблазнить, мол, будем вместе проводить в
Париже выходные и праздники, но он решил, что это вряд ли осуществимо.
Он был беспомощен, а она ясно видела свои цели.
Провожать ее в аэропорт он не поехал, зато вечером накануне отлета они
побывали за мостом, в Файфе; доехали до Куросса и посидели в прибрежном
ресторанчике. Ездили на его машине - он купил в кредит маленький новый
"БМВ". Ужин прошел не слишком гладко. Он перебрал вина, она же к спиртному
не притронулась - завтра предстояло лететь. Путешествовать воздухом она
любила, всегда брала место у иллюминатора. Поэтому обратно машину вела она.
Он по пути уснул.
Проснувшись, он сначала решил, что они вернулись в Кэнонмиллз или к ее
старому дому на Камли-бэнк. Но огни мерцали слишком далеко, до огней была
миля темной воды. Прежде чем она выключила фары, он мельком увидел что-то
огромное, нависающее над ними. И массивное, и эфемерное одновременно.
- Блин... куда нас черти занесли? - спросил он, протирая глаза и
озираясь. Она вышла из машины.
- Норт-Куинсферри. Выходи, посмотришь на мост, - сказала, оправляя
жакет.
Он недовольно оглядывался. К ночи похолодало, да и дождик накрапывал.
- Давай, - позвала она. - Мозги проветришь.
- Так это и шпалер долбаный может сделать, - пробормотал он, выходя из
машины.
Они прошли мимо знаков, предупреждающих о том, что с моста могут падать
предметы, и мимо других, гласивших, что далее проход воспрещен - частная
территория, и добрались до щебенчатого разворотного кольца, до каких-то
старых домов, до низких, скользких, заросших травой и утесником скал. До
круглого гранитного быка железнодорожного моста. Ветер принес водяную пыль,
и его пробрала дрожь. Он поднял взгляд на гигантское сооружение, в чьем
железном костяке завывал ветер. У ближайших скал на берегу залива
Ферт-оф-Форт негромко плескались волны, и в темноте неторопливо мигали
справа и слева огни бакенов. Андреа взяла его за руку. Выше по течению был
автомобильный мост - высокая паутина света и далекий фоновый рокот.
- Мне здесь нравится, - обняла его Андреа.
Она вся дрожала. Он прижимал ее к себе, но глядел вверх, на стальные
тенета, завороженный их черной мощью.
"Три года, - подумал он. - Три года в чужом городе".
- Рухнул мост Таллахатчи, - проговорил он буднично, обращаясь не
столько к ней, сколько к пронизывающему ветру.
Она снова посмотрела на него, уткнулась холодным носом в
презентабельный остаток бороды, которую он растил два года, и спросила:
- Что?
- Мост Таллахатчи. Бобби Джентри, "Ода Билли Джо". Короче, навернулась
хреновина. - Из его горла вырвался тоскливый смешок.
- А жертвы были? - прикоснулась она холодными губами к его кадыку.
- Не знаю. - Ему было очень грустно. - Я дальше и не думал читать.
Только заголовок.
По мосту прошел поезд, ночной воздух наполнился грохотом и гулом.
Вагоны везли людей куда-то в другие края. Интересно, вспомнил ли кто-нибудь
из пассажиров старый обычай, бросил ли монетку из окна уютного, теплого
купе? Послал ли свою маленькую тщетную надежду кувыркаться в безразличных
водах холодного Ферта?
Он не сказал ей об этом, но он помнил, что уже здесь был, в этом самом
месте, много лет назад. Однажды летом. У его дяди была машина, и дядя взял
его и его родителей в поездку через Троссахс, с последующим заездом в Перт.
Обратный путь лежал через эти места. Это было еще до открытия автомобильного
моста в шестьдесят четвертом, - наверное, даже еще до начала его
строительства. Случилось это в праздничный день, и перед паромной переправой
вырос хвост машин длиной в добрую милю. Чем торчать в очереди, дядя привез
их сюда, чтобы показать родственникам (и самому полюбоваться) "один из самых
гордых шотландских монументов".
Сколько же было тогда ему лет? Вроде бы всего-то пять или шесть. Отец
посадил его на плечи, а он касался холодного гранита быка и изо всех сил
тянул ручонки к выкрашенным в красный цвет металлическим фермам,
К их возвращению вереница машин нисколько не сократилась. И пришлось им
ехатъ через Кинкардин-бридж.
Поцелуй Андреа заставил его очнуться от воспоминаний. Она очень крепко
обняла его, необыкновенно крепко, у него аж дыхание сперло. Потом они
вернулись в машину.
Они переехали через реку по автомобильному мосту. Он глядел сверху на
темные воды, на тусклый ночной силуэт железнодорожного моста, под которым
они стояли, и увидел длинную цепочку огней идущего к югу пассажирского
поезда. Огни как многоточие в конце предложения, подумалось ему. Или в
начале... Три года. Точки - как бессмысленный сигнал морзянки, составленный
лишь из Е, И, С и X. В переплетении ферм вспыхивали огни; тросы на ближайшем
боку автомобильного моста проносились мимо так быстро, что их невозможно
было различить.
Глядя на поезд, он подумал: неромантично. А ведь я еще паровозы помню.
Я заявлялся на соседнюю станцию и ждал на деревянном переходе над путями,
пока не появится состав, пыхтя дымом и паром. Когда локомотив проходил под
деревянным мостом, то дым отражался от листов металла, которыми мост был
обшит снизу, чтобы защитить древесину от возгорания. Меня вдруг окутывало
дымом и паром, и наступали долгие мгновения восхитительной неопределенности,
я словно оказывался в ином мире, где все зыбко, аморфно и таинственно.
Но ветку закрыли, паровозы демонтировали, переход над путями снесли и
построили на этом месте красивый, очень уникальный и просторный особняк с
фасадом на южную сторону и обширным парком. Очень уникальный. Лучше и не
скажешь. Даже если все у них там вышло как задумано, ничего на самом деле не
вышло.
Поезд пронесся по длинному виадуку и исчез в земле. Вот и все. Никакой
романтики. Никаких фейерверков при выбросе золы и пепла, и ни тебе кометного
хвоста оранжевых искр над дымовой трубой, ни даже облаков пара. Он решил
завтра написать об этом стихотворение (но ничего не получилось, и черновики
он выбросил).
Он отвернулся от окна и зевнул. Андреа снизила скорость - приближался
турникет...
- А знаешь, сколько времени его красят? Она отрицательно покачала
головой, опустила боковое окно, затормозила возле будки.
- Что? Железнодорожный мост? - Она полезла в карман за деньгами. - Ну
не знаю... Год?
- А вот фигу. - Он сложил руки на груди и устремил взгляд вперед, на
красный огонь светофора за кабинкой сборщиков. - Три долбаных года.
Она ничего на это не сказала. Заплатила за проезд, и зажегся зеленый
свет.
Он много работал, и не без успеха. Мама и папа гордились им. Под
ипотечную ссуду он взял квартирку в том же Кэнонмиллзе. Поскольку он достиг
таких высот буржуазного упадка, то компания, в которой он работал,
обеспечила ему кредит на представительский автомобиль, и он сменил "кортину"
на другую модель "БМВ", побольше и получше. Андреа писала ему, и он, где бы
ни вспоминал эти письма, произносил одну и ту же старую хохму.
По "Радио-1" в ночном эфире Джон Пил крутил реггей. Он купил "Past,
Present and Future"<"Прошлое, настоящее и будущее" (англ.)> Эла
Стюарта. "Post World War Two Blues"<"Блюз после Второй мировой войны"
(англ.)> он слушал чуть ли не со слезами на глазах. А однажды, когда
крутил "Roads to Moscow"<"Пути на Москву" (англ.)>, и впрямь заплакал.
А вот "Nostradamus" ему резко не понравился. Он много раз ставил "The
Confessions of Doctor Dream"<"Признания доктора Сна" (англ.)>, надевал
наушники, ложился в темноте на пол; он круто торчал и улетал под музыку.
Первая часть заглавной темы, занимавшей всю вторую сторону диска, называлась
"Irreversible Neural Damage"<"Необратимое неврологическое расстройство"
(англ.)>.
"Ничто не бывает случайно", - заметил он как-то раз Стюарту Маки.
Стюарт и Шона переехали за реку, в Данфермлин. Шона окончила Данфермлинский
институт физкультуры (что забавно, находящийся не в Данфермлине, а на другом
берегу, под Эдинбургом), и теперь ей казалась вполне закономерной
перспектива стать физруком именно что в данфермлинской школе. Так сказать,
из одной бывшей столицы в другую. Стюарт остался в университете, заканчивал
аспирантуру, и все шло к тому, что он получит должность доцента. Стюарт и
Шона первенца назвали в честь него. Для него это значило больше, чем он мог
выразить словами.
Он путешествовал. Объездил Европу по железной дороге (пока еще не
поздно, говорил он себе, пока еще не стар), побывал в Канаде и США,
автостопом, автобусами и поездами добрался до Марокко. Туризм особой радости
не приносил. Ему было всего лишь двадцать пять, но он казался себе стариком.
Даже начал лысеть. Однако в конце получилось удачно, просто классно. Он
сутки ехал через всю Испанию, от Альхесираса до Ируна, в компании молодых
американцев, у которых оказалась превосходнейшая дурь. Он любовался восходом
солнца над равнинами Ла-Манчи, он внимал симфонии стальных колес.
Он всегда находил предлоги, чтобы не бывать в Париже. Не хотел
встречаться с Андреа там. Она периодически приезжала, но бывала каждый раз
другой, изменившейся, более степенной и насмешливой, более уверенной в себе.
Теперь она носила короткую прическу, - наверное, последний крик моды. Они
ездили отдыхать на западное побережье и острова, когда ему удавалось
выкроить время, и однажды побывали в Советском Союзе, он в первый раз, она -
в третий. Он запомнил поезда и дорогу, а еще людей, архитектуру и памятники
войны. Но это было все же не то. Он, к своему разочарованию, двух слов не
мог связать в разговорах с русскими и с завистью слушал, как увлеченно она
болтает с ними, и ревновал ее к чужим языкам (в обоих значениях этого слова:
он знал, что в Париже у нее кто-то есть).
Он проектировал нефтеперегонное оборудование и буровые вышки, получал
много денег и посылал их домой, матери, ведь отец вышел на пенсию. Он купил
"мерседес" и вскоре поменял его на подержанный "феррари", у которого все
время засорялись свечи. Наконец он остановился на красном трехлетнем
"порше", хотя, конечно, предпочел бы новый.
Он стал встречаться с молоденькой медсестрой по имени Николя
(познакомился с ней еще в "Ройал инфермэри", где расстался с аппендиксом).
Знакомые шутили насчет их имен, называли их империалистами, спрашивали,
когда они потребуют вернуть им Россию. Она была маленькой блондинкой с
любвеобильным, щедрым телом, ей не нравилось, что он покуривает травку, а
когда он как-то расщедрился на кокаин, сказала, что только форменный псих
додумается запихивать себе в нос такие деньжищи. Он испытывал к ней большую
нежность, о чем и сказал однажды, заподозрив, что от него ждут признания в
любви. "Скотина, у меня там от твоей нежности все загрубело!" - хохотнула
она и прижалась к нему. Он тоже посмеялся, но вдруг сообразил, что это
единственная ее шутка за все время их знакомства. Она знала об Андреа, но
никогда не заводила о ней речь. Через полгода они тихо-мирно расстались.
Потом, если у него спрашивали, он отвечал, что вполне доволен статусом
полевого игрока.
Однажды в три часа ночи раздался звонок, как раз в тот момент, когда он
драил школьную подружку Андреа. Телефон стоял возле кровати. "Давай, -
хихикнула девица, - ответь". Она цеплялась за него, когда он полз по кровати
к трезвонящему аппарату. Это была Мораг, его сестра. Она сказала, что час
назад в больнице "Саутерн дженерал" в Глазго его мать скончалась от удара.
Миссис Маклин все равно надо было возвращаться домой. А он остался в
глубоком раздумье сидеть на кровати, подперев голову руками. "Хорошо хоть не
отец", - мелькнула мыслишка и он тотчас возненавидел себя за нее.
Он не знал, кому звонить. Подумал о Стюарте, но не хотелось будить
младшенького - он знал, что ребенок плохо засыпает. Позвонил в Париж Андреа.
Ответил мужчина, а когда из трубки зазвучал ее сонный голос, она с трудом
узнала его. Он сказал, что у него плохие новости... Она положила трубку.
Он не мог в это поверить. Снова звонил, но линия была занята. Не сумел
пробиться и оператор международной сети. Аппарат со снятой трубкой он
оставил на кровати. Тот бессмысленно пищал, пока он одевался. Он сел в
"порше" и долго гнал на морозе под звездами, гнал на север, почти до
Кейрнгормса. Из кассет в машине был преимущественно Пит Эткин, но для
быстрой безмозглой езды задумчивые, подчас даже меланхоличные тексты Клайва
Джеймса не годились, а пленки с реггеем (большей частью Боб Марли) были
слишком расслабляющими. А хуже всего, что ни одного альбома "стоунзов". Он
нашел старую полузабытую кассету и врубил "моторолу" почти на максимальную
громкость; он гонял "Rock and Roll Animal"<Рок-н-ролльное животное"
(англ.)> всю дорогу до Бремара и обратно, и с его лица не сходила
всепонимающая усмешка.
- Алло? - произносил он в нос, обращаясь к фарам редких встречных
машин. - Алло? Са va?<Сa va? (фр.) - Как дела?> Алло?
Он заехал туда на обратном пути. Он стоял под громадным красным мостом,
который когда-то показался ему того же цвета, что и ее волосы. Изо рта шел
пар, а "порше" остался на щебенчатом разворотном кольце, праздно рокотал
мотором. Первые рассветные лучи обрисовывали мост - силуэт надменности,
грации, мощи на фоне разгорающегося в зимнем утреннем небе бледного пламени.
Через два дня были похороны, он остался с отцом в родительском доме. А
перед этим торопливо собирал чемодан у себя в квартире и шарахнул об пол
трезвонящий телефон. Почту он даже не смотрел. На похороны приехал Стюарт
Маки.
Глядя на гроб с телом матери, он напрасно ждал слез. Обняв отца рукой
за плечи, обнаружил, что тот похудел и убавился в росте и легонько, но
непрерывно дрожит, как рельс после удара кувалды.
Когда они собрались домой, к воротам кладбища подъехало такси с
эмблемой аэропорта. Из машины выбралась Андреа, в черном костюме, с
маленьким чемоданчиком. Он не мог произнести ни слова.
Она его обняла, потом поговорила с его отцом, вернулась и объяснила,
что, после того как их разъединили, она два дня пыталась до него
дозвониться. И телеграммы слала, и звонила знакомым, чтобы зашли к нему. В
конце концов решила сама прилететь. Как только сошла с трапа в аэропорту,
позвонила Мораг в Данфермлин, узнала, что случилось и где состоятся
похороны.
Ему удалось выдавить лишь слова благодарности. Он повернулся к отцу и
пролил столько слез на воротник его пальто, что даже сам изумился. Он
оплакивал мать, отца и себя.
Андреа могла остаться лишь на ночь. Ей надо было возвращаться,
предстояли какие-то экзамены. Три года превратились в четыре. Почему бы ему
не приехать в Париж? Они спали в разных комнатах в доме его родителей. Отца
мучили кошмары и лунатизм, и он решил лечь на соседней кровати, чтобы
разбудить, если отцу приснится кошмар, и уберечь от травм, если будет ходить
во сне.
Он отвез Андреа в Эдинбург. Позавтракали у ее родителей, после чего он
доставил ее в аэропорт. Кто ее друг? Тот, кто снял трубку в Париже? Задав
этот вопрос, он прикусил язык. "Густав, - довольно беспечно ответила она. -
Он бы тебе понравился".
- "Приятного полета", - сказал он.
Студеным и ясным зимним днем он смотрел, как самолет уплывает в
аквамариновые небеса. Даже проехал вслед по дороге, когда стальная птица
повернула на юг. Он сгибался над баранкой "порша", наблюдал через ветровое
стекло, как самолет поднимается в безоблачную синеву. Он ехал вдогонку,
будто на что-то надеясь.
Он потерял ее из виду над Пентленд-Хиллз, когда в небе уже начал
вырисовываться инверсионный след.
Он чувствовал бремя своих лет. Какое-то время выписывал "Тайме",
уравновешивая ее "Морнинг стар". Иногда глядел на логотип "Тайме", и ему
казалось, что он способен уловить стремительно переворачивающиеся страницы
Настоящего Времени; казалось, он слышит шелест сухих листов. Будущее
становилось Настоящим, Настоящее - Прошедшим. Правда так банальна, так
очевидна, так доступна, а он как-то ухитрялся ее до сих пор не замечать. Он
зачесывал волосы, чтобы лысина была не так заметна. Да и лысина-то была -
пустяк, с двухпенсовую монету. Он перешел на "Гардиан".
Теперь он больше времени проводил с отцом. Иногда ездил на выходные в
маленькую новую муниципальную квартиру и живописал старику чудеса техники
семидесятых: трубопроводы, крекинг-установки, углеволокно, лазеры,
радиографию, побочные продукты космической программы. Он описывал
умопомрачительное буйство электростанций при их продувке паром: как
нагреваются новые котлы, в них подается вода, перегретый пар наполняет трубы
и весь мусор - окалина от сварки, потерянные монтажниками перчатки,
инструменты, окурки, гайки, гниющие яблочные огрызки и все такое прочее - с
ревом выбрасывается через широкие трубы в небо; так система очищается
целиком, прежде чем последними звеньями трубопровода подключат котлы к
турбинам с их тысячами дорогостоящих и хрупких деталей. Однажды у него на
глазах паром на четверть мили выбросило кувалду, и она пробила борт
микроавтобуса на стоянке. А шум какой! Да по сравнению с этим рев "конкорда"
на взлете - мышиный писк. Отец сидел в кресле, задумчиво кивал и улыбался.
Он по-прежнему встречался с Крамонами. Очень часто они с адвокатом
засиживались допоздна, как два старика, и обсуждали события в мире. Мистер
Крамон верил в закон, религию и страх и считал, что диктатура всегда лучше
анархии. Они спорили до хрипоты, но никогда не ссорились, и ему самому было
невдомек, почему они ладят. Возможно, потому, что каждый не воспринимал
всерьез любые слова другого; возможно, они и любые свои слова не
воспринимали всерьез; возможно, они не воспринимали всерьез ничего на свете.
Соглашались лишь в главном, в том, что все это - игра.
Ушел из жизни Элвис Пресли, но его больше тронула случившаяся на той же
неделе кончина Гручо Маркса. Он покупал альбомы Clash, Sex Pistols и Damned
и радовался, что наконец-то появилось нечто новое, анархическое, но больше
слушал Jam, Элвиса Костелло и Брюса Спрингстина. Он поддерживал знакомство с
однокашниками из университета, не только со Стюартом; он имел связи с
парочкой "диванных" революционных партий. Они оставили попытки затянуть его
к себе, после того как он растолковал, что абсолютно не способен
придерживаться партийной линии. Когда китайцы вторглись во Вьетнам и
приятели-революционеры принялись доказывать, что по крайней мере одна из
враждующих сторон не имеет ничего общего с социализмом, он счел этот
теологический диспут в высшей степени забавным. Он знал кое-кого в
университетском кружке молодых поэтов и время от времени появлялся на их
семинарах. Встречался с отдельными избранными из старой тусовки Андреа и
дружил с парочкой славных парней из его фирмы. Он был молод и благополучен,
и, хотя предпочел бы иметь рост повыше, а шевелюру погуще (лысина уже
увеличилась до размеров пятидесятипенсовика - инфляция) и без легкого
каштанового оттенка, он был довольно привлекателен. Уже сбивался со счета,
вспоминая женщин, с которыми переспал. Он обнаружил у себя привычку через
каждые два-три дня покупать бутылочку "Лафроайга" или "Макаллана". Раз в два
месяца он запасался травкой и обычно выкуривал косячок перед сном.
Месяц-другой он воздерживался от виски, просто хотел убедиться, что не стал
алкоголиком, а потом разрешил себе бутылку в неделю.
Парни из фирмы, с которыми он дружил, предлагали вступить в долю,
открыть собственное предприятие. Но он не был уверен, что стоит за это
браться. Поговорил с мистером Крамоном и со Стюартом. Адвокат сказал: в
принципе идея неплохая, но придется круто вкалывать, а то нынешние
бездельники ждут, что все им подадут на блюдечке с голубой каемочкой. Стюарт
рассмеялся: почему бы и нет? Пахать на себя можно точно так же, как и на
дядю. Только плати налоги лейбористам и найми ушлого бухгалтера, когда
придут тори. Впрочем, у Стюарта были собственные проблемы, и очень
серьезные: ему уже несколько лет нездоровилось и недавно врачи обнаружили
диабет. Теперь Стюарт при встречах пил только лагер и с завистью поглядывал,
как другие хлещут портер.
Насчет партнерства он все еще колебался. Написал Андреа, та ответила:
не робей, действуй. Обещала скоро вернуться. Учеба закончена, русский освоен
вполне прилично. Он решил: когда ее увижу, тогда и поверю в ее возвращение.
Он занялся гольфом (Стюарт убедил). В противовес этому вступил после
многолетних колебаний в "Международную амнистию" и отправил чек на крупную
сумму Африканскому национальному конгрессу, когда его фирма отработала
южноафриканский контракт. Он продал "порше" и купил новый "сааб турбо".
Однажды в погожую июньскую субботу поехал в Галлан - сыграть с адвокатом в
гольф, слушал пленку, на которой были записаны только "Because the
Night"<"Поскольку ночь" (англ.)> и "Shot by Both Sides"<"Застрелен
обеими сторонами" (англ)>, поочередно и многократно, и вдруг увидел, как
разбитый синий "бристоль-409" адвоката поднимают на эвакуационный грузовик.
Он проехал еще немного, снизив скорость, но все же направляясь в Галлан; он
убеждал себя, что машина со смятым передком и растресканным ветровым стек
лом принадлежит не мистеру Крамону. Потом развернулся на ближайшем
перекрестке и возвратился. На месте аварии два очень молодых полицейских
ходили с рулеткой, измеряли ширину полотна, распаханную обочину,
выщербленную каменную ограду.
Мистер Крамон умер за рулем - сердечный приступ. Он подумал, что это не
такой уж и страшный конец - если никого при том не угробить.
Одного я, размышлял он, не должен говорить Андреа: "Мы больше не можем
вот так встречаться". Его покалывала совесть, когда он покупал черный костюм
на похороны мистера Крамона. Ведь мать он провожал в последний путь всего
лишь с траурной повязкой на рукаве.
Когда он ехал в крематорий, в желудке жужжали мухи. Изводило похмелье -
вечером он выпил почти целую бутылку виски. Начиналась простуда, он это
чувствовал. По какой-то причине, въезжая через серые массивные ворота, он
думал, что она не приедет. Его уже всерьез тошнило, и он был готов
развернуться и ехать куда глаза глядят. Попытался контролировать дыхание и
сердцебиение, унять потливость ладоней. Завел "сааб" на обширную безупречно
выметенную площадку, припарковал рядом со скоплением машин перед низким
зданием крематория.
Ничего из того, что он переживал в те минуты, не было на похоронах
матери, а ведь они с адвокатом даже не дружили, а были всего лишь
приятелями. Может быть, все кругом решили, что он еще не протрезвел? Утром
он принял душ и почистил зубы, но запах виски, наверное, исходит из пор.
Даже в новом костюме он казался себе грязным бродягой. Надо было, наверное,
купить венок. Почему он раньше об этом не подумал?
Он оглядел стоянку. Андреа, конечно же, здесь быть не может, это
противоречило бы здравому (упокойному?) смыслу. Если он ее ждет, значит, она
не появится, ей что-то помешает. Ведь ничто не помешало ей как с неба
свалиться на похороны его матери. "Очередной фрагмент бесконечного
многообразия жизни, - говорил он себе, подходя к отворенным дверям и
поправляя галстук. - Не забывай, сынок: это страна летучих мышей".
Конечно же, она оказалась здесь. Выглядела старше, но еще красивее. Под
глазами - маленькие складочки, которых он раньше никогда не замечал.
Крошечные бугорки кожи, наводящие на мысль, что она привыкла щуриться под
ветром пустыни. Она взяла его за руку, поцеловала в губы, подержала секунду
в объятиях и отпустила. Он хотел сказать, что она прекрасна, что ей
потрясающе идет черное, но (хоть и думал он при этом: "Какой же я кретин!")
рот его бормотал что-то столь же банальное, пусть и более общепринятое. В ее
идеально накрашенных глазах он не увидел ни слезинки.
Панихида была краткой, однако провели ее с удивительным вкусом.
Священник был старым другом адвоката, и от его короткой, но явно искренней
надгробной речи у него защипало глаза. "Старею, похоже, - подумал он. - А
может, слишком много пью, вот и раскис. Будь рядом тот, кем я был лет десять
назад, он бы сейчас надо мной насмехался. Надо же, со слезами слушаю, как
священник читает панегирик преуспевающему адвокату".
И все же... После панихиды он поговорил с миссис Крамон. Если бы не
знал ее так хорошо, подумал бы, что она чем-то закинулась. Она будто сияла,
глаза были широко раскрыты, кожа так и лучилась энергией, рожденной смертью.
Вдова не проливала слез. Она была в шоке - потеряла человека, который больше
чем половину ее жизни был половиной ее жизни. Такое горе не каждый сумеет
быстро постичь, а быстро избыть его не дано никому. Похоже на то, когда
видишь, как молоток бьет по пальцу или соскользнувшее лезвие рассекает кожу
и кровь выступает раньше, чем нервы сигнализируют мозгу о боли. Он подумал,
что сейчас миссис Крамон в зоне затишья, плавает на спокойной маслянистой
поверхности в глазу бури. На следующий день она уезжала с сестрой в
Вашингтон.
- Ты позаботишься об Андреа? - спросила она у него на прощание. - Она
так любила отца, а лететь со мной сейчас не может. Позаботишься?
- Если она позволит, - сказал он. - В Париже у нее кто-то есть, и она
может...
- Нет, - решительно качнула головой миссис Крамон (привычку к этому
жесту он замечал и у ее дочери). - Нет, у нее есть только ты. - И она сжала
его руку, прежде чем сесть в "бентли" своего сына, и прошептала: - Ты теперь
у нее самый близкий человек.
Он какое-то время озадаченно стоял, потом пошел искать Андреа. Нашел за
воротами, в парке; она, прислонясь к лимузину "даймлер" от похоронного бюро,
закуривала ментоловый "Мор". "Не надо бы тебе курить, - сказал он,
нахмурившись, - о легких подумай".
- Это я из солидарности, - с горечью ответила она, поглядев на него. -
Мой старик тоже курил до последнего дня. - У нее дрожал маленький мускул на
челюсти.
- Андреа, Андреа... - Он протянул к ней руку, внезапно охваченный
жалостью, но Андреа отвернулась и плотней запахнула черное пальто. Он
неподвижно стоял секунду-другую, думая о том, что несколько лет назад его бы
уязвила такая реакция и он бы, наверное, сейчас же ушел. Наконец она бросила
окурок на гравий и растерла подошвой черной туфли.
- Увези меня отсюда, малыш, - сказала она. - Подхвати меня лучом,
Скотта. Где тут твой "порш"? Никак его не найду.
Они поехали на "саабе" в Галлан. Она хотела увидеть, где погиб отец,
поэтому они остановились у еще не разглаженных рытвин на обочине, у еще не
отремонтированной ограды. Он следил за ней в зеркальце заднего вида, а она
стояла и глядела вниз, на изуродованный дерн, словно ожидала, что новая
трава вырастет у нее на глазах. Она дотронулась до раненой земли, до
каменной кладки и вернулась к машине, отряхивая пыль и землю с бледных
наманикюренных пальцев. Она сказала, что брат за желание приехать сюда
назвал ее некрофилкой. "А ты как думаешь?" "Ну что ты, - сказал он, - какая
ерунда!" Они приехали в пустой выстуженный дом среди дюн, с окнами на залив.
Она повернулась и обняла его, едва они вошли в дверь. Когда он
попытался ее мягко, нежно поцеловать, она с силой прижала свой рот к его
рту, ее ногти впивались в его затылок, в спину через пиджак, в ягодицы через
черные брюки. Он услышал всхлип и вспомнил, что еще ни разу не слышал, как
она плачет. Она и сейчас не плакала - на глазах не было слез.
Она стянула пиджак с его плеч. Он решил ответить на этот эротический
призыв, рожденный отчаянием и горем, и очень быстро отказался от мысли
увести ее в какую-нибудь комнату поуютнее прихожей с ее сквозняком,
холодными керамическими плитками пола и колючей циновкой. В этом уже не было
необходимости, его тело как будто проснулось и осознало, что же происходит.
Как будто он заразился от Андреа мгновенно передающейся лихорадкой. Слепая,
нерассуждающая страсть охватила и его, он умирал от желания, никогда еще он
не хотел ее так сильно. Они упали на коврик для ног, она притянула его к
себе, не снимая пальто и платья. Для них обоих все закончилось в считаные
секунды, и только после этого она заплакала.
Адвокат оставил ему свои клюшки для гольфа - красивый жест. Вдова, у
которой были собственные сбережения, получила дом на Морэй-плейс. Сын
унаследовал все книги по юриспруденции и две наиболее ценные картины.
Остальное досталось Андреа, за исключением нескольких тысяч фунтов для детей
сына, племянников и племянниц и взносов в парочку благотворительных
учреждений.
У сына хватало хлопот с оформлением наследства, поэтому он и Андреа
отвезли миссис Крамон в Прествик - ей предстояло ночью лететь в США. Он
обнимал Андреа за худые плечи и смотрел, как самолет поднимается,
разворачивается над темным Клайдом, направляется в Америку. Он не соглашался
уезжать, пока самолет не исчезнет из виду, поэтому они стояли и глядели, как
слабее и слабее мигают в последних лучах дня его бортовые огни. Где-то над
Малл-оф-Кинтайром, уже почти скрывшись из глаз, самолет вдруг вынырнул из
тени Земли в лучи закатного солнца, и засверкал его инверсионный след,
восхитительно розовый на густосинем фоне. У Андреа даже захватило дух, и она
хихикнула - в первый раз с тех пор, как услышала новость о смерти отца.
Он и не подозревал, что инверсионный след может проявиться так
внезапно. О чем и сказал ей, когда машина катила по берегу глубокой темной
реки. А еще, после недолгих колебаний, признался, как год назад пытался
ехать по следу улетающего в Париж борта. Она его назвала сентиментальным
дурачком и поцеловала.
Они съездили навестить его отца, а потом несколько дней колесили по
стране. Возвращаться в Париж ей предстояло только через две недели, да и его
не ждала никакая неотложная работа Поэтому они просто ехали куда глаза
глядят, ночевали в маленьких гостиницах с полупансионом и понятия не имели,
куда их черти понесут завтра. Повидали острова Малл и Скай, мыс Кейп-Рат,
Инвернесс, Абердин, Данфермлин (там отдохнули вместе со Стюартом и Шоной),
потом обогнули Мосты и город и двинули через Куросс и Стерлинг, мост
Блайт-бридж и Пиблс к границам. В дороге отпраздновали ее день рождения, он
подарил браслет из белого золота. В последний день они ехали из Джедбурга в
Эдинбург, и она вдалеке увидела башню.
- Давай свернем, - предложила Андреа.
На "саабе" от трассы удалось проехать только полмили. Припарковались на
узком пустом проселке, она надела кроссовки, он взял фотоаппарат. Предстояло
идти через поле, а затем подниматься через кустарник и густые заросли орляка
к основанию башни - широкой, поросшей травой скале. С дороги башня виделась
маленькой, вблизи же оказалась громадной, массивной, - вероятно, памятник
тому, как местный лэрд решил в начале прошлого столетия проблему
безработицы. А заодно, возможно, монумент, посвященный какому-то конкретному
человеку и какой-то конкретной битве.
Казалось, эта темная каменная кладка уходит в бесконечность, тонет в
бездонном ветреном небе. Тяжелая серая деревянная надстройка была похожа на
открытую обзорную площадку, венчал ее смешной деревянный шпиль. Странно,
подумал он, что здесь нет ни подъездной дороги, ни автостоянки, ни лавки
сувениров, ни турникетов, ни администрации, ни билетов, ни толп народа.
Тропинки и той нет. Они стояли, задрав головы, и смотрели вверх. Уже при
взгляде со склона холма башня внушала трепет. Он снял несколько кадров.
Андреа повернулась к нему с ухмылкой:
- Как, говоришь, она называется? Он заглянул в захваченную с собой
карту автодорог, пожал плечами:
- Пенилго вроде...
- Пенис - ого! - рассмеялась она. - Интересно, а войти можно?
Она пошла к низкой узкой дверке. Та была завалена большими камнями.
Андреа попыталась их откатить.
- Ну-ну, флаг тебе в руки, - ухмыльнулся он, а затем пришел на помощь.
Часть камней откатил, часть отбросил.
Дверь отворилась. Андреа похлопала в ладоши и шагнула в проем.
- Оба-на! - воскликнула, когда он прошел следом.
Башня оказалась полой - огромная каменная труба. В ней было темно,
земляной пол усыпан голубиным пометом и крошечными мягкими перышками, и в
сумраке разносилось слабое эхо воркования потревоженных птиц. Словно робкие,
жидковатые аплодисменты, раздались вдруг хлопки крыльев. Несколько голубей в
вышине пролетели через пыльные снопы солнечных лучей, проникавших через
деревянный купол. Остро пахло птицами. Узкая винтовая лестница - каменные
блоки торчат из стены - поднималась сквозь увенчанный светом сумрак.
- Потрясающе! - выдохнул он.
- Сколь нежен звук... Прямо толкиновщина. - Запрокинув голову, она
глядела вверх, рот был приоткрыт.
Он подошел к нижней ступеньке лестницы, снабженной узкими
металлическими перилами на хилых, очень ржавых прутьях. "Века полтора, если
это оригинал, - подумал он. - А то и больше". Он с сомнением покачал
головой.
- По-твоему, это не опасно? - хрипло спросила она.
Он снова посмотрел вверх. Похоже, до вершины путь не близок. Футов
полтораста? Двести? Он вспомнил о камнях, которые только что откатил от
двери. Она тоже подняла голову, поймала голубиное перо, поглядела на него.
Он пожал плечами:
- А хрен ли? - И стал подниматься по каменным ступеням.
Она немедленно пошла следом. Он остановился:
- Дай я немного вперед пройду, я потяжелее. - Он поднялся еще ступенек
на двадцать, держась поближе к стене и не опираясь на перила. Она тоже шла,
но не приближалась. - Кажись, все в порядке, - сказал он на полпути,
поглядев вниз, на кружок пятнистой мглы в основании башни. - Не удивлюсь,
если окажется, что здесь тренируется местная команда регбистов - носятся
каждый день вверх-вниз.
- Ну да. - Больше она ничего не сказала.
Они поднялись наверх. Там их ждала широкая восьмиугольная платформа из
дерева, покрашенного серой краской: толстые бревна, солидные доски и
крепкие, надежные перила. Оба тяжело дышали, у него сильно билось сердце.
Был ясный день. Они стояли, переводя дух, и ветер теребил им волосы.
Вдыхая свежий, прохладный воздух, он прошелся вдоль перил по площадке; он
впитывал все, на что падал взор, и сделал несколько фотоснимков.
- Как думаешь, можно отсюда Англию увидеть? - подойдя к нему, спросила
она.
Он глядел на север и гадал, что это за пятно на горизонте, за грядой
покатых холмов. Может, уже над Эдинбургом? Он мысленно наказал себе купить
туристский бинокль и держать его в машине. Огляделся и проговорил:
- А то! Да в ясный день ты отсюда свою матушку увидишь.
Она обняла его за талию и прижалась, положила голову ему на грудь. Он
гладил ее волосы.
- Как насчет Парижа? - спросила она.
Он глубоко вздохнул, посмотрел мимо нее, на красивый пейзаж: холмы,
леса, поля и зеленые изгороди.
- Да, можно и Париж. - Он заглянул в ее зеленые глаза: - Париж ты
небось откуда угодно разглядишь.
Она ничего на это не сказала, только крепче прижалась. Он поцеловал ее
в макушку:
- Ты и правда возвращаешься?
- Да. - (Он почувствовал, как она кивнула, щека потерлась о его грудь.)
- Да, я возвращаюсь.
Он еще какое-то время разглядывал далекий ландшафт, следил, как ветер
шевелит верхушки сомкнутых елей. Рассмеялся, но звук не вырвался из горла,
остался в груди. Лишь передернулись плечи.
- Ты чего? - спросила она, не поднимая головы.
- Да так, ничего, - ответил он. - Вряд ли ведь ты скажешь "да", если
предложу выйти за меня замуж.
Он гладил ее волосы. Она медленно подняла голову, и ему ничего не
удалось прочитать на ее безмятежном лице.
- Вряд ли, - медленно кивнула она, и в глазах появилась блестка. Андреа
внимательно всмотрелась сперва в один его зрачок, потом в другой, и
крошечная складка прочертилась меж круто изогнутых темных бровей.
Он пожал плечами и отвел взгляд:
- Ладно, проехали.
Она снова прильнула к нему, положила голову ему на грудь.
- Не сердись, малыш. Если б замуж, то только за тебя. Просто это не
мое.
- И ладно, и к черту. Видно, и не мое. Просто жутко не в кайф снова так
надолго с тобой расставаться.
- А зачем расставаться? - (Ветер бросил ему в лицо ее глянцевитые рыжие
волосы, защекотал ими нос.) - Понимаешь, это ведь не только из-за Эдинбурга,
это еще и из-за тебя, - тихо сказала она ему. - Мне нужно найти свое место в
жизни, а ведь я так легко схожу с прямой дорожки, стоит услышать ласковые
слова или увидеть красивую задницу... Ладно, мы ведь о тебе говорим. Ты
уверен, что не хочешь себе подыскать милую женушку-хлопотунью?
- О-о, - протянул он. - Еще как уверен.
Она его поцеловала. Сначала легонько, но он прислонился спиной к серому
вертикальному брусу, сжал ее ягодицы и засунул язык ей в рот. При этом
думал: "Сломается чертов брус - и хрен с ним. Может, я больше никогда в
жизни не буду так счастлив, как сейчас. Есть способы угробиться и похуже".
- Ах ты, шельмец сладкоречивый! - Она отстранилась от него, на лице
появилась знакомая усмешка. - Все-таки уболтал меня.
Он рассмеялся и прижал ее к себе.
- Самка ненасытная!
- Ты умеешь разбудить во мне самое лучшее. - Она ласково ухватила его
за промежность, ощутила сквозь джинсы растущую эрекцию.
- А я вообще-то думал, у тебя критические дни начались.
- А даже если и так? Ты что, вампир, кровушки боишься?
- Конечно не боюсь, только я не прихватил бумажных салфеток или...
- Ну что вы, мужики, такие брезгливые, - прорычала она и укусила его за
грудь через рубашку и вытянула из кармана своей куртки тонкий белый шарф,
как фокусник извлекает кролика. - Держи. Это если надо будет почиститься. -
И закрыла ему рот своими губами.
Он вытянул из ее брюк рубашку, посмотрел на шарф, который держал в
другой руке.
- Это ведь шелк, - сказал он. Она потянула вниз замок его молнии:
- Ты уж мне поверь, малыш: я достойна самого лучшего.
Потом они лежали, чуть дрожа на холодном идольском ветру, который
продувал крашеное деревянное сооружение. Он ей сказал, что кружки вокруг ее
сосков похожи на розовые шайбы, соски - на болты цвета лекарственного алтея,
а узкие щелочки на них - на пазы для отвертки. Ее рассмешили эти сравнения.
Она смотрела на него, и на ее лице было ироничное, плутоватое выражение.
- Ты и правда меня любишь? - недоверчиво спросила Андреа.
- Боюсь, что да.
- Ну и дурачок, - ласково упрекнула она и подняла руку, чтобы поиграть
с прядью его волос. И улыбнулась.
- Это ты так считаешь. - Он на секунду сдвинулся ниже, чтобы поцеловать
ее в кончик носа.
- Да, - согласилась она, - я ветреная и себялюбивая.
- Ты щедрая и независимая. - Он откинул с ее лба сдвинутый ветром
локон. Она рассмеялась и потрясла головой.
- Любовь слепа, - сказала она.
- Да, мне все это твердят, - с притворной грустью вздохнул он. -
Самому-то не видно.
В юные годы я любил наблюдать, как эти крапинки проплывают сверху вниз
перед моим взором, но я понимал, что они находятся на моих глазах и движутся
точно так же, как фальшивые снежинки в сувенирных стеклянных шарах с
пейзажиками. Я много раз пытался выяснить, что это за чертовщина, и однажды
описал ее врачу, сравнив потоки крупинок с дорогами на карте, и до сих пор
это сравнение мне кажется удачным, но сейчас на ум чаще идут тонюсенькие
гнутые стеклянные трубочки с пылинками черного вещества внутри. А поскольку
никаких проблем, в сущности, это не доставляло, я особо и не волновался.
Лишь спустя много лет узнал, что это совершенно нормальное явление: просто
отмершие клетки смываются с роговицы глаза. В какой-то момент я
обеспокоился, не может ли при этом случаться своего рода заиливание, однако
решил, что какой-нибудь физиологический процесс наверняка следит за тем,
чтобы этого не происходило. Обидно, с таким воображением из меня мог бы
выйти великолепный ипохондрик.
Кто-то что-то мне говорил об иле. Да, тот темноволосый коротышка с
тросточкой. Сказал, что все кругом тонет: слишком много берут воды из
артезианских скважин, слишком много выкачивают нефти и газа, и поэтому весь
мир просто погружается в воду. По сей причине он пребывал в глубоком
расстройстве. Есть, конечно, способ исправить ситуацию - надо заливать в
отработанные скважины морскую воду. Понятное дело, это гораздо дороже, чем
просто выкачивать, что тебе нужно, но ведь нельзя получать все, не платя за
это ничего. Существует предел безответственности, и мы к этому пределу уже
очень близки.
Мы - камень, деталь машины. (Какой машины? Да вот этой. Вот же она!
Возьми ее, встряхни. Видишь, как образуются красивые узоры? Снегопад, дождь,
ветер, ясное солнышко.) И мы живем, как живут камни: сначала вулканическое
детство, потом метаморфическое отрочество, и наконец, осадочное старческое
слабоумие (возвращение в зону субдукции). Вообще-то истинная правда еще
более фантастична: все мы звезды. И мы, и наша планета, и Солнечная система
не что иное, как накопившийся ил древних взрывов; ил звезд, которые умирают
со дня своего перворождения, взрываются в тишине, меча шрапнель газовых
облаков, и эти облака кружатся, роятся, аккретируют и образуют плотные
небесные тела (придумайте что-нибудь покруче, мерзкие (у)мышленные монахи).
Так что мы - ил, мы - осадки, мы - отстой (сливки и сыворотка), и что
это меняет? Вы - то, что уже было и прошло, всего лишь очередные точки на
конце (выходящих за пределы) линий, всего лишь волновой фронт.
Качает и потряхивает. Машина внутри машины внутри машины внутри...
Можно не продолжать?
Потряхивает, качает. И приходят сны о чем-то давнем, утонувшем где-то в
глубинах памяти и сейчас робко движущемся к поверхности. (Снова - шрапнель,
снова - щепки.)
Тряхнет - качнет, тряхнет - качнет. Полусон - полуявь.
Города, Королевства, Мосты, Башни... Я уверен, что движусь к ним, ко
всем. Нельзя же ехать и ехать и в конце концов никуда не приехать.
Где же был этот темный мост, черт возьми? До сих пор ищу.
В тишине разгоняющегося поезда я вижу, как проносятся мимо элементы его
конструкции. На такой скорости вторичная архитектура исчезает почти
полностью. Виден только сам мост, исходное сооружение; мелькают красные
кресты, освещенные солнцем или мостовыми же светильниками. А дальше -
блестит в лучах нового дня синее речное устье.
Косые фермы кажутся бесконечным забором из рубящих клинков. Они
закрывают обзор, дробят его, кромсают. И в лучах, и в дымке нового дня я,
кажется, вижу другой мост, "выше по течению", - слабое эхо, блеклую тень.
Призрак моста выступает из тумана над рекой, его контуры одновременно и
прямей, и кривей, чем у моего моста. Призрак. Когда-то я знал его, а теперь
не знаю. Когда-то меня с ним что-то связывало...
С другой стороны, "ниже по течению", сквозь мелькающие перекрестья ферм
я вижу аэростаты воздушного заграждения. Черные, они висят в солнечных
лучах, похожие на раздувшиеся субмарины, на мертвых морских тварей,
распертых гнилостным газом.
Тут появляются самолеты. Они летят на одном уровне со мной - вдоль
моего пути - и медленно обгоняют поезд. Они окружены черными облачками;
впереди, позади, выше и ниже рождаются все новые клубы дыма. Дробные сигналы
смешиваются с черными пятнами разрывов. Это ведет огонь расконсервированная
противовоздушная оборона моста. И без того ни о чем не говорившее мне письмо
самолетов сейчас уже абсолютно неразборчиво.
Неуязвимые, невозмутимые серебристые птицы пролетают сквозь бешеный
ураган разрывов. Строй самолетов безупречен, дымовые буквы исправно
отделяются от хвостов, и солнце блестит на гладких выпуклых боках. Все три
машины кажутся совершенно невредимыми, от кока до хвостового костыля. Ни
единого пятнышка копоти или масла на клепаных пластинах фюзеляжей.
Но вдруг, когда машины уже так далеко впереди, что я с трудом различаю
их в сузившиеся проемы между фермами, когда я уже уверовал, что загадочные
летательные аппараты и вправду неуязвимы или хотя бы что артиллерия моста
стреляет дымовыми шашками, а не шрапнелью или фугасами, - подбивают средний
самолет. Попадание в хвост. Аппарат сразу теряет скорость и отстает от
товарищей, из хвоста бьет серый дым. Черные буквы сигнала еще появляются
какое-то время, потом истончаются; машина опускается все ниже, и вот уже она
на одном уровне с поездом. Летчик не пытается отвалить в сторону или как-то
иначе выйти из-под огня. Машина движется прежним прямым курсом, но теперь
значительно медленнее.
Хвост исчезает, он съеден дымом. Постепенно уничтожается и фюзеляж.
Самолет движется вровень с поездом и не отклоняется от своего курса, хотя
черные разрывы так и роятся вокруг. Самолет уже лишился половины фюзеляжа, а
хвоста нет и в помине. Серый дым добрался до крыльев и фонаря кабины. Этот
самолет не может лететь, он должен был потерять управление еще в тот миг,
когда лишился хвостовых плоскостей. Но он держится в воздухе, он не отстает
от несущегося поезда, он больше не теряет высоту. Густое облако серого дыма
съедает фюзеляж, крылья, кабину, а потом, когда они исчезают, дым редеет.
Остались только обтекатель капота двигателя и блестящая черточка пропеллера.
Летающий двигатель! Ни пилота, ни топлива, ни крыльев, ни руля высоты.
Обтекатель тает, выхлоп за выхлопом. Буквально считаные черные клубы берут
за труд ползти дальше. Вот и капот исчез, и пропеллер сгинул в выбросе
плотного серого дыма. Остается лишь кок, но и он тает на глазах, пропадает.
И снова за мелькающими, размытыми скоростью поезда вертикалями и укосинами
лишь синее небо и аэростаты.
Поезд меня качает и потряхивает. Я в полусне.
Ложусь досыпать.
В пути я видел странный повторяющийся сон о чьей-то прежней, сухопутной
жизни. Мне снился один и тот же мужчина, сначала ребенком, потом юношей. Но
на любом из возрастных этапов мне никак не удавалось его разглядеть толком.
Как будто я смотрю на него сквозь туман и вижу только в черно-белом
изображении, и картинка вдобавок загромождена вещами, не вполне реальными,
но это и не просто визуальные образы. Как будто экран, на котором
воспроизводят чужую жизнь, дает искаженное изображение, но при этом я
способен видеть еще и то, что происходит в голове этого человека, видеть,
как его мысли, связи и ассоциации, догадки и намерения фонтанируют и
попадают на экран. Все казалось серым, нереальным, но мне иногда удавалось
заметить черты сходства между происходящим в этом странном навязчивом сне и
тем, что творилось в действительности, когда я жил на мосту.
А может быть, это и есть реальность? Может быть, частично
восстановилась моя поврежденная память и теперь выдает беспорядочные
фрагменты - то ли развлечь меня пытается, то ли что-то сообщить. Помнится, в
одном из снов я видел что-то наподобие моста, только издали, кажется, с
пустынного берега, и к тому же сооружение было недостаточно велико. Позже
вроде бы снилось, что я стою под мостом, но снова он был слишком мал и
темен. Слабый отголосок, не более того.
Безлюдный поезд, на котором я укрылся, сутки за сутками катил по мосту,
порой замедлял ход, но никогда не останавливался. Раза два у меня имелась
возможность спрыгнуть, но я не спрыгнул из боязни разбиться насмерть. К тому
же я решил доехать до конца сооружения. Я прошелся через состав и выяснил,
что в нем всего три вагона: два пассажирских с сиденьями, столиками и
спальными купе и ресторан. Ни кухонного вагона, ни складского, и двери в
торцах первого и третьего вагонов заперты.
Почти все время я прятался, вжавшись в откидное сиденье, чтобы не
увидели снаружи, или лежал в спальном купе на верхней полке и смотрел через
щель между занавесками на мост. Дремал или мечтал о еде, пил в туалете воду.
По ночам лампы не включались, лишь установленные вдоль путей
желто-оранжевые прожектора шарили призрачными лучами по бегущим вагонам.
День ото дня становилось теплее, солнце за окнами - ярче. Облик моста
нисколько не менялся, чего нельзя было сказать о людях, которых мне иногда
удавалось разглядеть возле путей. Кожа у них была других оттенков, смуглее,
- наверное, я уже в южных краях.
Но через несколько дней снова потемнело. Я ослаб от голода, почти не
вставал, елозил от качки туда-сюда на откидном сиденье, словно
незакрепленный предмет по палубе судна. Начинал верить, что свет нисколько
не изменился, просто меня подводит зрение и люди от этого похожи на тени.
Глаза все равно болели.
Однажды ночью я вскинулся: мне снилось, как мы с Эбберлайн Эррол
ужинали в ресторане. Кругом была тьма - и в вагоне, и снаружи.
Ни единого лучика не падало с моста, не блестела отраженным светом
хромированная фурнитура. Я поднес к глазам руку - не видать. Закрыл глаза,
надавил на них пальцами и увидел только фосфены - реакция глазных нервов на
нажим. Ощупью добрался до ближайшей двери, опустил окно и выглянул наружу. В
вагон ворвался теплый воздух с незнакомым, очень густым и тяжелым, запахом.
Сначала я встревожился, не учуяв запаха соли, водорослей, краски и машинного
масла, даже дыма и пара.
Но тут наверху я заметил полоску света; она двигалась, но очень
медленно. Поезд по-прежнему шел почти на максимальной скорости, ветер
врывался в окно и теребил на мне одежду. Но я видел, как в вышине еле-еле
ползет свет. Наверное, он очень далеко. Я предположил, что это край облака,
освещенный звездами. Тут я сообразил, что вижу эту бледную кромку целиком,
мне не мешают фермы и перекладины, не рубят картину на мелкие фрагменты.
Может быть, на этом участке моста несущие основную нагрузку элементы
конструкции расположены ниже рельсов? Меня снова начало мутить.
Поезд сбросил ход на каких-то стрелках, шум уменьшился, и, прежде чем
состав опять набрал скорость, я успел расслышать далекие ночные голоса
дикого темного леса и понять, что световая полоска, ошибочно принятая мной
за край облака, - это неровно поросшая лесом горная гряда в паре миль от
меня. Я рассмеялся, безумно и восторженно, сел у окна и сидел до рассвета,
когда начало пригревать солнце и в зарослях появились очаги тумана.
В этот день поезд замедлил движение и въехал в пределы довольно
крупного города. Неторопливо петляя, состав миновал сортировочную и
приблизился к длинному, приземистому зданию вокзала. Я спрятался в кладовке
для постельного белья. Поезд остановился. Послышались голоса, урчание
каких-то машин внутри вагонов, затем наступила тишина. Хотел выбраться из
шкафа, но тот, оказывается, заперли снаружи. Я задумался, что делать дальше.
Снова через металлическую дверь шкафа проникли голоса, и у меня возникло
впечатление, что поезд наполняется людьми. Через несколько часов он
тронулся. Ночь я провел в запертом шкафу, а утром меня обнаружил проводник.
Поезд и впрямь был полон пассажиров. Хорошо одетые дамы и господа не
отличались от тех, рядом с кем я жил на мосту. Я видел летние костюмы и
платья. Пассажиры сидели за столиками в застекленных вагонах для туристов и
потягивали коктейли со льдом. Кажется, в их взглядах было легкое отвращение,
когда меня вели по составу. На мне мятая и грязная одежда; железнодорожный
полицейский больно заломил мне руку за спину. Снаружи мелькала гористая
местность, уйма туннелей и высоких виадуков над бурными потоками.
Меня допрашивал кто-то из начальства поездной пожарной бригады. Он был
молод и одет в снежно-белый мундир, без единого пятнышка. Меня это удивило -
по идее форма пожарника не должна бояться сажи и копоти. Его интересовало,
как я оказался в поезде. Отвечал я правдиво. Меня снова провели через весь
состав и заперли в пустом отсеке багажного вагона. Кормили меня хорошо,
остатками еды с кухни. Одежду мою забрали, потом вернули выстиранной.
Платок, на котором Эбберлайн Эррол приказала вышить монограмму, а потом
оставила красный след своих губ, я получил назад идеально чистым.
Поезд катил среди гор, потом по травянистой равнине на возвышенности;
вдали мелькали стада каких-то пугливых животных, и непрестанно дул сильный
ветер. За равниной - подножие другого кряжа. Поезд добрался и до него и
снова принялся петлять, и опять виадук следовал за виадуком, туннель - за
туннелем. Теперь мы ехали вниз, делая остановки в тихих городках, среди
лесов, возле зеленых озер и каменных шпилей на постаментах из щебня. В моей
грохочущей одиночке не было никакой мебели, а единственное оконце имело
размеры два фута на шесть дюймов, но видимость была вполне
удовлетворительная, а из конца вагона, через большую дверь для погрузки
багажа, текли свежие, разреженные запахи скал и альпийских лугов, и
окутывали меня, и дразнили ложными надеждами на возвращение памяти.
Мне и здесь снились сны, другие, не только о жизни человека в красивом
строгой красотой городе. Однажды ночью мне привиделось, что я проснулся, и
подошел к оконцу, и гляжу на усеянную валунами равнину, и вижу две пары
слабых огней, приближающихся друг к другу по озаренной луной пустоши. Но
едва они сошлись и остановились, поезд с ревом влетел в туннель. Потом был
сон, как я выглядываю из окна днем, когда поезд шел над высоким обрывом и
искрящимся синим морем. Край обрыва унизан пушистыми белыми облачками. Мы
врываемся в них и тут же выскакиваем в участки чистого, лишь слегка
тронутого знойной дымкой пространства, и в такие минуты далеко внизу
виднеется лакированное солнцем море. И однажды я как будто углядел два судна
под парусами, борт о борт, и между ними клубился серый дым и выстреливали
языки пламени. Но это была греза.
В конце концов меня высадили - за горами, холмами, тундрой и еще одной,
низко лежащей над уровнем моря, холодной равниной. Здесь находится
Республика, студеная концентрическая территория, называвшаяся раньше, как
мне сказали, Оком Господним. С голой равнины туда можно было попасть по
длинной дамбе, которая разделяла воды громадного серого внутреннего моря. В
плане море имеет почти идеально круглую форму, и большой остров посреди него
тоже очень напоминает эту геометрическую фигуру. Для меня знакомство с
Республикой началось со стены, грандиозного сооружения, окаймленного
пенистым прибоем и увенчанного низкими башнями. Стена изгибалась и казалась
бесконечной, исчезала в далеких завесах ливня. Поезд с грохотом одолел
длинный туннель, глубокий ров с водой и еще одну стену. Дальше лежал остров,
Республика, страна пшеничных нив и ветров, низких холмов и серых зданий. Она
казалась одновременно изнуренной и полной энергии; серые дома часто
чередовались с ухоженными дворцами и храмами, явно принадлежащими прежней
эпохе; их тщательно восстановили, но, похоже, применения им не нашли. Еще я
увидел кладбище, очень большое, в несколько миль протяженностью. Над морем
зеленой травы высились идеально ровными шеренгами миллионы одинаковых белых
столбиков.
Меня поселили в бараке, где живут сотни людей. Я сметаю палую листву с
широких тропинок парка. По его сторонам - высокие серые дома, квадратные
громады на фоне зернистого, пыльно-голубого неба. Крыши зданий увенчаны
шпилями с развевающимися флажками, но рисунков на этих флажках мне не
разобрать.
Я подметаю, даже когда листьев нет. Правила есть правила. Как только я
здесь очутился, возникло впечатление, что это тюрьма. Но я ошибался. То
есть, может, это действительно тюрьма, только не в привычном смысле слова.
Каждый встречный мне казался либо заключенным, либо охранником, и, даже
когда меня взвесили, измерили, осмотрели, и выдали мне робу, и привезли на
автобусе в этот огромный безымянный город, почти ничего не изменилось. У
меня была возможность поговорить с очень немногими людьми. В этом, конечно,
нет ничего удивительного. Те, к кому я обращался, с живым интересом
прислушивались к моему выговору, но сами о своих делах рассказывали очень
осторожно. Я спрашивал, слышали ли они что-нибудь о мосте. Некоторые
слышали, но восприняли как шутку мои слова, что я сам оттуда. А может быть,
приняли меня за психа.
Потом мои сны изменились, были захвачены, порабощены.
Однажды ночью я проснулся в бараке. Сладко до тошноты пахло смертью, со
всех сторон раздавались крики и стоны. Я выглянул в разбитое окно и увидел
сполохи далеких разрывов, ровное свечение больших пожаров. Услышал
приглушенный грохот снарядов и бомб. В бараке я был один, звуки и запахи
проникали снаружи.
Я чувствовал слабость и жуткий голод - хуже, чем в поезде, что увез
меня с моста. Оказывается, за эту ночь я потерял половину своего веса. Я
ущипнул себя, укусил за внутреннюю сторону щеки, но не проснулся. Оглядел
безлюдный барак: оконные стекла укреплены липкой лентой, на каждой
прямоугольной пластине черный или белый икс. За окнами пылал город.
Там, где раньше хранилась моя роба стандартного образца, я нашел чьи-то
неудобные ботинки и старый костюм. Оделся, обулся и вышел в город. Увидел
парк, который мне полагалось подметать, только сейчас в нем повсюду стояли
палатки, а здания вокруг превратились в руины.
В небе то и дело появлялись самолеты - одни ровно гудели, пролетая,
другие с воем падали из ночных облаков. Земля и воздух сотрясались от
взрывов, пламя взлетало ввысь; кругом - руины и запах смерти. Я увидел тощую
клячу, убитую прямо в упряжке; повозка была наполовину погребена под
обломками здания. Тощие мужчины и женщины с безумными глазами аккуратно
разделывали конягу.
Облака казались оранжевыми островами в чернильном небе; пожары
отражались в летучем паре и посылали навстречу колонны своей собственной
мглы. Над пылающим городом кружили самолеты, как вороны над падалью. Иногда
какой-нибудь из них попадался в луч прожектора, и небо вокруг еще сильнее
затмевалось комками черного дыма. В остальном же город казался беззащитным.
Несколько раз над моей головой свистели шальные снаряды, два легли
поблизости, вынуждая меня бежать в укрытие; вокруг дождем сыпались пыльные
осколки кирпича и камня.
Несколько часов я блуждал в этом бесконечном кошмаре. К рассвету решил
вернуться в барак и увидел впереди старика со старухой. Они шли по улице,
поддерживая друг друга; внезапно мужчина скорчился и упал, и женщина тоже не
удержалась на ногах. Я поспешил к ним на помощь, но старик был уже мертв.
Несколько минут не падало ни бомб, ни снарядов, и хотя я слышал треск
стрелкового оружия, доносился тот издалека. Женщина, почти такая же седая и
тощая, как покойник, кричала, рыдала и стонала, уткнувшись лицом в
потрепанный ворот его пальто, и медленно качала головой, и повторяла
какие-то непонятные мне слова.
Я и не подозревал, что в иссохшей старухе может быть так много слез.
Я вернулся в барак и увидел, что там полным-полно убитых солдат в серых
мундирах. Одна койка была не занята. Я лег на нее и проснулся.
Никакой войны; я по-прежнему в мирном, невредимом городе. Все те же
деревья, дорожки и высокие серые дома. Оглядевшись, я убедился, что вокруг
те самые здания, которые только что лежали в руинах. Присмотрелся и
обнаружил, что не все их блоки должным образом отреставрированы - некоторые
хранят различимые, хоть и подтертые выветриванием следы шрапнели и пуль.
Такие сны преследовали меня неделями кряду, похожие, но никогда не
повторяющиеся точь-в-точь. Почему-то я не очень удивился, когда узнал, что
подобное тут снится всем. Удивлялись они - тому, что со мной такое
происходит впервые. Непонятно, почему они так боятся этих видений. Ведь это
в прошлом, говорил я им, а будущее может быть лучше, зачем же обязательно
должно повториться прошлое?
Однако они считают, что угроза есть. Я им говорю, что нет, но к моим
доводам не прислушиваются. Некоторые даже стали меня избегать. Тем, кто
слушает, я говорю, что они в тюрьме, только это не простая тюрьма, она - у
них в головах.
Этой ночью я пил спирт с товарищами по бараку. Я им рассказывал про
мост и про то, что ничего опасного для них по пути сюда не увидел.
Большинство работяг обозвали меня чокнутым и разошлись спать. А я засиделся
допоздна и слишком много выпил.
Утром я страдаю похмельем, а ведь рабочая неделя только началась. Беру
на складе метлу и выхожу в прохладу парка, где лежат листья, мерзлые или
оттаявшие - в зависимости от того, куда падают снопы солнечных лучей. В
парке меня уже поджидают четверо в большом черном автомобиле.
В машине двое бьют меня, а двое других болтают о том, как на этих
выходных пялили своих баб. Мне больно, хотя истязатели не усердствуют, -
похоже, им просто скучно. Один рассадил о мой зуб костяшку пальца и как
будто осерчал, но, когда он вынимает кастет, другой что-то говорит ему, и
первый прячет железку и потом только сидит, посасывая ранку. С воем сирены
машина несется по широким улицам.
На лице сидевшего за столом худого седого человека я вижу почти
виноватое выражение. Лупить меня не полагалось, но это стандартная
процедура. Он говорит, что я просто счастливчик. Я вытираю кровь под носом и
подбитые глаза платком с монограммой (каким-то чудом он до сих пор не
украден) и пытаюсь соглашаться с незнакомцем. "Вот если б вы были из
наших..." - говорит он и загадочно качает головой. И постукивает ключом по
поверхности серого металлического стола.
Я где-то в большом подземном здании. В машине, по пути к большому
городу (даже не представляю, где он находится), мне надели повязку на глаза.
О том, что мы въезжаем в город, я догадался по транспортному шуму, среди
которого автомобиль ехал больше часа, пока наконец не нырнул в гулкое
подземелье и не покатил по спирали вниз. Когда наконец остановился, меня
высадили и бесчисленными кривыми коридорами привели в эту комнату, где сидел
худой и седой человек, постукивал по металлическому столу ключом и пил чай.
Я спрашиваю, как со мной собираются поступить. Вместо ответа он
рассказывает мне о здании, куда меня привезли, - тюрьме, совмещенной с
управлением полиции. Как я и догадывался, сооружение располагается большей
частью под землей. С неподдельным энтузиазмом (и постепенно входя в раж) он
объясняет, по каким принципам оно построено и как действует. Тюрьма-полиция
представляет собой несколько высоких цилиндров, врытых в землю. Этакие
трубчатые перевернутые небоскребы, составленные вплотную друг к другу в
городских недрах. Точное число цилиндров он не разглашает, но у меня
складывается впечатление, что их от трех до шести. Каждый содержит множество
помещений: камеры, туалеты, кабинеты, столовые, спальни и тому подобное, и
каждый цилиндр способен вращаться независимо от других. Так что можно почти
непрерывно менять пространственную ориентацию коридоров и наружных дверей.
Допустим, сегодня дверь ведет к лифту, или к подземной стоянке автомобилей,
или к железнодорожной станции; завтра она откроет путь в другой цилиндр или
за ней окажется глухая скала. Каждый день, а в условиях чрезвычайного
положения даже каждый час эти циклопические цилиндры дружно проворачиваются
- либо наугад, либо по сложному секретному алгоритму; поэтому заранее
планировать побег из тюрьмы совершенно бессмысленно. А информация, потребная
для расшифровки этого сложнейшего алгоритма, поступает к рядовым полицейским
и тюремщикам по крупицам, ровно в том объеме, какой необходим для выполнения
их непосредственных служебных обязанностей, так что посторонний нипочем не
догадается и не разнюхает, какую конфигурацию примет в следующий раз
мудреный подземный комплекс. К машинам, которые регулируют и контролируют
это вращение, имеют доступ лишь самые честные и проверенные сотрудники, а
механические и электронные мускулы и нервы машин сконструированы таким
образом, чтобы никакой инженер или рабочий, привлеченный к устранению той
или иной неполадки, не получил возможности увидеть систему целиком.
Обо всем этом поведал мне седой собеседник, обладатель ясного и
открытого взгляда. У меня болит голова, перед глазами все плывет, и неплохо
бы посетить туалет, но я вполне искренне соглашаюсь: да, мол, в инженерном
деле вы достигли немалых успехов. "Но разве вы еще не догадались, -
спрашивает он с лукавой улыбкой, - разве вы еще не поняли, что послужило
прототипом?" "Нет, не понял", - сознаюсь я. В ушах звенит.
"Замок! - выпаливает он торжествующе, с блеском в глазах. - Это же
песня, симфония металла и камня, абсолютная реализация идеи замка,
надежнейшее хранилище, из которого ни за что не вырваться злу".
Я понимаю, что он имеет в виду. В голове пульсирует боль, и я валюсь
без чувств.
А просыпаюсь уже в другом поезде. Во сне я обмочился.
"Сеются по свету разные правды Роем пластиковой шрапнели, Многим они
проникают под кожу, Кое-кому задевают нервы. Лишний симптом застарелой
хвори, Лишний стигмат миропорядка; Расцвет и тленье вашей системы,
Диабетического материализма. Давайте просите у нас прощенья. Ответьте, ради
чего вся подлость. Скажите: "Хотели сделать как лучше, Боль причиняли для
вашей же пользы". Мы улыбнемся в ответ притворно, Припомнив Кровавые
Воскресенья Вместе с Черными Сентябрями, - Время, что вы растратили зряшно.
Нам это - повод считать патроны, Думать, где выстроим баррикады,
Выбрать решительных командиров, Смазать винтовки и ждать сигнала. А до тех
пор бормотать согласно: "Да, ну конечно, все так и было. Мы не в претензии -
понимаем: Вы же всегда хотели, как лучше...""
- Очень, очень радикально, - кивнул Стюарт. - Сплошь уличные лозунги. Я
всегда говорил, что хороший стих заменяет десяток "Калашниковых". - Он еще
раз кивнул и поднес к губам стакан.
- Слышь, ты, жопа с ручкой, а как тебе "диабетический материализм"? Не
возражаешь?
Стюарт пожал плечами, потянулся за новой бутылкой "Пильза".
- Ни в коем разе. Валяй дальше, чувак. Это новые стихи?
- Старье. Хотя подумываю, не рискнуть ли что-нибудь напечатать. Просто
боялся, ты обидишься.
Стюарт рассмеялся:
- Ну и мудила же ты иногда! Сам-то хоть об этом знаешь?
- Догадываюсь.
Это было в Данфермлине, в доме Стюарта. Шона с детьми отправилась на
выходные в Инвернесс. Он приехал оставить рождественские подарки и
пообщаться со Стюартом. Хотелось с кем-нибудь поговорить. Он откупорил новую
банку "экспортного" и добавил пробку с колечком к растущей в пепельнице
груде.
Стюарт налил себе в стакан "Пильза" и перебрался к вертушке. Последняя
пластинка доиграла несколько минут назад.
- Как насчет тряхнуть стариной?
- А чего? Давай поностальгируем. - Откинувшись на спинку кресла, он
глядел, как Стюарт ворошит большим пальцем коллекцию дисков, и жалел, что не
придумал ничего оригинальнее, чем дарить детям пластинки. Впрочем, они
именно пластинки и просили всегда. Одному было десять, другому - двенадцать.
Он вспомнил, что первый сингл купил себе на шестнадцатилетие. А у детей
Стюарта уже свои коллекции альбомов. Что тут скажешь?
- О господи, - пробормотал Стюарт, вытягивая и удивленно разглядывая
голубой с серым конверт. - "Deep Purple in Rock".
Неужели это я покупал?
- Обкурился, наверное, в дупель, шандарахнуло в голову, как булыжником,
- сказал он.
Стюарт повернулся к нему и подмигнул, доставая диск из конверта:
- Что это с тобой? Проблеск остроумия?
- Крошечная искорка. Да ставь же диск, япона мать!
- Погоди, сейчас почищу, давно не слушал. - Стюарт протер диск и
опустил иглу: "Can't Stand the Rezillos"<"Терпеть не могу Rezillos"
(англ.)>.
"Так это аж семьдесят восьмого! - подумал он. - Ни хрена себе! Вот уж
правда, трясем стариной".
Стюарт покивал под музыку, потом сел в кресло.
- Люблю я эти нежные, мелодичные песни, - прокричал он.
Проигрыватель оглашал комнату грохотом "Somebody's Gonna Get Their Head
Kicked In Tonight"<"Кому-то сегодня проломят башку" (англ.)>.
Он отсалютовал Стюарту пивной банкой:
- Семь лет! Боже Всемогущий! Стюарт наклонился вперед, приставил к уху
согнутую ладонь.
- Семь лет, говорю. - Он кивнул на хайфай: - Семьдесят восьмой...
Стюарт откинулся в кресле, выразительно покачал головой:
- Не-а. Тридцать три и одна треть.
Я понижен в должности, и теперь моя работа - рассказывать истории из
прежней жизни. Копаюсь в своих снах, выискиваю там лакомые кусочки для
привередливого фельдмаршала и его пестрого воинства - банды отъявленных
душегубов. Мы сидим на корточках вокруг костра; горят музейные знамена и
драгоценные книги, пламя сверкает на патронташах и штыках. Мы едим
человечину и пьем дрянное виски. Фельдмаршал хвастает выигранными им
битвами, трахнутыми им женщинами, а когда запас его фантазии иссякает,
наступает моя очередь. Я рассказываю про мальчика, у которого отец держал на
пустыре голубятню. Мальчик вырос, и самым счастливым в его жизни был тот
день, когда он предложил своей девушке руку и сердце и получил отказ, а
случилось это на вершине громадного архитектурного памятника, и там тоже
жили голуби.
Однако на фельдмаршала моя история, похоже, не производит впечатления,
поэтому я возвращаюсь к самому началу.
Когда в кабинете худого седоволосого человека, барабанившего ключом по
серому столу, со мной по законам мелодрамы приключился обморок, меня
перенесли на поезд. Пока я лежал без сознания, тот доехал до границы
Республики, по гребню плотины промчался на тот берег почти идеально круглого
моря и углубился в стылую тундру.
Придя в себя на узкой койке, я обнаружил, что описался. Самочувствие
было ужасным: голова раскалывалась, туловище ныло в нескольких местах и
проснулась застарелая круглая боль в груди. Вокруг меня погромыхивал поезд.
Мне дали новый комплект одежды - форму официанта. В поезде ехали
престарелые чиновники из Республики, их отправили с миротворческой миссией,
но мне так и не привелось узнать, в каких таких должностях состояли эти люди
и какого такого мира они намеревались добиться. И я вместе с опытным старшим
официантом должен был обслуживать их в вагоне-ресторане, подавать напитки,
принимать заказы, носить с кухни еду. К счастью, эти дряхлеющие бюрократы
почти беспробудно пьянствовали и первые мои оплошности остались
незамеченными, а вскоре меня поднатаскал старший официант. Иногда
приходилось стелить койки, подметать, стирать пыль и надраивать блестящую
фурнитуру в мягких купе и сидячих вагонах.
Если это наказание, то очень мягкое, думалось мне. Позже я узнал, что
лишь чудом избежал гораздо худшей судьбы. Дело в том, что для обслуги и
пассажиров этого поезда я был неграмотным, немым и глухим. Ведь я ни слова
не понимал в речах окружающих или в газетах, которые лежали в вагонах.
Поэтому мне можно было доверять и можно было меня использовать. Естественно,
я кое-чему все же научился, но мой словарь представлял собой горстку
ресторанных терминов, и меня хватало от силы на расшифровку табличек, таких
как "Просьба не беспокоить". Но от официанта большего и не требовалось.
Поезд мчался по продуваемой всеми ветрами тундре, минуя низкорослые городки,
лагеря для заключенных и военные базы.
Чем дальше мы отъезжали от Республики, тем быстрее чиновники переходили
от пьяного расслабления к пьяному напряжению. На горизонте медленно
поднимались столбы черного дыма, над поездом с ревом проносились боевые
самолеты. В такие моменты пассажиры инстинктивно пригибались к столикам,
потом смеялись, расстегивали воротники и одобрительно кивали вслед быстро
исчезающим в небе пятнышкам. Затем ловили мой взгляд и властно щелкали
пальцами: еще по одной!
В составе нашего поезда были две платформы с двумя четырехствольными
зенитными установками: одна перед локомотивом, другая - за вагоном с
охраной; позже перед ней вставили теплушку для артиллеристов и бронированный
вагон с дополнительными боеприпасами. Военные жили обособленно, в
пассажирские вагоны почти не заходили, и меня не посылали их обслуживать.
Позже в городке, где вдали ревели сирены и клаксоны, а рядом с вокзалом
бушевал громадный пожар, было отцеплено два пассажирских вагона. Вместо них
поставили обшитые бронеплитами, с пехотой. Офицеры заняли один или два
спальных вагона. Но все же среди пассажиров еще преобладали чиновники.
Офицеры вели себя прилично.
Переменилась погода, выпал снег. Мы ехали вдоль щебенчатой дороги; под
разными углами к ней в кюветах валялись сожженные грузовики, а проезжая
часть и обочины были испещрены воронками. Уже появлялись воинские колонны и
толпы бедно одетых гражданских с детскими колясками, груженными домашней
утварью. Войска двигались в обоих направлениях, беженцы - в одном,
противоположном нашему. Несколько раз поезд без видимой причины
останавливался, и часто я видел проходящие мимо товарняки со щебенкой, а
также с разобранными грузовиками, бульдозерами и подъемными кранами. Многие
мосты над заснеженной тундрой были совсем недавно построены из обломков
прежних мостов; обслуживали их саперы. Такие участки поезд преодолевал с
черепашьей скоростью, я даже выходил и шагал рядом, разминал ноги, дрожа от
холода в тонкой тужурке официанта.
Прежде чем я понял, что происходит, в вагонах не осталось штатских,
только офицеры и поездная обслуга. И все вагоны теперь были бронированные. У
нас было три обшитых стальными плитами дизельных локомотива впереди и еще
два позади. Через каждые три-четыре вагона - платформа с зенитными орудиями,
в крытых вагонах прятались полевые пушки и гаубицы; и еще был вагон с
радиостанцией и автономным электрогенератором, несколько платформ с танками,
джипами и артиллерийскими тягачами, а также теплушки, набитые новобранцами,
и с десяток вагонов, груженных бочками с горючим.
Я теперь прислуживал только офицерам. Они много пили, еще больше, чем
бюрократы, и имели склонность к вандализму, но зато не бросались в меня
столовым серебром, когда я ронял грязные тарелки.
Солнце грело меньше, ветры студили сильнее, а тучи были здесь особенно
темны и плотны. Беженцы нам больше не встречались, только развалины городов
и деревень, похожие на рисунки углем: чернота покрытых сажей камней и пустая
белизна лепящегося ко всему и вся снега. Попадались опустевшие военные
лагеря, разъезды, забитые бронепоездами вроде нашего или поездами с сотнями
танков на платформах, с гигантскими орудиями на многоосных платформах длиной
с полдюжины обычных.
Мы подверглись атаке с воздуха. Наша зенитная артиллерия открыла
сумасшедшую пальбу, вдоль поезда поплыли облака едкого порохового дыма.
Самолеты били из пушек, вышибали нам окна; бомбы падали в сотнях футов от
железнодорожного пути. Мы со старшим официантом лежали на полу кухни, он
прижимал к животу коробку тончайших хрустальных бокалов, а над нами свистели
осколки оконного стекла. Оба мы ужаснулись при виде волны красной жидкости,
хлынувшей из-под кухонной двери; подумали, что убило кого-то из поваров. Но
это было всего лишь вино.
Повреждения были устранены, и поезд двинулся дальше между низкими
холмами, под темными тучами. Местами ветром сдуло с холмов снег, и, хотя
солнце уже не поднималось высоко в небо, стало теплее. Я как будто даже
чувствовал дыхание океана. Иногда попахивало серой. Нам попадались военные
лагеря, каждый крупнее предыдущего. Холмы постепенно сменились горами, и я
однажды вечером, работая в ресторане, увидел первый вулкан. По ошибке я
принял его за разгорающийся вдали грандиозный ночной бой. Военные лишь
косились за окно и предостерегали, чтобы я не пролил суп.
Вдали теперь непрестанно грохотали взрывы - частью вулканические,
частью рукотворные. Поезд с грохотом катил по только что отремонтированному
пути, полз мимо серолицых людей с кувалдами и совковыми лопатами.
Мы бежали от неприятельских самолетов: разгонялись на прямых участках
пути, опасно кренились на поворотах, ныряли в туннели, тормозили с неистовым
визгом, грохотом и треском. Искры из наших тормозных букс освещали стены
туннелей.
Мы выгружали танки и автомобили, принимали раненых. Окрестные холмы и
долины были усеяны следами войны, как запущенный сад - гнилыми фруктами.
Однажды вечером я увидел остовы танков, охваченные рубиново-красным огнем.
Под нами по долине текла лава, словно пылающая грязь; у попавшихся в эту
западню танков расплавились гусеницы, нелепо задрались к небу стволы пушек.
Беспомощные стальные махины, несомые раскаленным потоком, казались
мертворожденными детищами самой земли или антителами в адской кровеносной
артерии.
Я все еще прислуживал военным в вагоне-ресторане, хотя у нас не
осталось вина, а продовольствие ухудшилось и качественно, и количественно.
Многие офицеры, севшие на наш поезд после того, как он въехал в прифронтовую
зону, могли тупо глядеть в свои тарелки по нескольку минут кряду, как будто
вместо еды мы предложили им гайки с болтами.
Наши прожектора не гасли ни днем, ни ночью. Темные тучи, громадные
расползающиеся клубы вулканического дыма, низкое солнце, которого мы порой
не видели целыми днями, - все они словно сговорились превратить
обезображенные разрухой горы и долины в страну вечной ночи. Мы ни в чем не
были уверены. Сгустившаяся на горизонте тьма могла быть дождевой тучей, а
могла быть дымом пожара. Слой чего-то белого на холме или равнине мог быть
как снегом, так и пеплом. Сполохи над нами - как пожарами в горных
крепостях, так и выбросами проснувшегося вулкана.
Наш поезд, в брызгах застывшей лавы, в корке спекшейся пыли, во
вмятинах и заплатах, двигался через сумрак, пыль и смерть, и какое-то время
спустя мне это стало казаться совершенно нормальным. Скоро на крышах и
стенах вагонов накопится столько остывшего вулканического материала, что мы
будем в конце концов неотличимы от скал - по крайней мере, при взгляде
сверху. Естественная защитная оболочка, камуфляж как продукт эволюции -
словно бы металлы, составляющие корпус поезда, спонтанно вернулись в свое
природное состояние.
Нападение застигло нас в гуще огня и пара.
Поезд спускался по горному перевалу. В неглубокой долине сбоку от нас
бежал лавовый поток, почти не отставая от поезда. Когда мы по вырубленной в
скале выемке приблизились к туннелю, перед нами вырос громадный паровой
занавес, и звуки, похожие на шум исполинского водопада, медленно поглотили
стук колес поезда. Проехав через заполненный туманом туннель, мы обнаружили,
что путь лаве прегражден глетчером; ледяной щит выступал из ответвления
ущелья, его грязные талые воды питали широкое озеро. Поток лавы достиг
ледяной воды, гнал перед собой необъятную стену пара.
Поезд опасливо крался вперед через облако густого тумана. Я заправлял
койки в спальном вагоне. Когда начался камнепад, я отошел к противоположной
стене вагона и через открытую дверь смотрел, как по окутанному паром склону
летят булыжники, все крупнее и крупнее, как они скачут и врезаются в поезд.
Одни камни влетали в окна, другие бились о бока вагонов. Вдруг огромный
валун понесся прямиком на меня, и я побежал по коридору. В шуме камнепада и
далекой пушечной пальбы я чувствовал содрогание поезда, затем ужасающий
грохот стер все прочие звуки. Лава испарила озеро, канонаду, мелкий камнепад
по бокам и крышам вагонов. Мой вагон резко накренился, швырнув меня на окно.
Мигнули и погасли лампы; душераздирающий треск, звон бьющегося стекла
исходил, казалось, со всех сторон; выпуклая крыша и стены пасовали меня друг
другу, как футбольный мяч.
Позже я узнал, что вагон оторвался от состава и покатился по каменной
осыпи к кипящим водам озера. Бандиты фельдмаршала, явившиеся грабить поезд и
добить уцелевших, наткнулись на меня. Я сидел среди обломков, бормотал
что-то невразумительное и, как они мне сказали (хотя эти соврут - недорого
возьмут), все прикладывал голову старшего официанта к тому, что осталось от
его туловища. Я даже засунул яблоко ему в рот.
Меня снова спас мой язык. На нем говорят и эти люди, и они отвели меня
к фельдмаршалу. Он находился в небольшом поезде, стоявшем чуть дальше по
железнодорожному пути.
Фельдмаршал очень высок и плотен, с непропорционально длинными ногами и
безразмерным задом, с широким круглым лицом и покрашенными в черный цвет
волосами. Он любит пышные мундиры с высоким альбедо<Альбедо - коэффициент
отражения света (астроном.)>. Он сидел в своем вагоне за столом, слушал
музыку по радио и ел засахаренную айву с десертной тарелки. Когда меня,
полуживого, притащили к нему, он спросил, откуда я такой взялся. Смутно
помню, что я рассказал правду, которая ему показалась крайне забавной.
"Будешь моим слугой, - сказал он. - Люблю за обедом слушать интересные
байки". Меня заперли в тесном отсеке багажного вагона, и там я ждал, когда
банда фельдмаршала дограбит наш поезд и добьет последних пассажиров. Меня
обыскали, забрали носовой платок. Через несколько дней я увидел, как в него
сморкается фельдмаршал.
Наконец вернулись перепачканные кровью боевики, принесли добытое оружие
и ценные вещи. Налетел ветер, принялся гонять пар в долине. Озеро уже почти
высохло, но лава все текла. И вот ее поток встретился с глетчером, это
вызвало серию ужасающих взрывов, обломки льда и камня взлетели на сотни
футов. Наш маленький состав успел улизнуть, лязгая и громыхая, от этого
стихийного бедствия. Поезд фельдмаршала был короче, чем попавший к нему в
засаду, да и оснащен хуже. Ехали мы ночами, а днем только под прикрытием
густого тумана; когда его не было, прятались в туннелях или растягивали
камуфляжные сети. Первые несколько дней в вагонах царила напряженная
атмосфера, но мало-помалу пестрое воинство расслабилось, и этому не помешал
даже налет пикирующего бомбардировщика, от которого мы едва успели сбежать,
и страшный проезд через длиннейший извилистый виадук под артиллерийским
обстрелом.
Вулканическая активность снизилась, и теперь только фумаролы, гейзеры и
озерца кипящей грязи намекали на могучий огонь, что крылся под остывающей
коркой земли.
Фельдмаршал вез с собой десяток-другой свиней. Они ехали в красивых
купейных вагонах, а пленных людей мы везли в хвосте, в двух полных навоза
теплушках для скота. Свиней каждый день мыли в личной ванне-джакузи
фельдмаршала, занимавшей большую часть его вагона. За хрюшками постоянно
ухаживали два солдата, им вменялось в обязанность содержать в порядке
постели, которые животные норовили превратить в хлев, носить им пищу (свиньи
ели то же, что и мы) и вообще следить за их благополучием.
Пленных солдат бросали в озера кипящей грязи. Это случалось довольно
часто и делалось просто так, развлечения ради. Фельдмаршал заметил, что на
меня это действует угнетающе.
- Огр, - так он произносил мое имя, - Огр, тебе что, не по душе наши
невинные забавы?
И я притворно улыбался.
Дни удлинялись, на смену дремлющим вулканам пришли низкие холмы и
саванны. Фельдмаршал остался без кипящей грязи и придумал новое развлечение
- привязывать к шее пленника короткую веревку и гнать его перед поездом. В
таких случаях сам фельдмаршал управлял паровозом, хихикал, наращивая
скорость и догоняя свою жертву. Обычно сил у несчастного хватало примерно на
полмили. Потом его размазывало по шпалам, или он отпрыгивал в сторону, но
тогда поезд прибавлял ходу и тащил его вдоль рельсов.
У последнего грязевого озера фельдмаршал приказал обвязать человека
веревкой вокруг пояса и столкнуть с берега, а когда бедняга сварился,
солдаты вытащили его, покрытого слоем быстро подсыхающей глины. Они взяли
лопаты и забросали скорченное тело глиной. Она высохла, и на пепельном
берегу соленого зловонного внутреннего моря появилась уродливая статуя.
Мы пересекали высохшее море по дну, приближались к городу,
воздвигнутому на громадном круглом утесе, и тут появились бомбардировщики.
Поезд разгонялся, рвался к туннелю под разрушенным городом; несколько
зенитных пушек - наша противовоздушная оборона - открыли ураганный огонь.
Три средних бомбардировщика шли прямо на нас на бреющем полете - от
силы пятьсот футов над рельсами. Первым сбросил бомбы ведущий, еще в
четверти мили от поезда. Я за этим наблюдал из плексигласовой башенки на
крыше вагона фельдмаршала, куда явился откупорить бутылку айсвайна. Машинист
резко дал по тормозам, нас бросило вперед. Фельдмаршал промчался мимо меня,
пинком распахнул дверь аварийного выхода и спрыгнул. Я кинулся вслед,
ударился о пыльную насыпь, а состав погиб под бомбами, как гибнет игрушечный
поезд под солдатскими подметками. Насыпь подбрасывала меня, точно батут, с
неба сыпались камни и обломки вагонов. Я свернулся в клубок и заткнул
пальцами уши.
Мы в покинутом людьми городе: фельдмаршал, я и еще десять человек.
Больше никто не спасся. В отряде есть кое-какое оружие и одна свинья. В
разрушенном городе много просторных, гулких, увешанных флагами залов и
каменных башен. Мы разбили лагерь в библиотеке, потому что только в ней
удалось найти топливо. Город построен частью из камня, частью из тяжелого
темного дерева, которое еле тлеет в очаге, даже если разжигать с помощью
пороха. Мы берем воду из ржавой цистерны, стоящей на крыше библиотеки, ловим
и едим бледнокожих жителей, которые ночью шмыгают по развалинам, точно
призраки в поисках того, что им уже вовек не найти. Солдаты ворчат: мол, эти
робкие, но доверчивые существа будто специально созданы для нерадивого
охотника. После еды бойцы ковыряются в зубах штыками. Один подходит к
библиотечным стеллажам и сбрасывает несколько старинных томов. Возвращается
с ними к огню, мнет, корежит их, ворошит страницы, чтобы лучше горели.
Я рассказываю фельдмаршалу про варвара и заколдованную башню, про
говорящую зверушку и волшебника, про ведьму-королеву и увечных женщин. Ему
нравится.
Позже фельдмаршал с двумя солдатами и последней свиньей уходит в свою
комнату. Я мою тарелки и слушаю жалобы на скуку и однообразную диету.
Наверное, солдаты скоро взбунтуются: их командир имеет крайне смутное
представление, что делать дальше.
Меня зовут к фельдмаршалу. Похоже, раньше здесь был рабочий кабинет или
мастерская - несколько столов, одна кровать. Оба солдата уходят, ухмыляясь и
подмигивая мне. Запирают дверь. "Надень-ка", - улыбается фельдмаршал.
Это платье. Черное платье. Он встряхивает его передо мной, вытирает нос
моим платком. "Надень", - повторяет он.
Свинья лежит в его постели на животе, хрюкает и повизгивает; она
привязана веревками за копыта к четырем стойкам кровати. Слышен запах духов.
"Надень", - требует фельдмаршал. Я смотрю, как он прячет носовой платок.
Надеваю платье. Свинья хрюкает.
Фельдмаршал раздевается, бросает свой мундир в старый сундук. На столе
лежат книги и тяжелый пулемет, фельдмаршал берет его и сует мне в руки. Он
держит длинную пулеметную ленту, словно это массивное золотое ожерелье,
которое должно подойти к черному платью. "Ты глянь на патроны. - (Я гляжу на
патроны.) - Они боевые; видишь, Огр, как я тебе доверяю, - говорит
фельдмаршал, - делай, что я скажу". Его широкое лицо все в поту, изо рта
гадко пахнет.
Я должен засунуть ему ствол пулемета между ягодицами, когда он залезет
на свинью, вот чего он хочет. Он уже возбужден - от одной этой мысли. Он
намазывает руку ружейным маслом и карабкается на кровать, на визжащую
свинью, и хлопает ее меж задних ног намасленной ладонью. Я стою в изножье
кровати с пулеметом наперевес.
Мне не нравится этот человек, но мы оба не дураки. На плечиках медных
гильз заметны царапины - патроны побывали в челюстях тисков, порох извлечен.
А может, и капсюли выжжены.
Рядом с головой свиньи лежит подушка. Фельдмаршал вытягивается на
животном, оба хрюкают. Одна ладонь все время рядом с подушкой. Там тоже
ствол, думаю я.
- Давай, - командует он и хрюкает.
Я обеими руками берусь за ствол пулемета, одним движением вскидываю и
опускаю, как кувалду, на голову фельдмаршала. Мои кисти, предплечья и уши
раньше глаз сообщают мозгу, что фельдмаршал мертв. Я ни разу до сих пор не
слышал и не чувствовал, как раскалывается череп, но сигнал, проходящий через
металл пулемета и надушенный воздух, совершенно четок.
Тело фельдмаршала еще движется, но лишь потому, что дергается свинья. Я
заглядываю под подушку, перепачканную человеческой кровью и слюной
животного, и вижу длинный, очень острый нож. С его помощью взламываю сундук,
в который фельдмаршал запихал свою форму, там нахожу револьвер с
перламутровой рукоятью и патроны. Убеждаюсь, что дверь заперта, и
переодеваюсь в привычную форму официанта. Прихватываю и одну из шинелей
фельдмаршала, иду к окну.
Ржавая рама визжит, но не громче, чем свинья. Я уже стою обеими ногами
на подоконнике, как вдруг вспоминаю о носовом платке. Вынимаю его из кармана
на мундире убитого.
Город темен, а обитающие в нем робкие, неприкаянные души спешат
укрыться, когда я тихо бегу по развалинам.
Она вернулась. Так же поступила и миссис Крамон, заметно постаревшая и
как будто даже потерявшая в росте. Вопреки его ожиданиям миссис Крамон не
стала расставаться с домом. Андреа переехала к ней, а квартиру на
Камли-бэнк, которая все это время сдавалась студентам, продала. Мать с
дочерью ладили прекрасно, места в особняке хватало обеим. Большой цокольный
этаж они продали со скидкой как отдельную квартиру.
Для него после ее возвращения наступили счастливые дни. Он перестал
беспокоиться из-за лысины, и работа пошла на лад, он еще не оставил мысли о
партнерстве со своими двумя приятелями, и отец, живший на западном
побережье, был как будто вполне доволен судьбой, проводя досуг в клубе для
пенсионеров, где уже успел приглянуться нескольким вдовушкам (старик очень
плохо поддавался на уговоры провести выходные в Эдинбурге, а потом сидел
сиднем, глядел на часы и брюзжал - то ему не хватало игры в карты с дамами,
то бинго, то старых танцев; он куксился даже в ресторанах, где, подавали
лучшие яства лучших эдинбургских поваров, и громогласно тосковал по
привычным тефтелям с картошкой).
А Эдинбург, возможно, снова превращался в столицу, хоть и не в полном
значении этого слова. В воздухе витала идея дележа административных функций.
Он заметил, что полнеет: когда взбегал по лестницам, колыхались грудные
мышцы, и на талии появился жирок. Разумеется, пустяки, но все же пора было
что-то предпринять. Он решил играть в сквош. Впрочем, спорт этот ему не
нравился - он говорил партнерам, что предпочел бы иметь на поле собственную
территорию. К тому же Андреа всегда его обыгрывала. Он переключился на
бадминтон и два-три раза в неделю плавал в бассейне. Впрочем, от бега
трусцой он категорически отказался - должны же быть какие-то рамки.
Бывал он и на концертах. В Париже Андреа приобрела самые широкие вкусы
и теперь тащила его в Ашер-холл слушать Баха и Моцарта, в доме на
Морэй-плейс она ставила ему пластинки Жака Бреля, а в праздники дарила
альбомы Бесси Смит. Он же предпочитал Moteh и Pretenders, ему нравилось, как
Марта Дэвис поет "Total Control"<"Абсолютная власть" (англ.)>, а
Крисси Хайнд говорит "пшшелнахххуй". Считал, что классика не для него, пока
однажды не поймал себя на том, что насвистывает увертюру к "Женитьбе
Фигаро". Понемногу пристрастился к сложным пьесам для клавесина - самое то
за рулем, особенно если погромче. Впервые услышав "Warren Zevon", пожалел,
что слушает альбом с таким опозданием. А на вечеринках он, точно мальчишка,
прыгал и слэмовал под Rezillos.
- Чем, чем ты решил заняться? - спросила Андреа.
- Дельтапланом.
- Шею свернешь.
- А и хрен-то с ней. Зато как кайфово!
- Что "кайфово"? В койке на растяжке валяться?
Дельтаплан он не купил, решив, что это и вправду пока небезопасно. Но
зато записался в клуб парашютистов.
Андреа пару месяцев переделывала дом на Морэй-плейс, следила за
малярами и плотниками, да и сама много работала кистью. Приятно было,
нарядившись в перепачканное краской старье, помогать ей, работать иногда
допоздна, слушать, как она насвистывает в соседней комнате, или
разговаривать, если она была рядом. Однажды он здорово перепугался, нащупав
плотный комочек у нее на груди, но оказалось, ничего страшного. Порой у него
от чертежей и эскизов уставали глаза, но визит к офтальмологу он упорно
откладывал - боялся, что врач пропишет очки.
У Стюарта случилась интрижка со студенткой университета. Об этом
прознала Шона. Говорила, что собирается развестись, фактически выгнала его
из дому. Полный тревоги и раскаяния, Стюарт приехал к нему. Он сел в машину
и отправился в Данфермлин к Шоне - мирить; готовился пустить в ход все свое
красноречие, - мол, Стюарт глубоко переживает, места себе не находит, а сам
я вас обоих всегда любил и завидовал вашей спокойной и верной привязанности
друг к другу. Странноватое это было чувство, почти нереальное, подчас даже
комическое, когда он сидел у Шоны и уговаривал не бросать мужа из-за
мимолетного романа "на стороне". Да, ему это казалось смехотворным. В те
выходные Андреа была в Париже, как пить дать с Густавом, а сам он
намеревался вечером в Эдинбурге затащить в постель долговязую
блондинку-парашютистку. Неужели все дело в какой-то бумажонке? Неужели
только свидетельство о браке все определяет: совместное житье, детей? Или
главное - вера в клятвы, обычай, религию?
Супруги в конце концов помирились, и вряд ли тут сыграла роль его
миротворческая миссия. Шона вспоминала о размолвке лишь изредка, когда
напивалась, и мало-помалу из ее воспоминаний выветрилась горечь. Но ему это
послужило уроком: даже самые прочные на вид отношения между людьми способны
порваться вмиг, если идти против правил, которые сами установили.
"Ну а правда, какого черта?" - подумал он наконец и решился на
партнерство с двумя своими друзьями. Они нашли в Пильриге помещение для
офиса, а ему выпала задача нанять бухгалтера. Он вступил в партию
лейбористов; принимал участие в кампаниях по сбору подписей, организуемых
"Международной амнистией". "Сааб" он продал и купил годовалый "гольф Gti".
Полностью расплатился по ипотечному кредиту.
Он помыл "сааб", прежде чем отогнать его к дилеру, и обнаружил в салоне
белый шелковый шарф - тот самый, который пригодился тогда на башне. Жалко
было оставлять шарфик неизвестно кому, поэтому он, когда спустился,
прополоскал его в ручье. И потерял - думал, он выпал из машины.
А шарф - вот он, все это время пролежал, мятый и грязный, под
пассажирским сиденьем. Он его постирал - удалось избавиться от следов ног, а
кровь, засохшая неровным кругом, точно чей-то неумелый рисунок, исчезать
упорно не желала. Но все равно он решил отдать шарф Андреа. Она сначала
отказалась, - дескать, сохрани на память, но затем вроде передумала и взяла.
А через неделю вернула - без единого пятнышка, почти как новенький, и даже с
ее вышитыми инициалами. Это было эффектно. Как ей с матерью удалось
вычистить шарф, она не призналась. Фамильная тайна. Он бережно хранил
подарок, не надевал, если знал, что может возвращаться домой в крутом
подпитии, - боялся потерять вещицу в каком-нибудь кабаке.
- Фетишист, - упрекнула его Андреа.
Знаменитый референдум под лозунгом "Думай своей головой" был, в
сущности, фальсифицирован. Столько оформительского труда в Сент-Эндрюс-Хаус
- и все псу под хвост.
Андреа переводила с русского и печатала в журналах статьи о русской
литературе. Об этом он не ведал ни сном ни духом, пока ему в руки не попал
номер "Эдинбург-ревью" с длинным очерком о Софье Толстой и Надежде
Мандельштам. У него даже голова пошла кругом. В авторстве - никаких
сомнений, та самая Андреа Крамон: она пишет, как говорит, и он, вчитываясь в
печатные слова, будто улавливал ритм ее речи. "Почему мне ничего не
сказала?" - уязвленно спросил он. Андреа улыбнулась, пожала плечами,
ответила, что хвастать тут особо нечем. В парижских журналах у нее тоже
выходило несколько статей. Так, побочное занятие. Она теперь снова брала
уроки игры на пианино (когда-то занималась музыкой в средней школе, но
бросила), а еще училась рисовать.
Андреа тоже стала партнером в предприятии, если можно так назвать
книжный магазин с феминистским уклоном. Лавочку открыли ее давние подруги, а
она позднее внесла денежный пай. Присоединились и другие женщины, и число
учредителей достигло семи. Брат Андреа назвал это финансовым безумием.
Иногда она помогала в магазине товаркам. Он туда заходил, когда возникала
нужда в какой-нибудь книге из тамошнего ассортимента, но задерживался редко,
так как всякий раз чувствовал себя не в своей тарелке. После того как Андреа
его поцеловала на прощание, одна из подруг выступила на собрании с резкой
критикой. Андреа подняла ее на смех, но потом раскаивалась - очень уж не
по-сестрински получилось. За смех она попросила прощения - но не за поцелуй.
А впоследствии рассказала об этом ему, и с тех пор он, приходя в магазин, не
целовал ее и даже не прикасался к ней.
- О-о-о, су-уки, что ж вы творите-то?! - простонал он однажды чуть
позже полуночи, сидя на постели перед телевизором и следя за ходом
голосования.
Андреа укоризненно покачала головой и потянулась к прикроватной
тумбочке за бутылкой "Блэк лейбл".
- Малыш, не бери в голову. Хлопни-ка лучше виски и не думай о грустном.
Думай лучше о максимальной налоговой ставке для твоего предприятия.
- На хрен! Лучше чистая совесть, чем крепкий банковский баланс.
- Цыц! Твой бухгалтер, услышь такое, в каталожном шкафу перевернется.
Глава очередного избиркома сообщил об очередной победе тори. Поклонники
консерваторов ликовали. Он возмущенно мотал головой и горько вопрошал:
- Куда страна катится, а? Какому псу под хвост?
- Тогда уж какой суке, - поправила Андреа, круговым движением руки
всколыхнув виски в стакане. Она тоже смотрела на экран. На лбу пролегли
складки.
- Ладно.... По крайней мере, она хоть женщина, - проговорил он мрачно.
- Может, она и женщина, - отбрила Андреа, - но не сестра наша. Значит,
сука.
Шотландия проголосовала за лейбористов, на второе место вышла НПШ. Но в
эту бочку меда замешалась ложка ядреного дегтя - премьер-министр,
достопочтенная Маргарет Тэтчер.
Бизнес процветал, от некоторых контрактов приходилось даже
отказываться. Через год бухгалтер посоветовал ему купить дом побольше и
сменить машину. "Но мне же нравится квартирка-то, привык", - жаловался он
Андреа. "Так кто ж тебя вынуждает с ней расставаться, - спросила она. -
Пусть и квартира будет, и дом". - "Не могу же я одновременно жить и там, и
там! И вообще, я всегда считал, что два дома иметь безнравственно, когда
столько народу без крыши над головой". Андреа это в конце концов достало:
- Ну так пусти кого-нибудь в квартиру или в дом, когда его купишь.
Только сначала подумай, кому достанутся все твои лишние налоги, если не
сделаешь, что бухгалтер советует.
- А-а... - смущенно сказал он на это.
Квартиру он продал и купил дом в Лейте, рядом с Линксом. С верхнего
этажа открывался вид на Ферт-оф-Форт. В доме было пять спален и гараж на две
машины. Он купил новый "Gti" и "рейнджровер", чем убил двух зайцев:
осчастливил бухгалтера и заполнил гараж. Полноприводной автомобиль оказался
весьма кстати для поездок на строящиеся объекты. В том году они плодотворно
сотрудничали с некоторыми абердинскими фирмами, и он навещал родителей
Стюарта. В последний визит он даже переспал с сестрой Стюарта, разведенкой,
школьной учительницей. Ее брату он ничего не сказал, поскольку не знал, как
бы тот отреагировал. Зато сообщил Андреа. "Школьная училка? - ухмыльнулась
та. - Это ты что, в общеобразовательных целях?" Он сказал, что не хочет
ничего говорить Стюарту. "Малыш, - взяла его Андреа за подбородок и очень
серьезно посмотрела в глаза, - ты просто идиот".
Она ему помогла украсить дом - при этом от его первоначального плана
оформления остались рожки да ножки.
Однажды вечером он стоял на стремянке, красил вычурную потолочную
розетку и вдруг испытал головокружительный приступ дежа вю. Он даже кисть
опустил. Андреа работала в соседней комнате, что-то насвистывала. Он узнал
мотив: "The River"<"Река" (англ.)>. Он стоял на лестнице в пустой,
гулкой комнате и вспоминал, как в прошлом году работал в просторном зале на
Морэй-плейс, среди зачехленной белыми полотнищами мебели. На нем тогда была
такая же старая, вся в краске, одежда, и он слушал, как Андреа насвистывала
в соседней комнате, и ощущал невероятное, неизмеримое счастье. "До чего ж я
везучий сукин сын! - подумал он. - У меня так много хорошего, и вокруг меня
так много хорошего! Да, я имею не все, я хочу большего, наверное, даже
больше, чем способен удержать. Быть может, я хочу того, что способно сделать
меня только несчастным. Но и это неплохо, без этого какое же удовольствие".
"Если бы мою жизнь экранизировали, - размышлял он, - я б вот сейчас, в
этот самый миг, и закончил картину. Вот на этой блаженной улыбке в пустой
комнате. Человек на стремянке. Улучшение, украшение, обновление. Снято.
Конец фильма".
"Но это не кино, приятель", - сказал он себе и пережил прилив хмельной
радости, наивного, детского восторга при мысли, что он - тот, кто он есть, и
знаком с теми, с кем знаком. Он запустил кистью в угол, спрыгнул с лестницы
и побежал к Андреа. Она водила по стене малярным валиком.
- Господи боже! Я уж думала, ты со стремянки навернулся. А почему рот
до ушей?
- Да просто я спохватился, что мы еще эту комнату не обновляли. - Он
забрал у нее валик, бросил за спину.
- А ведь правда. Надо запомнить, как на тебя действует запах краски.
Разнообразия ради они занялись любовью стоя у стенки. Рубашка Андреа
пропиталась краской и прилипла, и она так смеялась, что по щекам побежали
слезы.
Он всерьез увлекся кино. В течение последнего фестиваля они чаще ходили
на фильмы, чем на пьесы или концерты, и он вдруг осознал, что до сих пор не
удосужился посмотреть сотни лент, о которых так давно слышал. Он записался в
Общество синефилов, приобрел видик и зачастил в магазины видеокассет. А
когда дела приводили его в Лондон, он в свободное время кочевал из кинозала
в кинозал. Ему нравилось почти все, а больше всего нравилось просто ходить в
кино.
К этому времени приобрела некоторую популярность шотландская группа
Tourists; потом их покинула вокалистка и сделалась половиной Eurythmics. Его
часто спрашивали, не в родстве ли он с ней. Он картинно закатывал глаза и
вздыхал: эх, если бы.
Появлялись и другие нежные голоса, и другие изящные попки. Андреа
временами бросало то к одному, то к другому мужчине, и он старался не
ревновать. "Это не ревность, - твердил он себе, - это больше похоже на
зависть. И на страх. Кто-нибудь из них окажется красивей, добрей, лучше меня
и будет сильнее ее любить".
Однажды она запропастилась почти на две недели, у нее был
головокружительный роман с молодым лектором из Хериот-Уатта. Любовь с
первого взгляда сменилась хлопаньем дверьми, битьем посуды, высаженными
оконными стеклами, и все за двенадцать дней. А он тем временем жутко по ней
скучал. Устроил себе недельный отпуск и отправился на северо-запад. К
"рейнджроверу" и "Gti" добавился "дукатти". У него была одноместная палатка,
альпинистский спальный мешок и отличное горное снаряжение. Он усвистал на
мотоцикле на западное нагорье и целыми днями бродил в одиночестве по холмам.
Когда вернулся, с лектором у нее было кончено. Он ей позвонил, но она
почему-то не выразила желания немедленно встретиться. Он встревожился, плохо
спал ночами. Через неделю они все-таки увиделись: ее левый глаз окружала
желтизна. Он бы и не заметил, но в пивнушке Андреа забылась и сняла темные
очки.
- А, фигня, - сказала она.
- Ты из-за этого не хотела со мной встречаться? - спросил он.
- Не надо ничего делать, - попросила она - Я тебя умоляю. Все кончено,
я бы с радостью его придушила, но если ты его хоть пальцем тронешь -
перестану с тобой разговаривать.
- Ну зачем же сразу махать кулаками, - холодно проговорил он, - не всем
это свойственно. Могла бы, между прочим, и довериться мне. Я всю эту неделю
места себе не находил.
Сказал и сразу пожалел об этом. Она сломалась. Обняла его и
расплакалась. И он представил, через что она, вероятно, прошла, и устыдился:
мелко и эгоистично добавлять к ее проблемам свои. Он гладил Андреа по
голове, пока она всхлипывала у него на груди.
- Девочка, пошли-ка домой, - сказал он.
Он еще несколько раз пользовался ее отлучками в Париж, чтобы самому
выбраться из Эдинбурга и развеяться на островах или в горах, а по пути туда
или обратно повидать отца. Однажды на закате он сделал стоянку на склоне
горы Бен-а-Шесгин-Мор. Поблизости стояла хибарка, но в хорошую погоду он
предпочитал ставить палатку. Он глядел на Лох-Фион и небольшую дамбу, по
которой завтра ему предстояло добраться до гор на той стороне озера. И тут
он вдруг подумал: сам никогда не бывал в Париже, но ведь и Густав за все эти
годы ни разу не посетил Эдинбург.
О-хо-хо... Может, так на него подействовал последний косяк, но в этот
миг, хотя они с Густавом были отделены друг от друга тысячами миль и многими
годами заочного соперничества, он ощутил некую душевную связь с таинственным
французом. Он рассмеялся навстречу холодному ветру нагорья, шевелившему
борта палатки, словно дыхание великана.
Одно из его ранних воспоминаний было связано с горами и островом. Мама
и папа, самая младшая из его сестер и он, трехлетний малыш, отправились на
Арран отдыхать. Пароход неторопливо шлепал колесами по течению блистающей
реки к далекой синеватой глыбе острова, папа показывал им Спящего Воина -
горный кряж на северном мысу напоминал громадного павшего солдата в шлеме.
Мальчик навсегда запомнил эту картину, не забыл и попурри сопровождающих
звуков: крики чаек, плеск лопастей, игру аккордеонов где-то на палубе, смех
пассажиров. Тогда же у него приключился и первый кошмар, маме даже пришлось
его разбудить. В гостинице их с сестренкой положили спать на одну койку.
Ночью он вскрикивал и хныкал. Ему приснилось, что громадный каменный воин
пробудился, грозно поднялся и медленно, но неотвратимо приближается, чтобы
раздавить его родителей.
Миссис и мисс Крамон пользовались своим особняком на всю катушку -
устраивали общественные приемы, всячески развлекали гостей; в определенных
кругах дом их пользовался широкой известностью. У них размещались на ночлег
поэты, которых университет пригласил на чтения, иногородний художник,
пытающийся втюхать свои работы картинной галерее, писатели, которых книжный
магазин вытребовал на презентацию нового романа, с раздачей автографов.
Иногда там собирались совершенно незнакомые ему люди. Обычно они выглядели
не такими преуспевающими, как приятели Андреа, и старались побольше съесть и
выпить. Перед каждым приемом миссис Крамон полдня готовила печенье, заварные
пирожные и бутерброды. Его беспокоило, что миссис Крамон даже во вдовстве
тратит время на стряпню для посторонних, но Андреа посоветовала не брать в
голову - мама любит смотреть, как другие пользуются плодами ее труда. Он
спорить не стал, но его здорово коробило, когда записные тусовщики
распихивали по карманам пирожные или бутылки редких вин.
- Эти люди - интеллектуалы, - сказал он однажды Андреа, - а ты открыла
для них салон. В синий чулок превращаешься, черт побери.
Она лишь улыбнулась на это.
Андреа купила у подруги целый выводок сиамских котят, четыре штуки.
Один подох. "Мальчиков" она назвала Франклином и Финеасом, а изящная кошечка
получила имя Фредди-толстушка. "Будь проклята ностальгия", - сказал на это
он. Кто-то подарил миссис Крамон английского кокер-спаниеля, и она дала ему
кличку Кромвель.
Он часто бывал на Морэй-плейс, и у него улучшалось настроение от одних
сборов в дорогу. Езда вызывала в душе чуть ли не детский трепет. Особняк был
для него почти родным домом, теплым, гостеприимным. Порой, особенно под
хмельком, он задумывался о связи между матерью и дочерью, и ему приходилось
бороться с абсурдным сентиментальным чувством.
Он обзавелся "ситроеном-СХ", затем продал все три машины и купил
"ауди-кваттро". Съездил в командировку в Йемен и даже постоял на развалинах
Мохи на берегу Красного моря. Он смотрел, как теплый африканский ветер
шевелит песчинки вокруг его ступней, и ощущал суровое, неколебимое
равнодушие пустыни, ее спокойную вечность, дух этих древних земель. Он водил
ладонью по источенным столетиями, изъязвленным ветрами камням и наблюдал
разрывы белых кулаков шелкового грома, обрушиваемых синим морем на раскрытую
золотистую ладонь берега.
Он работал в Йемене, когда израильтяне вторглись в Южный Ливан из-за
того, что в Лондоне кого-то застрелили, и когда аргентинцы высадились в
Порт-Стэнли. Он не знал, что его брат Сэмми был в составе экспедиционного
корпуса. По возвращении в Эдинбург он жарко спорил с друзьями. "Конечно,
аргентинцы имеют право на эти чертовы острова, - говорил он. - Но как могут
революционные партии поддерживать империалистические демарши фашистской
хунты? Почему всегда кто-то должен быть прав, а кто-то нет? Почему нельзя
сказать: "Чума на оба ваши дома"?"
Брат вернулся целым и невредимым. Но он все еще спорил из-за войны: с
Сэмми, с отцом, с радикально настроенными приятелями. К началу следующих
выборов он уже думал: а может, ребята все-таки были правы?
- А-а, блин, япона мать! - воскликнул в отчаянии он.
У лейбористов были все шансы, но опять социал-демократы оттянули на
себя часть их голосов и обеспечили новую "удивительную" победу
консерваторам. Ученые мужи предсказывали, что тори получат меньше голосов,
чем в прошлый раз, а в итоге число их мест в парламенте увеличилось на сотню
с лишним.
- Что ж вы делаете, суки!
- Это становится навязчивым. - Андреа потянулась за виски. На
телеэкране появилась сияющая торжеством Маргарет Тэтчер.
- Выруби! - завопил он, прячась под одеялом.
Андреа стукнула по кнопке на пульте, и экран потемнел.
- Господи боже ты мой, - простонал он из-под одеяла. - Только не говори
о высшей налоговой ставке.
- Малыш, да я хоть словечко проронила?
- Скажи, что это всего лишь плохой сон.
- Это всего лишь плохой сон.
- В самом деле? Правда?
- Ни фига не правда. Я просто говорю то, что ты хочешь услышать.
- Идиоты! - бушевал он перед Стюартом. - Еще четыре года под этими
полудурками! Господи боже, етить твою мать! Клоун-маразматик и шайка
реакционеров-ксенофобов!
- Причем дорвавшихся до власти на безальтернативной основе, -
подчеркнул Стюарт.
Рональд Рейган только что переизбрался на следующий срок. В Америке
половина электората просто не явилась на участки.
- Почему я не могу голосовать? - ярился он. - От нашего дома рукой
подать до Коул-порта, Фаслейна и Лох-Холи. Если этот мудила перепутает
ядерный чемоданчик со своей задницей и мазнет пальцем по кнопке, хана моему
старику. А может, и всем нам: тебе, мне, Андреа, Шоне, малышам, всем, кого я
люблю! Так какого же хера лысого не могу голосовать против этих долбаных
рейганов?
- Без волеизъявления нет истребления, - задумчиво изрек Стюарт. И
добавил: - А что касается реакционеров на безальтернативной основе...
Политбюро - что такое, по-твоему?
- Политбюро ведет себя куда ответственней, чем эта свора вшивых
ура-патриотов.
- Ну да, пожалуй. Так, твоя очередь - за пивом.
Особняк на Морэй-плейс, резиденция миссис и мисс Крамон, был у всех на
слуху, особенно во время фестивалей. В нем шагу нельзя было ступить, чтобы
не наткнуться на подающего надежды художника, или восходящую звезду
шотландской литературы, или хмурого угреватого юнца, таскающего из комнаты в
комнату синтезатор с колонками и узурпирующего "ревокс" на долгие дни кряду.
Он придумал название: салон "Последний шанс". Андреа превосходно устраивал
ее нынешний образ жизни. Она работала в магазине, переводила с русского,
писала статьи, играла на пианино, рисовала, устраивала приемы, шаталась по
гостям, наведывалась в Париж, ходила в кино, на концерты и спектакли вместе
с ним, а с матерью - на оперы и балеты.
Однажды он встречал ее в аэропорту после очередных "парижских каникул".
Она выходила из таможни с высоко поднятой головой, твердым шагом. На ней
была широкая ярко-красная шляпка, синяя блестящая курточка, красная юбка,
синие колготки и сверкающие лаком красные кожаные сапожки. У нее и глаза
сверкали, а кожа светилась. При виде его Андреа широко улыбнулась. Ей было
тридцать три, и она еще никогда не выглядела такой красивой, как сейчас. В
тот миг он испытал очень странную смесь чувств. Любовь - безусловно, но еще
восхищение пополам с завистью. Да, он завидовал ее удачливости, уверенности,
спокойствию перед лицом жизненных проблем и неурядиц. Ко всему на свете она
относилась будто к малышу-фантазеру, искренне верящему в свои выдумки, - не
снисходительно, а с той же лукаво-серьезной усмешкой, с той же ироничной
отрешенностью вкупе с теплой привязанностью, даже с любовью. Он припомнил
свои разговоры с адвокатом и понял, что Андреа унаследовала некоторые черты
его характера.
"Андреа Крамон, ты счастливая женщина, - подумал он, когда в вестибюле
аэропорта она взяла его под руку. - Ты счастлива не из-за меня и в одном
даже меньше, чем я, - мне повезло претендовать на твое время больше других,
- в остальном же..."
"Пусть бы это не кончалось никогда, - подумал он. - Не дадим идиотам
взорвать мир, не дадим случиться чему-нибудь еще более ужасному. Спокойно,
малыш; с кем это мы тут разговариваем?" Вскоре он продал мотоцикл. Жизнь шла
своим чередом: застрелили Леннона, Дилан ударился в религию. Что из этого
больше его удручило, он бы не взялся ответить.
В ту зиму отец упал и сломал бедро. В больнице он казался очень
маленьким и хрупким, здорово постаревшим. Весной ему потребовалось удалить
грыжу, а потом, вскоре после выписки из больницы, он снова упал, сломал ногу
и ключицу. "Не хрен пить не разбавляя", - сказал он сыну и отказался
переехать в Эдинбург: не может же он расстаться с друзьями. Мораг с мужем
тоже предлагали забрать отца к себе, и Джимми из Австралии прислал письмецо
- отчего бы старику не погостить там несколько месяцев. Но отец не желал
покидать родные места. На этот раз он долго пролежал в больнице, а вышел
худым как щепка и потом так и не сумел восстановить прежний вес. Каждое утро
к нему приезжала сиделка. Однажды обнаружила его у камина, он казался спящим
- на лице застыла улыбочка. У него и с сердцем были нелады. Врач сказал, что
он, наверное, ничего не почувствовал.
Как-то так получилось, что организацию похорон он взял на себя.
Впрочем, это оказалось не слишком хлопотным делом. Приехали все братья и
сестры, даже Сэмми получил увольнение, а Джимми прибыл аж из Дарвина. Он
спросил Андреа, не обидится ли она, если он попросит ее не приезжать; она
все поняла и сказала, что нет, не обидится. А когда все закончилось, хорошо
было вернуться в Эдинбург, к ней и к работе. Потом всякий раз при мысли о
старике на него нападало оцепенение, и, хотя глаза оставались сухими, он
знал, что любил отца, и не чувствовал за собой вины в том, что скорбит без
слез.
- Бедный мой сиротка, - утешала его Андреа.
Компания расширялась, увеличивался штат. Учредители купили большой
новый офис в Нью-Тауне. Он спорил с партнерами насчет заработной платы
персонала. Всем надо дать долю, говорил он. Пусть все будут партнерами.
- Что-что? - переспрашивали друзья. - Коллективная собственность? - И
снисходительно улыбались.
- Черт возьми, а почему бы и нет? - упорствовал он.
Оба партнера поддерживали социал-демократов, а у Альянса идея участия
рабочих в управлении производством была весьма в чести. На коллективную
собственность партнеры не согласились, но ввели систему премиальных.
Однажды Андреа возвратилась из Парижа как в воду опущенная, и у него
внутри болезненно екнуло. "О нет, - подумал он. - Что случилось? В чем
дело?"
Но что бы там ни случилось, она предпочла это хранить в тайне. Сказала,
что все в порядке, но была очень хмурой и задумчивой, смеялась редко, в
компании часто глядела рассеянно, просила извинить ее и повторить последнюю
фразу. Его это тревожило. Он даже собирался позвонить в Париж и спросить
Густава, что за чертовщина с ней творится и что там вообще стряслось.
Но не позвонил. Мучился, пытался ее развлечь, водил в рестораны и кино,
возил в гости к Стюарту и Шоне. Устроил ностальгический вечер с ужином в
"Лун-Фуне", рядом с его старой квартирой на Кэнонмиллз, но ничто не
помогало. Он терялся в догадках на пару с миссис Крамон, и они порознь
пытались добиться от Андреа правды. Удалось матери, но только через три
месяца и еще два полета в Париж. Андреа открыла ей тайну и снова отправилась
во Францию. Миссис Крамон позвонила ему.
- Эр-эс, - произнесла она. - У Густава рассеянный склероз.
- Почему же ты мне не сказала? - спросил он потом Андреа.
- Не знаю, - ответила она пустым голосом. - Не знаю. И что теперь
делать, не знаю. За ним некому смотреть, ухаживать...
Когда он услышал эти слова, в душе поселился холод. "Бедняга", -
подумал он искренне. Но однажды поймал себя на мысли: это же так долго!
почему он не может умереть пораньше? И возненавидел себя за это.
В восемьдесят четвертом, во время забастовки, он отказался пройти через
шахтерский пикет. Компания потеряла выгодный контракт.
Андреа летала в Париж чаще и чаще, задерживалась все дольше. Гости на
Морэй-плейс бывали все реже. Из Франции она возвращалась усталой, и, хотя не
утратила спокойного нрава и легкости в общении с людьми, она выглядела
подавленной, и ее очень редко удавалось развеселить. Андреа словно
остерегалась принимать любые радости за чистую монету. Когда они занимались
любовью, ему казалось, будто Андреа стала как-то особенно нежна, будто бы
острее стала осознавать драгоценность, неповторимость этих мгновений. Теперь
им в постели было не так весело, как раньше, но зато секс приобрел новое,
более насыщенное звучание, превратился в своего рода язык общения.
Во время ее отлучек он одиноко сидел в большом доме, читал, или смотрел
телевизор, или работал за кульманом. Если выпивал спиртное в разрешенных
законом пределах, то забирался за руль "кваттро" и ехал к Норт-Куинсферри и
там сидел перед громадным темным мостом, слушал, как бьется вода о камни и
грохочут наверху поезда, курил травку или просто дышал свежим воздухом.
Подчас возникала жалость к себе, но ее испытывала лишь одна часть разума -
робкая, застенчивая. Другая же часть смахивала на ястреба или орла -
голодная, жестокая, фанатично зоркая. Жалость к себе долго не задерживалась:
стоило ей высунуть нос, хищная птица была тут как тут, рвала ее и терзала.
Птица - это реальный мир, наемник, подосланный его мятущейся совестью;
это гневный голос всех людей на свете, подавляющего большинства, которому
живется хуже, чем ему; это всего лишь здравый смысл.
К своему глубокому, почти праведному разочарованию он узнал, что
покраска моста заняла не три года непрерывного труда. Работа велась с
перерывами и продлилась, согласно разным источникам, от четырех до шести
лет. "Вот еще один миф развеялся", - подумал он невесело.
В Париже Андреа теперь проводила почти столько же времени, сколько и в
Шотландии. Там у нее была другая жизнь, другой круг друзей. Кое с кем из них
он познакомился, когда они побывали в Эдинбурге. Редактор журнала,
сотрудница ЮНЕСКО, преподаватель из Сорбонны, - в общем, неплохой народ. Все
они дружили и с Густавом. "Давно надо было поехать в Париж, - думал он, -
встретиться, подружиться. А теперь поздно. Почему я такой дурак? Могу не
хуже любого другого инженера спроектировать сооружение, которое тридцать
лет, а то и больше будет выдерживать удары стофутовых волн. В моих силах
сделать его крепким и надежным, насколько позволят его вес и бюджет стройки.
Но я не вижу дальше собственного носа, когда дело касается чего-то важного в
моей личной жизни. Проектировать собственное существование - выше моих сил.
Как там называлась эта старая вещь у Family? A, „Weaver's
Answer"<"Ответ ткача" (англ.)>. Ну да; а мой-то ответ где?"
Он купил "тойоту MR2" и "кваттро" последней модели, записался на
авиакурсы, собрал музыкальную систему из аудиокомпонентов шотландского
производства, приобрел камеру "минолта-7000", как только она появилась в
продаже, добавил к "хай-фаю" CD-вертушку и собрался обзавестись моторной
лодкой. Он ходил на яхте кое с кем из старых друзей Андреа от марины у
Порт-Эдгара вдоль южного берега Форта, между двумя исполинскими мостами.
Ни "кваттро", ни "MR2" его не удовлетворили. Престижные автофирмы
регулярно выпускали новые машины, все лучше и лучше. "Феррари", "астон",
"ламбо" или какая-нибудь эксклюзивная модель "порше" - просто глаза
разбегаются. Хватит гоняться за модой, хочется чего-нибудь доброго и
вечного, решил он и взял через местного дилера хорошо сохранившийся "Mk II
ягуар 3.8", а "тойоту" и "ауди" продал.
Он сменил чехлы в салоне на красные кожаные - от "Коннелли". Опытнейший
автомеханик разобрал движок, скопировал схему, заменил распредвал, поршни,
клапаны, карбюратор и встроил электронное зажигание. Подвеску полностью
переделали, установили тормоза помощнее, новые колеса с асимметричными
покрышками и вдобавок - новую коробку передач. Еще он заказал четыре ремня
безопасности, ламинированное ветровое стекло, фары поярче, электрические
подъемники боковых стекол, люк, тонированные стекла и противоугонные
устройства, которым он бы доверил даже танк "чифтен" (и о которых постоянно
забывал). Три дня машина провела в другой фирме, где ее оснастили новыми
музыкальными агрегатами, в том числе CD-плейером. "Моща такая, что кровь из
ушей потечет, - говорил он знакомым. - Я ведь еще даже не все динамики
нашел. Усилитель - на полбагажника. Даже не знаю, что раньше не выдержит
вибрацию - мои барабанные перепонки или краска на корпусе". (Он покрыл
машину антикоррозийной грунтовкой и краской - двенадцать слоев, ручная
работа.)
- Святые угодники! - пришел в ужас Стюарт, услышав, во что обошлась
установка противоугонных систем. - Ты же за эти деньги мог новую машину
взять!
- Ага, - согласился он. - Можно было за цену годовой страховки купить
новую машину, а заодно и комплект покрышек. Больше денег, чем смысла.
На деле техника оставляла желать лучшего. В машине что-то все время
неприятно дребезжало, то и дело сбоил сидюк, камеру пришлось заменить, а
большинство купленных дисков оказались с царапинами. Посудомоечная машина то
и дело заливала кухню. Он стал раздражителен в общении с людьми,
транспортные пробки приводили его в бешенство. Им овладела глубокая
неудовлетворенность, а душа обрела черствость, избавиться от которой не
получалось. Он давал деньги "Live Aid", но, услышав о выходе пластинки "Band
Aid", вспомнил старую революционную поговорку: заниматься
благотворительностью при капитализме - все равно что заклеивать
лейкопластырем раковую опухоль.
Даже фестиваль 1985 года не развеял его хандры. В то время Андреа была
в Эдинбурге, но, даже когда она находилась вместе с ним, в соседнем кресле
концертного зала, или кинотеатра, или на пассажирском сиденье автомобиля,
или под боком в постели, мысли ее были где-то далеко, и говорить о причинах
своей отчужденности она по-прежнему не желала. До него доходили слухи, что
это из-за осложнения болезни Густава. Он пробовал вызвать ее на
откровенность, но она отмалчивалась. Его огорчало, что между ними могут быть
какие-то недомолвки. Впрочем, он и сам был в этом виноват - раньше не желал
говорить с ней о Густаве, а теперь менять правила игры было поздно.
Ему снился умирающий в другом городе человек, а порой и наяву казалось,
будто он видит его лежащим на больничной койке, в окружении медицинской
аппаратуры.
С середины фестиваля Андреа сбежала в Париж. В одиночку выдержать этот
"бархатный" эквивалент налета тысячи бомбардировщиков было ему не по силам,
поэтому он одолжил у друга "бонневиль" и отправился на Скай.
Шел дождь.
Компания уверенно набирала размах, но он уже терял интерес к работе.
Часто задавался вопросом: чем же я на самом деле занимаюсь?
Я всего лишь один из долбаных кирпичей в стене, рядовой винтик в
машине, пусть даже смазан чуть получше большинства прочих винтиков. Я делаю
деньги для нефтяных компаний, для их акционеров, для правительств, а те их
тратят на оружие, способное убить нас не пятьсот раз, а тысячу. И
функционирую-то я не как обыкновенный работяга вроде моего отца. Я гребаный
босс, работодатель. У меня в руках реальные бразды правления, я обладаю
предпринимательской инициативой (по крайней мере обладал), и при моем
участии вся гребаная машина вертится чуть резвее, чем если бы не было меня.
Он снова завязал с виски и одно время пил только минералку. Да и
травкой почти не баловался, с тех пор как обнаружил, что больше не получает
от нее кайфа. Разве что в гостях у Стюарта иногда выкуривал косячок-другой.
И тогда это было как в добрые старые времена.
Зато кокаин он теперь употреблял регулярно. Точнее, каждый понедельник
поутру или перед любым тусовочным вечером. Но как-то, готовясь к выходу и
уже проложив щедрой рукой на зеркале две дорожки, он включил телевизор, и в
теленовостях показали голод где-то в Африке, и ему запал в душу ребенок с
мертвым взором и кожей, как у летучей мыши. Он глянул в зеркало на столе,
перед которым сидел на корточках, и увидел в стекле, чуть припорошенном
белыми блестками, собственное лицо. За минувшую неделю он "запихнул себе в
нос" триста фунтов. Отшвырнув бритвенное лезвие, он сказал: "Блядь!"
Просто этот год выдался неважным, решил он. Очередной неудачный год. Он
перешел на обычные сигареты. Смирился в конце концов с необходимостью носить
очки. Лысина на макушке достигла диаметра водосливного отверстия в ванне. И
в его душе как-то уживались юношеская неуемность и старческое стремление
выполнить самое важное, пока еще есть шанс. Ему было тридцать шесть, но он
себе казался то вдвое моложе, то вдвое старше.
В ноябре Андреа сообщила, что, видимо, задержится в Париже. Густаву
требовался постоянный уход. И если будет настаивать его семья, то придется
оформить брак. Она надеется, что он поймет и простит.
- Мне очень жаль, малыш, - сказала она пустым голосом.
- Ага, - сказал он. - И мне.
Нет у меня, блин, никакого морального права жаловаться на судьбу, она
давно меня балует, но будь я проклят, если сейчас готов так вот все бросить.
Рубака - он до конца своих дней рубака, но мало кто из этого племени, скажу
я вам, дожил до моего возраста. Я - исключение, и это факт. Может, я бы тоже
не дожил, кабы не сидел у меня на плече зверек-талисман, но хрен он от меня
такое услышит. У него и так всегда задран нос, а тут совсем от важности
малыш раздуется, как бы не лопнул. Тем более что он так и не сумел найти
решения нашей проблемы - проблемы старения. Не такой-то он и умный, этот
ублюдочек.
Как бы то ни было, вот он я, сижу на койке, смотрю на экраны
телемониторов и думаю всякие грязные думы, пытаюсь себе стояк нашептать.
Вспоминаю Ангарьен и то, как мы с ней развлекались. Чего только не
вытворяли! Вы и не поверите небось но в молодости норовишь испробовать все
на свете. Да и молодость, говорят, дается только раз (мой приятель-зверек с
этим не согласен, но пускай докажет). Конечно, триста лет, да еще с
прицепом, - результат нехеровый, но все-таки я пока не готов дать дуба. Куда
ж я, с другой стороны, на хрен денусь. Зверек испробовал кое-какие средства
(и ему куда деваться-то, мы же с ним одной веревочкой связаны), но все пока
без толку, похоже, у него попросту иссякла фантазия; и ведь лопухнется
сейчас, как пить дать лопухнется, - как раз когда его помощь была бы ну
крайне в тему. Говорит, есть еще похер в похеровницах, не знаю уж, к чему
это он. То ли совсем капитально на все забил, то ли взрывать кого собрался.
Бедняга день-деньской сидит на столе у моей кровати. Он весь седенький и
сморщенный, на плечо ко мне не залазит с тех пор, как мы раздобыли летучий
замок. Зверек его называет "кораблем", но он вообще любит всякую чушь нести.
Например, спальню прозвал "корабельным мостиком". Короче, было так. Мы
вернулись к волшебнику, который помог мне проникнуть в преисподнюю, и они,
волшебник и мой талисман, здорово подрались - аж дым пошел. А я за этим
делом следил из угла, но даже пальцем шевельнуть не мог - чертова зверушка
навела на меня какие-то чары. Победил в конце концов талисман, и только я
думал, что наконец от него избавлюсь, но тут возьми да выяснись, что ему не
под силу выполнить задуманное, то бишь завладеть телом волшебника. Похоже,
это было просто невозможно, против правил что ли. Выбраться из преисподней
ему удалось (с моей помощью), но захватить живое тело - дудки. Незавидная
это судьба - томиться в тушке зверушки, как в тюрьмушке, до скончания века.
По сему поводу мой приятель вышел из себя и принялся громить колдовские
палаты. Все разнес в щепки; я уж думал, что и мне не поздоровится. Но вскоре
он успокоился и вернулся на мое плечо и избавил меня от чар. Объяснил, что
мы и правда крепко повязаны, к добру это или к худу, и, значит, нам остается
только одно: извлечь из этого максимум выгоды.
Может, оно и к добру, да как тут узнаешь? Хотя вряд ли я без него
прожил бы так долго. К тому же иногда он подбрасывал очень неглупые идеи.
Например, в самом начале предложил навестить молодую ведьмочку, с которой я
провернул одно дельце, прежде чем вызволил малыша из Гадеса. А звали ту
девицу Ангарьен. Талисман прикинул, что мы с ведьмочкой способны прийти к
какому-то соглашению, он так и сказал. Ангарьен сперва в этом очень
сомневалась, думала, что зверек вознамерился ее околпачить и завладеть ее
телом, или что-то в этом роде, но потом у них был ужасно сложный для моих
мозгов разговор, и они чего-то наколдовали и погрузились в какой-то "транс",
- между прочим, это ужасно скучное занятие. А когда пришли в себя,
заулыбались и по рукам ударили. Талисман мне заявил, что у нас теперь не то
тролльственный, не то тройственный союз. Ну я и не возражал, только
предупредил, чтобы ничего неприличного. Мне-то что, лишь бы все было
по-честному и без подлянок. И не прогадал, похоже. Думается мне, только
благодаря этому сговору я и сподобился стать рубакой преклонных годов.
- Что ты делаешь? Пытаешься мертвеца воскресить?
- Заглохни. Не твое дело.
- Как это - не мое? А вдруг у тебя сердце не выдержит?
- Ну а чего бы не накалдавать для меня какую-нибудь гурию-чмурию?
- Еще чего! Ты тогда в один момент ласты завернешь. Прекрати, говорю! В
твои года этим заниматься не подобает. Хоть мозги у тебя и отсталые, но зато
возраст очень продвинутый.
- Мой хрен и жизнь моя, что хочу, то и делаю.
- Это и моя жизнь, а твоя жизнь не игрушка, если от нее зависит моя.
Имей чувство меры, приятель.
- Да ладно, не очень-то вообще и хотелось, так, решил проверить,
встанет - не встанет... Может, хоть порнушку какую покажешь?..
- Нет. Следи за экранами.
- Чего ради?
- Следи, говорю. Почем ты знаешь, что может случиться? Еще не все
потеряно.
- Надо было Источник молодости дальше искать, вдруг и нашли бы.
- Ну да, чтобы ты нассал в него.
- У, бля, - говорю, а потом лежу, скрестив руки на груди, и жалко себя
- мочи нет.
Летающий замок стоит на склоне холма. Мы сюда приземлились с месяц
назад, после того как побывали на планете, где обаригены якобы способны
продлевать жизнь до бесконечности. Может, это и не хвастовство, да только со
мной и талисманом у них ничего не вышло (сказали, нет опыта в атношении
таких, как мы, рубаки и зверушки). Я уж хотел было наведаться в какой-нибудь
из наших, земных, волшебных городов за новомодными магическими припаратами.
Они позволяют месяц-другой жить полнокровной жизнью молодого мужика, а потом
ты быстро и безболезненно отбрасываешь копыта, зато уж оторвался так
оторвался, да. Но талисман распорядился по-другому. Посадил летучий замок на
этот холодный, продуваемый ветрами склон, и отпустил всю стражу и слуг, и
даже вышвырнул парочку моих правнуков, и раздал половину магических снастей
из нашего запаса: хрустальные шары для провидения будущего, заколдованные
пулеметы, волшебные фугасы и все такое прочее. Похоже, он хотел создать у
окружающих впечатление, что мы вполне готовы отойти в мир иной. Но все же
приберег наиболее ценное: сам летающий замок и еще кое-какие штучки,
пиджак-самолет там, сверхуниверсальный переводчик и несколько тонн невидимой
платины в трюме. Он даже нашел новые батарейки для кинжала - зверек называет
его "летательным ножом". Старые батарейки сели этак столетие назад, и с тех
пор я ножом пользовался редко, потому как туповат он. Сам не знаю, почему не
выбросил. Может, из сентиментальных соображений. Когда-то зверек от него нос
воротил, клялся, что это всего лишь дешевая копия. Но все-таки добыл свежие
батарейки и сделал нож сторожем, велел охранять дверь летучего замка. Хрен
его знает зачем. Талисман на старости лет стал чудаковат.
А я все жену вспоминаю. Она добрые полвека назад дала дуба, а я будто
наяву вижу ее костлявую рожу. Когда мы поженились, она оказалась не такой
молодой, как выглядела. Я так и не узнал, сколько ей было лет. Талисман
думает, как минимум тысяча. Обычно ведьмы стареют рано, а вот Ангарьен до
самого конца сохраняла облик цветущей девушки. Сгорала, оставаясь молодой.
Вряд ли стоит ее за это винить, но перед смертью видок у нее был еще тот.
Она превратилась в статую, в резную фигуру из темного дерева. Жесткая,
сморщенная - старуха старухой. Нам она завещала поставить ее в лесу,
неподалеку от которого родилась. Мы так и сделали, и вскоре покойница
пустила корешки. Зверек предсказал, что дерево вырастет высоким и красивым,
а потом будет съеживаться и в конце концов обернется трухлявой колодой. А
что после этого произойдет, никому не известно. Когда разговор у нас заходит
о смерти, талисман выглядит грустным - понимает ведь, что вместе со мной
умрет и он. Потому что без меня жить он не сможет. Распадется в прах, вот и
все. Ему даже преисподняя не светит. Кстати говоря, а меня-то, интересно,
пустят в ад после того, что я там натворил? Когда мы со зверьком вспоминаем
былые деньки и как я его спасал, он до сих пор хихикает. По слухам, там весь
режим охраны сменили после того, как бедолага Харон окаменел. Парочка
сомнительных личностей, Вергилий и Данте, назвались временными правителями и
верховодят в аду по сей день. Короче говоря, один бес знает, как меня
встретят, когда я постучусь в пирламудровые врата, или что там у них нынче
служит пропускной. Пустить-то, может, и пустят, но наверняка подготовили
какой-нибудь мерзкий сюрприз. Короче, ничего нет удивительного в том, что я
не спешу расстаться с этим светом.
- Ага!
- Чего - ага-то?
- А я думал, ты следишь за экранами.
- Да слежу, слежу, только... Э, погодь! Блин, это еще что за хрен с
горы?
- Будь уверен, он не из тех, кто нам желает добра.
- У, бля!
По склону холма спускается мускулистый парняга со светлыми волосами и
охрененно здоровенным мечищем. У него широченные плечи и металлические
полоски по всему телу, высокие сапоги и что-то вроде набедренной повязки. А
еще шлем с волчьей скалящейся головой на верхушке. Я сажусь на кровати, мне
страшно. У меня уже давно все члены жесткие, кроме того, которому и неплохо
иногда быть жестким. Это из-за ревматизма. А еще руки трясутся и очки нужны.
Короче говоря, мне мало что светит, если дойдет до схватки с этим
вооруженным амбалом.
- И что же с нашей долбаной зоной недоступности? Вроде кто-то обещал,
что любой, кто сюда сунется, должен задрыхнуть?
- Гм... - произносит зверек. - Может, у него шлем с секретом? Может, в
нем спрятано какое-то нейрозащитное устройство? Поглядим-ка, нельзя ли этого
парня остановить лазером.
А жлобина знай себе марширует вниз по склону и на замок таращится.
Бровищи белесые друг на дружку налазят, мускулы перекатываются, огроменный
меч над головой крутится. И вдруг амбал, похоже, удивился, а через секунду
клинок закрутился еще быстрей и превратился в туманное пятно, в кокон вокруг
человека. Затем полыхнуло, и погас экран.
- У, бля! И что теперь?
Я пробую слезть с кровати, но старые мышцы будто в кисель превратились.
Вдобавок я потею, как свинья. Тут снова зажигается экран, показывает входную
дверь изнутри замка.
- Гм... - повторяет мой приятель с глубоким удивлением в голосе. -
Неплохо. Держу пари, тут не обошлось без ограниченного ясновидения. Наш
приятель знал, что по нему вот-вот пальнет лазер. Может, он всего на
несколько секунд заглянул в будущее, но этого оказалось достаточно.
Трудненько будет его остановить. С лазером - тоже ловкий трюк, наверное,
клинок создает что-то вроде зеркального поля. Возможно, это и случайность,
что отраженный луч попал в камеру. А если нет? Похоже, серьезный у нас
соперник...
- А я пальцем шевельнуть не могу! Сделай чего-нибудь. На хрена нам с
тобой сейчас серьезные соперники?! Когти надо рвать! Подымай летучий замок!
- Боюсь, мы опоздали, - говорит зверушка по своему обыкновению
спокойно. - Давай-ка посмотрим, остановит ли его летательный нож.
- Чудеса долбаные! И что, больше нам нечего противопоставить этому
ублюдку?
- Боюсь, что нечего. Разве что парочку не очень умных и не очень
прочных люков шлюзовой камеры.
- И все? Дурак сучий, какого хрена распустил охрану, какого хрена...
- Пожалуй, старина, я дал маху, - говорит талисман и зевает. И
запрыгивает мне на плечо. И мы оба смотрим на входной люк. Сквозь металл
проникает острие меча и вырезает круг, который с лязгом падает на пол. И в
отверстие пролезает этот светловолосый мордоворот. - Поля, - тихо произносит
зверушка и кивает возле моего уха. - Люк армирован моноволокном; чтобы
разрезать его с такой легкостью, необходимо очень тонкое силовое лезвие.
Неплохим оружием разжился этот парень... хотя это еще как посмотреть, кто
кем разжился.
- Где же этот долбаный кинжал? - кричу я вне себя от страха. Я готов
нагадить в койку, а амбал топает по коридору замка и выглядит очень
настороженным, но и очень решительным и машет мечом с самыми серьезными,
судя по всему, намерениями. Потом глядит в сторону, и его взгляд мечет
молнии.
К нему движется кинжальчик, но слишком медленно, как будто раздумывая.
Блондин все так же свирепо таращится на него. Кинжал останавливается в
воздухе, а потом и вовсе падает на пол и катится в угол.
- У, бля! - восклицаю.
- Я же говорил: это дешевая копия. Система опознавания на нем стоит,
но, наверное, меч нашего приятеля, а может, шлем послал фальшивый сигнал
"свой". Настоящие вещи обладают волей, они достаточно смышлены, чтобы
поступать по-своему, и поэтому они совершено бесполезны для таких, как мы с
тобой.
- Хорош чушь нести, ты же не барыга-оружейник! Сделай ченибуть! - кричу
на зверька, но он лишь пожимает серыми плечиками и глубоко вздыхает.
- Боюсь, старина, слишком поздно.
- Ты баишся? - ору я ему в мордочку. - Так это ж не тебя в Хадесе ждут
нидаждутся! Представляешь хоть, каких пакостей там могли для меня
напридумывать за триста лет?
- Да успокойся ты, дружище. Разве нельзя, глядя смерти в лицо,
сохранять достоинство?
- В жопу достоинство! Я жить хочу!
- Гм... Это хорошо, - говорит зверушка, а светловолосый битюг исчезает
с экрана. Где-то за дверью спальни раздается оглушительное лязганье, пол
ходит ходуном.
- У, бля! - Я намочил простыню и матрас. Просто взял и описался. -
Маматчка! Папатчка!
Дверь распахивается. Передо мной стоит, заполнив весь проем,
здоровенный светловолосый ублюдок. Он еще больше, чем казался на экране. А
мечище долбаный - длиной с мой рост, не меньше. Я свернулся в калачик на
кровати, я весь трясусь. Воин входит, пригнув голову, иначе бы шлем с
волчьей башкой задел притолоку.
- Т-ты че, в натуре? - спрашиваю. - К-каки праблемы?
- Никаких праблем сынуля, - отвечает жлоб и приближается к кровати. Не
человек - гора долбаная. И поднимает надо мной меч.
- Да погодь ты... Можиш забирадь всешто...
Хабах.
Такого удара я еще никогда в жизни не получал. Как будто меня сам
Господь Бог отоварил или через тело пропустили разряд в миллиард вольт.
Звезды, свет, головокружение. Я видел, как падал на меня клинок, сверкая в
свете ламп, видел гримасу на морде воина-громилы и слышал звук у самого уха.
Противный такой звук, вроде смешка. Готов поклясться, это и был смешок.
Старой пидрила в койки был мертв, я иму чирипушку раскраил как гнелой
какосавый apex. Штючка с иво плитча ищезла пуф и нету тока димок асталса. А
у миня бошка кружылас и я видил звьездачки и все такое. Гатов па клястца
мужык на кравати уже не такой был как када я вашел в ету комнату у ниво в
роди воласы тада были нетакие серабелые правда же?
- Ну что ж... ламца-дрица-оп-ца-ца, сработал чертов перенос. Ну и как
ты, дубина стоеросовая, теперь себя чувствуешь?
Ета мой шлем загаварил. Тута я сел на койку и снял шлем штоб пасматреть
на волчу бошку.
Да какта ни так, атвичяю.
- Как сам не свой, - киваит мине волча бошка и скалица. - Ничего
удивительного. Ты тоже перешел. Мой могучий интеллект выдержал перемещение
благополучно, остался цел и невредим. А уж коли это получилось с такой
грандиозной библиотекой знаний, то твоя жалкая пародия на сознание и подавно
должна была уцелеть. Ну а сейчас к делу: бортовые системы наконец
среагировали на вторжение, они не согласны считать тебя законным владельцем,
а мне понадобится какое-то время, чтобы перенастроить телепатические контуры
в этом дурацком колпаке. В общем, давай отчаливать, пока корабль не
всполошился. Иначе будет много чего неприятного, в том числе термоядерный
взрыв, и вряд ли я или даже твой чудесный меч спасет нас в самом эпицентре.
Стартуем.
Лады преятиль гаварю и пад нимаюс наноги и на диваю шлем. Такое
ащющение будта мозги из бошки выбралис будта я тока што спал а сичяс
праснулса. И будта штота в мине есть ат старикажки каторый в койки валяица.
Нуда хрен с ним патом разбиремса. Раз волча бошка гаварит нада из замка
выбираца значит тактому и быть. Я паднял метч и пабижал к выхаду. Здеся тожа
ни нашлос сакровишча так вить всех багатстсв на свети ни дабудиш. Да к
таму-же ишо не вечир. Мала ли на белам свети замков и валшебников и старых
варворов и всиво такова протчева...
Во блин житуха, а? Не жизня а молина...
- Знаешь, этот диск у меня три года пролежал, пока я не врубился, что
имя Фэй Файф - это прикол, - сказал он Стюарту, покачивая головой. - "Вы
откуда?" - "Айм фэй Файф".
- Ага, - отозвался Стюарт. - Знаю.
- Господи, я иногда такой дурак, - тихо проговорил он и печально
взглянул на банку "экспортного".
- Ага, - кивнул Стюарт. - Знаю. - И встал, чтобы перевернуть пластинку.
Он посмотрел в окно, на город и далекие голые деревья в лесистой
долине. Наручные часы показывали 2.16.
Уже темнело. Кажется, скоро солнцестояние. Он глотнул еще.
Он выпил пять или шесть банок, так что, похоже, надо было или
оставаться у Стюарта, или возвращаться в Эдинбург поездом. "Пусть будет
поезд, - подумал он. - Сколько лет уже не ездил на поезде. А ведь и правда,
чем плохо: сесть на вокзале в Данфермлине, въехать на старый мост, с него
бросить монетку и пожелать, чтобы Густав наложил на себя руки, или чтобы
Андреа забеременела и захотела вырастить ребенка в Шотландии, или..."
"Прекрати, урод", - сказал он себе. Стюарт вновь сел. Они говорили о
политике. Сошлись на том, что весь их левацкий базар - чистая поза, иначе
быть бы им сейчас в Никарагуа, сражаться за сандинистов. Говорили о прошлом,
о старой музыке, о былых друзьях. О ней - ни слова. Потом речь зашла о
"звездных войнах", СОИ. Только что под этой программой подписалась Британия.
Обоим тема была довольно близка, оба знали в университете кое-кого из
разработчиков оптических компьютерных сетей, которыми интересовался
Пентагон.
Говорили о том, что в университете, по Кестлеровскому завещанию,
открыли новую кафедру - парапсихологии, и о передаче, которую оба смотрели
по телевизору с месяц назад, насчет сновидений при не полностью выключенном
сознании. Еще вспомнили гипотезу морфологического резонанса (он сказал: "Да,
это интересно"; но он не забыл и те времена, когда интересными считались
теории фон Деникена).
Обсудили случай, упоминавшийся на этой неделе и по телевизору, и в
газетах. Француз, инженер из русских эмигрантов, разбился в Англии на
машине. Среди обломков нашли кучу денег, есть подозрение, что во Франции он
занимался какими-то махинациями. Сейчас пострадавший в коме, но врачи
считают, что он симулирует.
- Мы, инженеры, народ хитрожопый, - сказал он Стюарту.
Вообще-то говорили почти обо всем, кроме того, о чем ему на самом деле
хотелось поговорить. Стюарт несколько раз затрагивал тему, но он каждый раз
уклонялся. Сны бодрствующего разума всплыли потому, что именно об этом они
последний раз спорили с Андреа. Стюарт не стал выпытывать про Андреа и
Густава. Возможно, ему просто надо было поговорить. Хоть о чем.
- Кстати, как дети? - спросил он.
Стюарту пора было есть, и тот спросил, не желает ли и он перекусить. Но
он голода не испытывал. Пыхнули еще по косяку, он опростал еще баночку.
Поговорили. Смеркалось. Подуставший Стюарт сказал, что не мешало бы
придавить ухо; он поставит будильник и заварит чай, уже когда встанет. А
поев, можно будет выбраться куда-нибудь, по кружечке пропустить.
Он послушал через наушники старый Jefferson Airplane, но пластинка была
вся в царапинах. Порылся среди книг друга, прихлебывая пиво из банки, и
докурил последний косяк. Наконец он встал и подошел к окну, глянул сквозь
щели жалюзи на парк, на разрушенный дворец, на аббатство.
С наполовину затянутого тучами неба медленно исчезал свет. Зажглись
уличные фонари, дорога была полна припаркованных или идущих на малой
скорости машин - Рождество на носу, народ озаботился подарками. "Интересно,
- подумал он, - как тут все выглядело, когда во дворце еще жили короли?"
Королевство Файф... Сейчас это всего лишь область, а тогда... Рим тоже
когда-то был маленьким, зато потом разросся будьте-нате. Интересно, как бы
сейчас выглядел мир, если бы в свое время какая-нибудь часть Шотландии - еще
до возникновения Шотландии как таковой - расцвела подобно Риму? Нет, для
этого не было причин, исторических предпосылок. Когда Афины, Рим и
Александрия располагали библиотеками, мы - только крепостцами на холмах.
Наши предки не были дикарями, но и цивилизованными их не назовешь. Потом-то
мы могли бы сыграть свою роль, но время оказалось упущено. Вот так у нас
всегда: или слишком рано, или слишком поздно. И лучшее, что мы делаем, мы
делаем для других.
"Наверное, это сентиментальный шотландизм, - предположил он. - А как
насчет классового сознания вместо национализма? Ну-ну".
Как она так может? Не говоря уже о том, что здесь ее родина, что здесь
живет ее мать, ее самые старые друзья, что здесь у нее отпечаталось столько
первых воспоминаний и складывался ее характер, - но как она может бросить
все, что к настоящему моменту приобрела? Он-то - ладно, сам готов вычеркнуть
себя из уравнения. Но у нее так много и уже сделанного, и того, что
предстоит сделать. Как она может?
Самопожертвование. Куда мужчина, туда и женщина. Она ухаживает за
Густавом, а сама отошла на второй план. Но ведь это же противоречит всему,
во что она верит.
А он? Почему до сих пор не поговорил с ней как надо? Сердце забилось
быстрей, он задумчиво опустил банку. Ведь он на самом деле не представлял
себе, что надо сказать, знал лишь, что хочет с ней говорить, хочет обнимать
ее, просто быть с ней и рассказывать обо всем, что к ней чувствует. Надо
рассказать ей обо всем, что он когда-либо думал и чувствовал. И о ней, и о
Густаве, и о самом себе. Он будет с ней абсолютно честен, и она бы по
крайней мере узнала наконец, что он собой представляет, и уже не питала бы
на его счет иллюзий. Но к черту. Это все ерунда.
Он допил пиво, бросил в дырочку окурок и аккуратно сложил красную
банку. Из треснувшего алюминиевого уголка пролилось на ладонь. Он вытер
руку. Я должен с ней увидеться. Я должен с ней поговорить. Интересно, чем
она сейчас занята? Наверное, дома. Ну да, они обе дома. У них гости. Меня
тоже приглашали, но я хотел навестить Стюарта. Он пошел к телефону.
Занято. Может, опять в Париж звонит? Тогда это на час. Даже бывая
здесь, она проводит половину времени с Густавом. Он положил трубку и стал
ходить по комнате. Сердце колотилось, ладони потели. Надо бы отлить. Он
пошел в санузел, потом тщательно вымыл руки, прополоскал рот. Все в порядке,
он даже не пьян и не обдолбан. Снова взял трубку. Тот же сигнал. Постоял у
окна. Если прижаться лбом к стеклу и глядеть прямо вниз, виден "ягуар" -
белый обтекаемый призрак на темной улице. Еще раз посмотрел на часы.
Самочувствие отличное, сознание ясное. Можно ехать.
"А почему бы и нет", - подумал он. Ягуар-альбинос в серых сумерках;
добраться до шоссе и рвануть по автомосту, повесив на рожу наглую ухмылку и
врубив музыку на всю катушку. И горе ушам бедного засранца, которому
придется брать с меня дорожный сбор... Блиин, как это в духе "Страха и
ненависти", очень по хантер-эс-томпсоновски. Заметь, приятель, от этой
чертовой книги ты потом всегда ездишь чуть быстрее. Сам же виноват,
несколько минут назад слушал "White Rabbit" - вот музыкой и навеяло. Нет,
про вождение забудь. Ты перебрал.
Япона мать, да какое там перебрал? Конец года, все ездят под хмельком.
Бля, я же пьяным лучше вожу, чем большинство - трезвыми. Не бери в голову,
малыш, все у нас получится. Дорога-то знакома как свои пять... Просто надо в
городе поосторожней, вдруг на проезжую часть ребенок выскочит, а с реакцией
что-нибудь не того. На автостраде же все пройдет как по маслу, там главное -
не затевать гонки с сопливыми местными шумахерами на "капри" и не кидать
подлянок бээмвешникам, у них и так глаза остекленевшие. Главное - не
трусить, не рассеивать внимание, не думать о "Красных акулах" и "Белых
китах", не испытывать подвеску на бетонных стенках, не тренировать
контролируемый юз на магистральной развязке. Короче, расслабься и слушай
музон. К примеру, тетушку Джоанн. Что-нибудь поспокойнее. Не снотворное, но
и не слишком будоражащее. А то, бывает, врубишь что-нибудь этакое - и тапка
сама в пол...
Он решил сделать последнюю попытку. Телефон не отвечал. Он пошел
глянуть на Стюарта - тот спал как младенец и перевернулся на бок, когда
отворилась дверь и в спальню проник свет из гостиной. Он написал для Стюарта
записку и оставил ее у будильника. Потом взял свою старую байкерскую кожанку
и шарф с монограммой и вышел из квартиры.
Выбраться из города удалось не скоро. Прошел дождь, улицы были влажны.
Ведя "ягуар" в транспортном потоке, он слушал Big Country, альбом
"Steeltown"<"Стальной город" (англ.)> - на родине Карнеги это казалось
вполне уместным. Самочувствие было просто класс. Он сознавал, что не стоило
садиться за руль, и со страхом думал о полицейских с
алкогольно-респираторной трубкой. Впрочем, часть его мозга оставалась
трезвой, и она следила за ним, оценивала вождение. И он доедет, все будет
тип-топ, лишь бы внимание не подвело да и везение. "Больше не повторится, -
сказал он себе, выведя наконец „ягуар" на свободный отрезок дороги к
автостраде. - Второго раза не будет. И первого бы не было - если б не такая
крайняя нужда.
И я буду очень осторожен".
Здесь движение было двухполосным, и он от души прибавил газку.
Ухмыльнулся, когда позвоночник вдавило в спинку сиденья. "О, как мне в кайф
мотора рык", - напел он тихонько. Вынул из "накамичи" кассету Big Country,
нахмурился, заметив, что превысил разрешенную скорость. Убрал ногу с педали
газа, заставил машину опустить нос.
Поставим-ка что-нибудь помягче, не слишком хрипло-крикливое и
адреналиновое. Все-таки приближаемся к громадному серому мосту. Как насчет
"Bridge Over Troubled Water"?<"Мост над бурными водами" (англ.)> Он
состроил печальную мину - увы, не держим-с, причем давно. Зато есть Lone
Judgement и есть Los Lobos ("How Will the Wolf Survive?"<"Как выжить
волку?" (англ.)>), на одной кассете. Он ее нашел, поднес к глазам, уже
приближаясь к автостраде. Да, сейчас бы лучше подошли техасцы, но они как
раз на другой стороне, а мотать всю пленку недосуг. Ладно, пусть будут
Pogues. "Rum, Sodomy and the Lash"<"Ром, содомия и плетка" (англ.)>.
Веселые ритмы, заебись мелодии, в аккурат для вождения. Не без хриплого ора,
ну да ничего страшного. И заснуть не дадут. Главное - не гнаться все время
за музыкой. Ну, давайте, ребята...
Он выехал на М90, на южную трассу. В темно-синем небе висели пестрые
облака. А ничего вечерок, даже не холодно. Дорога еще не просохла. Он
подпевал Pogues и старался не слишком газовать. Захотелось пить. В кармашке
на дверце он обычно возил банку кока-колы или "айрн-брю", но забыл пополнить
запас. В последнее время он слишком многое забывал. Несколько встречных
машин помигали ему, и он переключил фары на дальний свет.
Автострада забиралась на холм между Инверкитингом и Розитом, и он
увидел сигнальные огни моста (предупреждение самолетам) - внезапные белые
вспышки на двух высоких башнях. Ну и зря, ему больше нравились прежние огни,
красные. Он съехал на крайнюю левую полосу, чтобы пропустить "сьерру", и,
когда уменьшились ее габаритные огни, подумал: "Чувак, в другой раз я бы
тебе этого не спустил". Он откинулся на спинку сиденья, пальцы барабанили
под музыку по узкому спортивному рулю. Трасса шла узкой долиной,
прорубленной в скале, которая образовывала небольшой мысок; виднелись огни
Норт-Куинсферри. Можно бы свернуть туда, снова постоять под железнодорожным
мостом, но какой смысл удлинять поездку сверх необходимого. Не к чему
искушать судьбу или провоцировать ее на иронию.
"А ради чего я это делаю? - подумал он. - Будет ли какой-то прок? Ведь
ненавижу тех, кто водит машину в пьяном виде, так какого же черта сам?.."
Появилась мысль, что надо бы ехать назад, на худой конец, свернуть к
Норт-Куинсферри. Там есть станция. Машину загнать на стоянку, сесть на поезд
(в ту или другую сторону)... Но он уже миновал последний съезд с трассы. И
хрен с ним! Можно остановиться на той стороне, у Дэлмени, припарковаться
там. Все лучше, чем рисковать дорогой краской в эдинбургском
предрождественском столпотворении. А утром вернуться за тачкой. Не забыть бы
еще включить все охранные системы.
Дорога выбралась из рукотворного ущелья. Он увидел Саут-Куинсферри,
марину у Порт-Эдгара, знак "VAT 69" (перегонный завод), огни фабрики
"Хьюлетт Паккард". И железнодорожный мост, темный на фоне облаков в
последних лучах заката. А дальше - больше огней: хаунд-пойнтский
нефтеналивной терминал, на строительстве которого они выступали
субподрядчиками, и совсем вдали - огни Лейта. Гулкие металлические кости
старого железнодорожного моста казались цвета подсохшей крови.
"Ах ты, красавец писаный, - подумал он. - До чего ж ты шикарный, до
чего ж здоровенный. Издали такой хрупкий, а вблизи - массивный, незыблемый.
Элегантность и грация, совершенство форм. Мост что надо: гранитные быки,
лучшая корабельная сталь, бесконечный процесс покраски..."
Он снова перевел взгляд на дорогу, которая на подъезде к мосту ощутимо
забирала вверх. Полотно влажноватое, но ничего страшного. Никаких проблем.
Не так уж быстро он и едет, держится левой полосы, вдоль бока, обращенного к
железнодорожному мосту ниже по течению. На дальнем конце острова, под
средней секцией железнодорожного моста, мигал огонек.
"Наступит день, когда и тебя не будет, - подумал он. - Ничто не вечно.
Может, именно это я и хочу ей сказать? Нет, я, конечно, не в претензии, ты
ведь должна уйти. Нельзя его за это винить, ведь ради меня ты бы поступила
точно так же, и я - ради тебя. Просто жалко, вот и все. Уходи. Ничего, все
как-нибудь выживем. Может, и нет худа без добра..."
Он спохватился, что шедший перед ним грузовик внезапно перестроился в
правый ряд. Метнул взгляд левее - и обнаружил перед собой легковушку. Та
стояла, брошенная хозяином на первой полосе, у ограждения. Он со свистом
втянул воздух, ударил по педали тормоза, попытался свернуть... Но было
поздно.
Был миг, когда его нога вжимала тормозную педаль до упора и когда руки
вывернули руль настолько, насколько это возможно одним рывком, и при этом он
понимал, что больше ничего сделать невозможно. Он так и не узнал, сколько
длился этот миг. В мозгу отпечаталось только, что машина впереди - "MG", что
в ней никого нет (трепет облегчения на гребне цунами ужаса), что
столкновения не избежать и что мало не покажется. Успел заметить номер: VS -
и какие-то цифры. Наверно, с западного побережья. Восьмиугольный значок "MG"
на багажнике сломавшегося автомобиля наплывал на голую, без серебристой
фигурки, морду "ягуара", который прильнул к полотну, завизжал тормозами и
пошел юзом, и все это - одновременно. Он попытался обмякнуть, предельно
расслабиться, и будь что будет, но, пока нога вжимала в пол педаль тормоза,
это было невозможно. "Вот идио..." - подумал он.
Белый, ручной доводки, "ягуар", регистрационный номер 233 FS, врезался
в зад "MG" и перекувыркнулся. Водителя бросило вперед и вверх. Ремень
безопасности выдержал, но баранка, точно кувалда круглого сечения, ударила
навстречу, по грудной клетке.
Невысокие покатые холмы под темным небом. Кажется, подбрюшья
красноватых низких облаков зеркально отражают плавные линии ландшафта.
Воздух тяжел и густ, и сильно пахнет кровью.
Под ногами чавкает, но не вода тому причиной. Здесь, на этих холмах,
которым, кажется, несть числа, разыгралась великая битва и земля пропитана
кровью. Куда ни глянь, лежат тела - и всевозможных зверей, и людей всех
существующих рас и цветов кожи. И иных тварей, неизвестных мне. В конце
концов я обнаруживаю среди трупов живого низкорослого человечка.
На нем лохмотья. Мы с ним уже встречались. Как же называлось то
место?.. Мокка? Оккам? Что-то вроде этого... Тогда он избивал чугунным цепом
волны. А теперь удары достаются телам. Мертвым телам. По сотне ударов
каждому, - конечно, если осталось, куда бить. Некоторое время я наблюдаю за
горбуном.
Он работает спокойно и методично. Над очередным покойником взмахивает
цепом ровно сто раз и переходит к следующему. Похоже, не отдает предпочтения
какому-нибудь виду, или полу, или размеру, или цвету. Одинаково энергично
бьет всех: если возможно, по спине, а если невозможно, то куда придется.
Только если труп целиком в доспехах, карлик возится с ним: неуклюже
нагибается, чтобы поднять забрало или расстегнуть лямки на груди.
- Здравствуйте, - вдруг говорит он мне. А я из осторожности держусь
поодаль - что если ему приказано отлупить всех, кто находится на этом поле,
не отделяя живых от мертвых?
- Вы меня помните? - спрашиваю. Он знай себе орудует кровавым цепом.
- Не могу сказать с уверенностью, - отвечает.
Я ему рассказываю о городе у моря. Он мотает головой:
- Нет, это не я был. - Секунду-другую он роется то ли в складках, то ли
в карманах своих лохмотьев, затем достает маленький бумажный прямоугольник.
Протирает его истрепанной полой и протягивает в мою сторону руку. Я
осторожно делаю шаг навстречу. - Возьмите. Мне было сказано передать это
вам. Вот... Это игральная карта, тройка бубен.
- Что это значит? - спрашиваю. Он лишь плечами пожимает и обтирает
рукоятку цепа о дырявый рукав.
- Не знаю.
- Кто вам ее дал? И откуда они знали...
- К чему все эти вопросы? - говорит он и сам же мотает головой. Мне
стыдно.
- Наверное, ни к чему. - Я забираю игральную карту. - Спасибо.
- Пожалуйста.
Я успел забыть, насколько мягок его голос. Поворачиваюсь, чтобы уйти,
но тут же оглядываюсь.
- Еще только одно. - Кивком указываю на тела, лежащие кругом, точно
палые листья. - Что тут произошло? Что случилось со всеми ними?
Карлик пожимает плечами.
- Они не прислушивались к своим снам, - ответствует он и вновь берется
за работу.
А я иду своей дорогой - к далекой полоске света. Она точно длинный
слиток белого золота на горизонте.
Я покинул город на дне высохшего моря и удалялся от него по шпалам. Шел
тем же курсом, что и поезд фельдмаршала перед роковым налетом авиации. Никто
меня не преследовал, но из города доносились звуки стрельбы.
Постепенно менялся, выравнивался рельеф местности. Я нашел пригодную
для питья воду, а чуть позже и деревья с фруктами на ветвях. В этом краю
климат был уже не столь суровым.
Кое-где я замечал людей, кто-то, подобно мне, шел в одиночку, другие -
группами. Я держался особняком, они избегали встречи со мной. С тех пор как
я понял, что могу идти без опаски, и нашел воду и фрукты, сны у меня бывали
каждую ночь.
И во всех - один и тот же безымянный человек, один и тот же город. Сны
приходили и уходили, повторялись и повторялись. Я видел столько всего, но
каждый раз - нечетко. Дважды казалось, что еще чуть-чуть, и я узнаю имя
этого человека. Бывало, я начинал верить, что сон - это на самом деле явь, а
утром, пробуждаясь под деревом или в тени валунов, серьезно рассчитывал
очнуться в иной реальности, в иной жизни; для начала хотя бы на чистой,
удобной постели в больничной палате... Но не тут-то было. Вокруг
простиралась та же холмистая, с мягким климатом, равнина, перешедшая наконец
в поле боя, где я только что повстречал коротышку с цепом. И - свет в конце
горизонта.
Я шагаю к этому свету. Он похож на подбрюшье сырого облака, на узкий,
прикрытый веком золотой глаз. С макушки холма оглядываюсь на уродливого
коротышку. Он никуда не делся - молотит какого-то павшего воина. Может, надо
было лечь, чтобы карлик и меня отдубасил? Может, смерть - единственный
способ очнуться от этого страшного колдовского сна?
Но такие вещи требуют веры, а в веру я не верю. То есть я верю в ее
существование, но не верю в ее действенность. Не знаю, по каким правилам
здесь ведется игра, и не могу ставить на карту разом все, что у меня
осталось. Слишком большой риск.
Я прихожу туда, где заканчиваются облака и темные холмы ограничены
низким обрывом. Дальше лежат пески.
"Как тут неестественно", - думаю я, глядя на край хмурого облака.
Слишком отчетливо все, слишком единообразно. Слишком аккуратно проведена
граница между тенистыми холмами, где полегли армии удивительных существ, и
золотистой песчаной пустыней. И жаркое дыхание песков отгоняет густой,
стоялый смрад побоища. У меня есть бутылка воды и немного фруктов. Тужурка
официанта тонка, шинель фельдмаршала стара и грязна. А еще при мне носовой
платок, точно сувенир.
С последнего холма спрыгиваю на раскаленный песок, скольжу по
золотистому склону, вспахивая его ступнями. Воздух сух и горяч, в нем нет и
следа ставшего уже привычным кровавого смрада. Зато ощутим аромат другой
смерти; ее пророчит каждая пядь этой пустыни, где не сыскать ни воды, ни
пищи, ни тени.
Поднимаюсь на ноги и иду дальше.
Был момент, когда я решил, что смерть близка. Я долго шел и полз,
напрасно мечтая найти тень. В конце концов скатился по склону бархана и
понял, что без воды, без хоть какой-нибудь влаги мне уже не подняться.
Добела раскаленное солнце казалось дырой в небе - настолько синем, что оно
утратило всякий цвет. Я ждал, когда там сгустятся облака, но так и не
дождался. Зато появились темные большекрылые птицы. Они кружили надо мной,
оседлав невидимые воздушные потоки. Они ждали.
А я следил за ними сквозь полусклеившиеся веки. Птицы парили над
песками по широченной спирали, словно в небе был подвешен громадный
невидимый винт, к которому прилипли клочки черного шелка, и этот винт
медленно вкручивался в пустоту.
И тут на вершине бархана появляется другой человек. Он мускулистый и
рослый, и на нем какие-то легкие варварские доспехи. Руки и ноги с
золотистой кожей обнажены. У него огромный меч и узорчатый шлем, который он
несет в локтевом сгибе, перед грудью. При всей своей массивности человек
кажется прозрачным, бесплотным. Просвечивает насквозь. Может быть, это
призрак? Под солнцем поблескивает меч, но тускло. Человек стоит и
пошатывается. Меня он не видит. Козырьком приставляет дрожащую ладонь ко
лбу, а потом вроде говорит что-то своему шлему. Едва держась на ногах, он
бредет в мою сторону по склону, мускулистые обутые ноги вязнут в горячем
песке. Меня он, кажется, по-прежнему не замечает. Его волосы выбелены
солнцем, с лица, рук и ног слезает кожа. Меч волочится за ним по песку.
Возле моих ног незнакомец останавливается, вглядывается вдаль, шатается.
Зачем он здесь? Чтобы прикончить меня своим огромным мечом? Что ж, по
крайней мере, это будет быстрая смерть.
А он стоит и шатается, и взгляд устремлен куда-то далеко. Я готов
поклясться: он находится слишком близко ко мне, слишком близко от моих ног.
Такое чувство, что его ноги частью в моих. Я лежу и жду. А он стоит,
напрягает все силы, чтобы не упасть, и вдруг резко взмахивает рукой -
восстанавливает равновесие. Шлем летит на песок. Навершное украшение, волчья
голова, вскрикивает.
Глаза воина закатываются, белеют. Скорчившись, он валится на меня. Я
зажмуриваюсь - сейчас буду раздавлен.
Ничего не чувствую. И не слышу звука падения. Открываю глаза: ни воина,
ни его шлема. Ни следа. Я снова гляжу в небо, на птиц смерти, кружащих по
невидимой винтовой нарезке, по двойной спирали.
Остатки моих сил ушли на то, чтобы расстегнуть шинель и тужурку и
подставить обнаженную грудь небесному винту. Какое-то время я лежал
распростершись, и вот рядом опустились на песок две птицы. Я не шевельнулся.
Одна птица тюкнула меня в ладонь кривым клювом и тотчас отскочила. Я
ждал, замерев.
Когда они нацелились выклевать мне глаза, я схватил их за шеи. Кровь у
них оказалась густая и соленая, но для меня это был вкус самой жизни.
Я вижу мост. Поначалу уверен, что это галлюцинация. Потом допускаю
мысль о мираже. В воздухе отражается что-то похожее на мост и в моих
воспаленных, измученных глазах принимает его форму. Иду к нему сквозь жар по
цепкому, вязкому, жгучему песку. Носовой платок я приспособил вместо косынки
- худо-бедно защищает макушку от теплового удара. Вдали мерцает мост -
длинная неровная линия выпуклых дуг.
Весь день я медленно приближаюсь к нему; лишь однажды, когда солнце
было в зените, я позволил себе короткую передышку. Иногда забираюсь на
вершины барханов, убеждаюсь, что мост не исчез. Остается пройти какую-то
пару миль, когда неверящие глаза открывают страшную правду: мост лежит в
руинах.
Главные секции почти невредимы, но связующие прогоны, эти мостики меж
больших мостов, то ли обрушены, то ли рухнули сами, и вместе с ними пропали
части крупных прогонов. Мост уже меньше напоминает последовательность
горизонтально лежащих шестиугольников, а больше - цепочку изолированных
восьмиугольников. "Ноги" остались целы, "кости" по-прежнему вздымаются, но
его связки, его сухожилия ушли в песок.
Я не вижу движения, и хоть бы разок где-нибудь блеснуло. Ветер гоняет
песок по гребням дюн, но ни единого звука не доносится от охряного скелета
моста. Он стоит, иссушенный, костлявый, изломанный, над равниной, и золотые
волны медленно плещутся в его гранитные быки и нижние края секций.
Спасибо хоть на том, что я теперь могу войти в тень. Жгучий ветер
стенает меж высящихся башнями ферм. Я нахожу лестницу и лезу вверх. Очень
жарко, и я вновь схожу с ума от жажды.
Я узнал это место. Теперь мне известно, где я.
Кругом ни души. Скелетов не видать, но и выживших я не нахожу. На
железнодорожном уровне осталось несколько старых паровозов и вагонов, они
намертво приржавели к рельсам, сделались наконец неотъемлемой частью моста.
Даже сюда намело песка, рельсы и стрелки оттенены золотисто-желтым.
А вот и мое любимое местечко - "Дисси Питтон". У него жалкий вид:
веревки, на которых была подвешена к потолку мебель, почти все порваны,
кушетки, кресла и столы валяются повсюду, словно мумифицированные трупы. Но
кое-какие предметы мебели висят на одном-двух тросах - увечные среди павших.
Я иду в зал с видом (бывшим) на море.
Когда-то я тут сидел вместе с Бруком. Вот на этом самом месте. Мы
глядели на океан, и Брук ворчал из-за аэростатов воздушного заграждения, а
потом мимо пролетели самолеты. Солнце сейчас высоко, и пустыня под ним очень
яркая.
Вот и клиника доктора Джойса. А может, и нет. Не узнаю мебель. Впрочем,
он же то и дело переезжал. Жалюзи, колеблемые ветром у разбитых окон, вроде
те же.
Не скоро я добираюсь до заброшенных летних апартаментов семьи Эррол.
Они наполовину утонули в песке. Дверь отворена, видны только верхушки все
еще прикрытой чехлами мебели. Камин скрылся под песчаными волнами. Та же
участь постигла и широкую кровать.
Я медленно возвращаюсь на железнодорожный уровень и там стою, гляжу на
мерцающие вокруг моста пески. Под ногами валяется пустая бутылка. Я беру ее
за горлышко и бросаю с яруса. Она летит по дуге, кувыркается, блестит под
солнцем.
Потом налетает ветер, визжит в железных балках и обжигает меня, бичует.
Заползаю в какой-то угол и смотрю, как вихрь, точно бесконечный шершавый
язык, слизывает с моста шелушащуюся краску.
- Сдаюсь, - говорю.
Кажется, будто мой череп заполнен песком. Не череп, а нижняя половинка
песочных часов.
- Сдаюсь, - повторяю. - Я не знаю, место или вещь. Скажи ты.
Кажется, это мой голос. Ветер крепчает. Я уже не слышу собственной
речи, но знаю, что я пытаюсь сказать. Я вдруг обрел уверенность в том, что
смерть обладает звуком. Это слово, которое может произнести каждый и которое
может стать причиной его смерти и самой смертью. Я пытаюсь угадать это
слово, но тут вдали что-то вдруг проворачивается со скрежетом, и руки
поднимают меня, уносят вверх.
Уясним наконец одно, раз и навсегда: все это сон. В любом смысле этого
слова. И нам обоим это известно.
Впрочем, у меня есть выбор.
Я в продолговатом гулком помещении. Лежу на кровати. Вокруг аппаратура,
я под капельницей. Время от времени заходят люди взглянуть на меня. Иногда
кажется, что потолок покрыт белой штукатуркой, иногда - что он из серого
металла, иногда я вижу только красные кирпичи, а бывает, я смотрю на
склепанные друг с другом, покрашенные в цвет крови листы стали. Наконец
приходит догадка, где я нахожусь: на мосту, в одной из его полых
металлических костей.
Жидкость поступает в меня через нос и выводится через катетер. Такое
чувство, будто я скорее растение, чем животное, млекопитающее, примат,
человек. Я - деталь машины. Все процессы в моем организме замедленны. Надо
как-то выбираться: подкачать бензин в карбюратор, включить зажигание; нажать
на газ?
Кое-кого тут я вроде бы знаю.
Доктор Джойс тоже здесь. Носит белый халат, делает пометки в блокноте.
Уверен, что совсем недавно я видел и Эбберлайн Эррол, но лишь мельком... И
на ней была форма медсестры.
Комната длинная и гулкая. Временами я улавливаю запах чугуна и
ржавчины, краски и лекарств. У меня забрали выданную мне карту и шарф... То
есть носовой платок.
"Ну что, идем на поправку?" - улыбается мне доктор Джойс. Я смотрю на
него и пытаюсь заговорить: кто я? где я? и что со мной происходит?
Врач втолковывает мне, как очень тупому ребенку, что меня готовы лечить
по новой методике. Хотите, мы попробуем? Хотите? Это может дать хороший
результат. Если согласны, распишитесь вот тут.
Распишемся-подпишемся. Хотите кровью - да ради бога. Нате вам мою душу,
если, конечно, таковая имеется в природе. Чего еще изволите? Как насчет
транша в несколько миллиардов нейронов? Мозги в отличном состоянии, док.
Владелец был очень бережлив (кгхм!). Не брал свои серые клеточки даже в
церковь по воскресеньям...
Ублюдки! Это же машина!
Приходится рассказывать все, что я могу припомнить, машине,
напоминающей стальной чемодан на хрупком сервировочном столике.
Дело это долгое.
Снова мы с машиной наедине. Некоторое время в комнате находились
какой-то тип с землистым лицом, и медсестра, и даже старый добрый доктор, но
сейчас никого не осталось. Только я и машина. Она завязывает разговор.
- Ну так вот... - говорит.
Послушайте, но ведь никто не застрахован от ошибки. Разве из этого
следует, что теперь меня надо... Тьфу, на фиг, забыли. Ладно, я был не прав:
виноват так виноват. Грешны, каемся. Прикажете кровью искупать?
- Ну так вот, - говорит, - под конец твои сны не врали. Последние, уже
после моста. Это и вправду ты.
- Я тебе не верю.
- Поверишь.
- С какой стати?
- С такой, что я - машина, а машинам ты доверяешь. Понимаешь их, и они
тебя не пугают, даже восхищают. С людьми у тебя совсем не так.
Поразмыслив над услышанным, решаю задать другой вопрос: где я.
- Твое подлинное "я", - отвечает машина, - твое настоящее тело сейчас
находится в Глазго, в неврологическом отделении больницы "Саут дженерал".
Тебя перевели из Эдинбурга, из "Ройал инфермэри"... некоторое время назад. -
Кажется, у машины неуверенный голос.
- Точно не знаешь? - спрашиваю я.
- Это ты не знаешь, - отвечает она. - Тебя перевезли, вот и все, что
известно нам обоим. Месяца три назад. А может, и пять или даже шесть. В
твоих снах это две трети от всего срока. Тебя держали на лекарствах,
пробовали разную новую терапию, и твое чувство времени сошло с нарезки.
- А ты... а мы с тобой в курсе, какое нынче число? Долго меня лечат?
- Ну, это как раз вопрос не очень сложный. Семь месяцев. Когда здесь в
последний раз была Андреа Крамон, она упоминала о своем дне рождения.
Дескать, он через неделю и, если ты к этому времени очнешься, будет просто
здорово...
- Ну хорошо, - говорю аппарату. - Выходит, сейчас начало июля. День
рождения у нее десятого.
- Выходит, что так.
- Гм... Как я догадываюсь, моего имени ты не знаешь?
- Правильно догадываешься.
Некоторое время я молчу.
- Ну так чего? - интересуется машина. - Как насчет проснуться?
- Ну, не знаю... А какие варианты?
- Оставайся под водой или всплывай, - говорит машина. - Все очень
просто.
- Всплыть? А как? По пути сюда я пробовал, пока не добрался до пустыни.
Я хотел проснуться в...
- Знаю. Боюсь, тут я тебе не помощница. Понятия не имею, как это
делается. Знаю только, что сможешь, если захочешь.
- Черт, ведь я даже не знаю, хочу ли.
- А я знаю не больше твоего, - логично замечает машина.
Понятия не имею, чем меня накачали, но все вокруг плывет. Машина, когда
она здесь, кажется реальной, чего не скажешь о людях. Как будто в глазах у
меня туман, как будто в них потемнела жидкость, как будто они забиты илом.
Подобным же образом пострадали и другие чувства. Все, что я слышу, звучит
расплывчато, искаженно. И ни запашка, никакого привкуса. Кажется, даже мысли
заторможены.
Я лежу. Я мелок, я на мели, я мелко дышу, но пытаюсь думать глубоко.
А потом - ничего. Ни людей, ни машин, ни вида, ни звука, ни вкуса, ни
запаха, ни осязания, ни даже ощущения моего собственного тела. И серость
кругом. Только воспоминания.
Я ухожу в сон.
Просыпаюсь в маленькой комнате с одной-единственной дверью. В стене -
экран. Помещение кубической формы, в серых тонах, без окон. Я сижу в большом
кожаном кресле. Оно мне вроде бы знакомо - такое же, как в Лейте, в
кабинете. На правом подлокотнике должна быть подпалинка, туда из косяка
выпал тлеющий комочек марихуаны. Нету. Наверное, это новое кресло. Гляжу на
свои руки. На правой видна рубцовая ткань. На мне туфли от "Мефисто", джинсы
"Ли", рубашка в клетку. Бороды нет. Судя по самочувствию, я здорово похудел.
Встаю и оглядываю комнату. Экран темен, кнопок не видать. В потолке, по
периметру стен, скрытые лампы. Тут все из серого бетона. Вроде бы тепло. На
стенах ни единого шва - неплохая заливка. Интересно, кто подрядчик? Дверь
обыкновенная, деревянная. Я ее отворяю.
По ту сторону дверного проема - такая же комната. Правда, в ней нет
экрана и кресла, только кровать. Это пустая больничная койка с хрустящим
белым бельем и серым одеялом. У одеяла приглашающе отогнут уголок.
Из только что покинутой мною комнаты доносится шум.
Если я туда вернусь и обнаружу старика, похожего на меня (думаю я),
надо будет как-то отсюда выбраться, найти машину, подать жалобу.
С этой мыслью я иду к двери, в комнату с креслом. Я не нахожу
загримированного Кира Даллеа. Комната пуста, но засветился экран. Я сажусь в
кресло и смотрю.
Это снова человек на кровати. Только на этот раз изображение цветное и
все видно гораздо лучше. Кое-что изменилось: он лежит на животе, на другой
кровати, в другой комнате. Это маленькая палата, и в ней еще три койки, и на
двух - мужчины с забинтованными головами. Кровать моего знакомца огорожена
ширмами, но я как бы нахожусь сверху и гляжу вниз. Очень отчетливо вижу
лысину. Касаюсь собственной головы - плешь. И на моих руках волосы,
естественно, не черные, а грязно-бурые. Вот блин!
А тут вроде гораздо уютнее, чем в той клетушке. В вазе на небольшой
прикроватной тумбочке - желтые цветы. В ногах у пациента, на спинке кровати,
не висит температурный листок. Наверное, так больше не делают. Зато у него
на запястье пластмассовый браслет. На браслете что-то написано, но я ничего
не могу разобрать.
Доносится отдаленный шум: голоса, женский смешок, звяканье склянок или
чего-то металлического, повизгивание катящихся по полу колес. Появляются две
медсестры, заходят в огороженное ширмами пространство и переворачивают
больного. Взбивают ему подушки, устраивают его в положении полусидя, не
прекращая болтать друг с дружкой. Я дико злюсь, так как не слышу, что они
говорят.
Медсестры уходят. В кадре появляются новые люди, устраиваются у
соседних коек. Люди как люди - молодая парочка пришла навестить старика,
пожилая женщина тихо беседует с другим пожилым мужчиной. К моему больному
посетителей нет. Но ему, похоже, все по барабану.
И вдруг является Андреа Крамон. Это точно она, хоть и в непривычном
ракурсе. На ней белый брючный костюм из грубого шелка, красная шелковая
блузка, красные туфли на шпильках. Она кладет пиджачок (не тот ли самый, что
я купил ей в прошлом году в Дженнере?) в изножье кровати, потом наклоняется
над лежащим, целует его в лоб и легонько - в губы. Ее рука ненадолго
задерживается - откидывает ему волосы со лба и заглаживает на темя. Потом
Андреа садится на стул рядом с койкой, закидывает ногу на ногу, упирается
локтем в бедро, а подбородком - в ладонь и смотрит на лежащего. А я смотрю
на нее.
На спокойном, но озабоченном лице появились новые складочки,
зарождающиеся морщинки. Сеточки никуда не делись из-под глаз, но к ним
добавились легкие тени. Волосы у нее длиннее, чем обычно. Не удается толком
разглядеть глаза, но скулы, изящный нос, длинные темные брови, волевой
подбородок и мягкий рот... все это я вижу.
Она наклоняется вперед, берет его руку. При этом не сводит с него
взгляда. Почему она здесь? Почему не в Париже?
...Пардон, дорогуша. И часто ты сюда кости закидываешь?..
(А сейчас - это сейчас? Или из прошлого?)
Она долго сидит, не выпуская его руки и глядя в бледное, ничего не
выражающее лицо. Наконец ее голова клонится к смятой простыне рядом с рукой
мужчины и зарывается в крахмальную белизну. Плечи вздрагивают раз-другой.
Экран гаснет, а затем и лампы. В соседней комнате свет остается гореть.
Я подозреваю, что подсознание пытается мне что-то сказать. Увы, но
утонченность никогда не была его сильным местом. Я глубоко вздыхаю, берусь
за подлокотники кресла и медленно встаю.
Одежду сбрасываю на пол у кровати. Под подушкой лежит короткая,
застегивающаяся сзади ночная рубашка из хлопка. Я ее надеваю и забираюсь под
одеяло. Пора вздремнуть.
Дурак! Идиот! Ты хоть понимаешь, что творишь? Ты же здесь был счастлив!
Власть, развлечения, широкие возможности. Все это у тебя было. Подумай об
этом! И к чему ты хочешь вернуться? Из руководства фирмой тебя небось уже
выперли, наверняка завели дело за вождение в пьяном виде (долго еще,
приятель, не гонять на шикарных тачках), и ты с каждым днем все старее и
несчастнее, и вынужден уступать свою подружку очередной болезни, очередному
прикованному к койке полутрупу. Ты всегда поступал так, как хотелось ей, она
тебя использовала, а не наоборот. Вы с ней жили, поменявшись ролями: не ты
сношал, тебя сношали. И не забывай: она тебя отшила. Дала отлуп. Раз за
разом она втаптывала тебя в грязь, а стоило тебе мало-мальски оклематься,
она тотчас уматывала за границу. Идиот! Не делай этого!
Да? А что еще мне остается? Между прочим, меня запросто могут отсюда
вышвырнуть. Какую-то мозговую деятельность, какую-то активность коры врачи
явно фиксируют, но, если так и буду дальше валяться колодой, меня могут
счесть безнадежным. Уберут капельницы, перекроют поступление воды и
питательных растворов, дадут мне умереть.
Так что я должен позаботиться хотя бы о самосохранении. Разве это не
важнейший принцип живой природы?
К тому же нельзя ее вот так бросать. С женщинами подобным образом не
поступают. Она этого не заслуживает. Да и никто не заслуживает. Ты ей не
принадлежишь, и она тебе не принадлежит, но каждый из вас - часть другого.
Если сейчас она встанет и уйдет, и уже не вернется, и вы не увидитесь до
конца своих дней, и ты проживешь еще полсотни заурядных лет, то и тогда на
смертном одре ты будешь осознавать, что она - часть тебя.
Вы с ней оставили друг на друге свои отметины, помогли друг другу
формироваться. Наделили друг друга отличительными черточками -
неизгладимыми, что бы ни случилось.
Ты сейчас пользуешься преимущественным правом на нее лишь потому, что
так близок к смерти. Если поправишься, она может запросто уйти к нему снова.
Вот незадача. Ты же вроде как-то раз решил, что не будешь держать на него
зла, или это был всего лишь пьяный треп?
Нет...
Громче.
Я говорю, нет, это не был пьяный...
Приятель, я тебя все еще не слышу. Громче.
Ладно! Ладно! Серьезно я, серьезно!
В натуре, серьезно. И вот еще что: она до сих пор считает, что беда
повторяется трижды. Ее отец умер в машине. Потом - Густав, он обречен
медленно дегенерировать... Потом я. Очередная машина, очередная авария;
очередной мужчина, которого она любила. О, теперь я нисколько не сомневаюсь,
что мы с Густавом очень похожи и что мы могли бы понравиться друг другу. И с
адвокатом он бы наверняка поладил, как это сделал я, и по той же причине...
Но ведь в моих силах не стать третьим, клянусь! Для этого нужно лишь одно:
прекратить поиски сходства! (Бледные пальцы выступают из черной
дифракционной решетки экрана, дрожа на вечернем ветру, как белые клубни...
Вот зараза, опять проектор заело. Монохромное изображение шелушится и
лопается, за ним - белый свет. Уже слишком поздно. Снайпер сперва видит
цель, затем ловит ее в перекрестье, потом жмет на спуск, а уж в-третьих...)
Нет, эта короткая последовательность закончится на второй жертве, если
от меня хоть что-то зависит. (И опять змейкой прокрадывается мысль о том,
как мы, наверное, похожи с Густавом. Я знаю, что бы сказал Андреа, если б
это я медленно угасал и она вознамерилась бы принести себя в жертву на
алтаре неусыпной заботы...)
Поеду в тот, другой, город. Честно, я всегда этого хотел и сейчас хочу.
И хочу встретиться с этим человеком. Япона мать, да я просто хочу что-нибудь
делать! Путешествовать на транссибирском экспрессе, побывать в Индии,
постоять на Айерс-рок, промокнуть до нитки в Мачу-Пикчу! Хочу заняться
серфингом! Я все-таки куплю дельтаплан. Снова приеду к Большому Каньону и на
этот раз не остановлюсь у обрыва. Я хочу увидеть северное сияние со
Шпицбергена или в Гренландии, хочу увидеть полное затмение, хочу наблюдать
пирокластические зрелища, хочу пройти по лавовому туннелю, хочу увидеть
Землю из космоса, хочу пить тибетский чай в Ладакхе, я хочу плыть вниз по
Амазонке и вверх по Янцзы и гулять по Великой Китайской стене. Я хочу
побывать в Азании! Я хочу снова увидеть, как с палуб авианосцев сбрасывают
вертолеты. Я хочу оказаться в постели разом с тремя женщинами!..
Господи боже! Вернуться в тэтчеровскую Британию, в рейгановский мир, ко
всему этому дерьму! Жизнь на мосту, при всей своей странности, была по,
крайней мере, предсказуема и хоть относительно безопасна.
А может, и нет. Не знаю.
Я одно знаю: что как-нибудь обойдусь без машины, которая расписывает
мне возможные варианты. Выбор не между реальностью и сном, выбор - между
двумя разными снами.
Первый - мой собственный: мост и все, что я вокруг него накрутил.
Другой - наш коллективный: все, что мы навоображали сообща. Мы существуем во
сне, как его ни называй: бытием, реальностью, жизнью. Уж не знаю, к добру
или к худу, но я - часть одного сна, и этот сон был наполовину кошмаром, и я
едва не позволил ему свести меня в могилу. Но все-таки я жив. Пока во всяком
случае.
Так что же изменилось?
Не сон, не суммарный результат наших снов, который мы называем миром,
не наша высокотехнологичная жизнь. Может быть, изменился я? Не исключено.
Кто знает. Здесь, "внутри", возможно все, что угодно. Не смогу ни о чем
судить, пока не вернусь назад. Пока не начну снова жить общим сном,
отвергнув свой индивидуальный: о вещи, ставшей местом, о средствах, ставших
целью, о маршруте, ставшем пунктом назначения... И вправду - тройка бубен и
высококлассный мост, бесконечный мост, ни в чем не повторяющийся мост. Его
огромный ржавый каркас вечно разрушается и вечно восстанавливается, подобно
тому как змея обновляет кожу или подобно метаморфирующему насекомому - оно в
коконе, и оно постоянно меняется...
Ох уж все эти поезда. То-то еще наезжусь на них. Вождение-то наверняка
запретят. Глупый ты ублюдок! Это ж надо - перед самым Рождеством залил зенки
и полез за баранку. Стыдобища! Разбил свою и чужую тачку, сам едва не
угробился. Хорошо хоть, что больше никто не пострадал. Вряд ли я захотел бы
вернуться, зная, что кого-то спровадил на тот свет. Или даже если бы только
искалечил. Надеюсь, тот бедолага не слишком горюет по своему "MG".
А "ягуар" жалко. Столько времени на него потрачено, столько денег,
столько труда опытных работяг. Хорошо еще, я им владел без году неделя, не
успел проникнуться сентиментальными чувствами. ("Мистер Икс, вы были сильно
привязаны к своему автомобилю?" - "Привязан? Да я три часа был переплетен с
этим гадом!")
А мост... мост. Вот встану на ноги (если встану), надо будет Совершить
к нему паломничество. Пройду над рекой (если смогу ходить), брошу монетку на
счастье. Ха-ха!
Три секции, три частокола, эдаким фертом за стенами форта
(Ферт-оф-Форт). Теперь я вспомнил: над автомобильным мостом тоже высились
серые иксы. Три громадных "X", одно над другим, как шнуровка или кружево...
И еще... Еще... что еще? Ах да: я еще не всю пленку Pogues прослушал. Не
было "А Man You Don't Meet Every Day"<"Человек, какого не каждый день
встретишь" (англ.)>. Пятая тема; спой, детка, не стыдись... А на другой
сторонке Eurythmics, это контраста ради. Малютка Энни с тетушкой Аретой
наяривают. Для души стараются. Ну а почему бы и нет? Поет "Better To Have
Lost In Love (Than Never To Have Loved At All)"<"Лучше, когда в любви не
везет (чем вообще никогда не любить)" (англ.)>. Что это, клише? У клише
тоже есть чувства.
Я хочу вернуться. А вот могу ля?
би-ип... би-ип... би-ип... Это автоответчик. Сейчас ваше сознание
отключено, но если вам угодно оставить... щелк.
А правда, могу ли? Как бы это узнать? Я хочу вернуться. Сейчас же.
Давай попробуем, а? Сон - явь. Начали!
Идем назад.
Очень скоро. Пробуждение. А перед этим - слово нашим спонсорам. Но
сначала три маленькие звездочки:
Как-то раз дождливым и не очень теплым летом я был на берегу под
Валтосом. Я был с ней, и мы поставили палатку и с помощью кое-какой химии
изменяли реальность. По палатке тихо барабанил дождь. Она не хотела
выходить. Сидела, просматривала альбом Дали. Но если я решал выйти, она не
возражала.
Я бродил по извилистой кромке берега, где волны разглаживали золотистые
песчаные горбы. Там мы были втроем с теплым влажным бризом и милей-другой
пляжа, да еще дождь накрапывал с серых клубящихся туч. Я находил острые
ракушки - осколки радуги; я видел, как дождинки падают на еще сухие пятна
песка и как их овевает ветер. И казалось, что весь пляж шевелится, течет;
казалось, это живое существо. Я помню свой восторг, поистине детское
восхищение от этого песка и темных крапинок на нем, от ощущения бегущих
между пальцами крупинок.
Я находился на дальнем краю Гебрид, бурное море отделяло меня от
Ньюфаундленда, Гренландии и Исландии и крутящейся над северным полюсом
ледяной ермолки. Острова Льюис и Гаррис врезались в море длинной гористой
дугой, словно позвоночный столб, словно цветок мозга над центральной нервной
системой. Мой разум был островом, острый скальпель наркотика открыл его
набегам волн и ветров.
Тогда я думал, что понял все: как расцветает мозг на конце членистого
стебля; как мы запускаем корни в почву, растем и крепнем. Это значило все и
не значило ничего - как тогда, так и сейчас.
И я сказал себе, что был далеко-далеко... Потому что я был своим
собственным отцом и своим собственным ребенком и ненадолго уходил, но теперь
вернулся. Вот что я себе сказал, собираясь в обратный путь: "Сынок, твой
папа был очень далеко".
...Да, конечно, но ведь это было очень давно. А как насчет дня
сегодняшнего? Я в том смысле, что полгода без выпивки и курева - это вам не
шутки. Наверное, лежа тут без сознания, я был здоровее, чем на протяжении
всей своей взрослой жизни. Пускай физических упражнений кот наплакал, зато в
том, что течет через мою ноздрю в пищевод, никаких токсинов. Непонятно даже,
как мое тело смогло пережить такое долгое воздержание от спиртного и дури.
Может, я перекуюсь, может, я вообще завяжу пить и курить, а также
нюхать и жевать всякую дрянь. И когда восстановлю водительские права,
скорость превышать - ни-ни! А еще ни разу не скажу худого словечка про наших
законно и демократично избранных представителей и их стратегических
союзников и буду куда терпеливей и уважительней выслушивать мнение
собеседников даже по самым дурацким вопросам... Хотя стоит ли возвращаться,
чтобы заниматься такой херней? Черного кобеля не отмоешь добела. Буду
грешить и впредь, только куда осторожнее.
Малыш, твой папочка...
Да, знаю. Это мы уже слышали. Думаю, до нас дошло. Еще кто-нибудь?..
Кончена забава Процедура завершена Браммер пробуждается Брахма
пробуждается Не за что
(спасибочки, Билл)
(и тебе, Мак)
(а если подумать?)
(большое спасибо)
(харе болтать; не томи душу)
Мгла.
Нет, не мгла. Кое-что есть. Что-то темно-, почти коричнево-красное.
Везде. Пытаюсь оглянуться, но не могу, значит, это не просто цвет стены или
потолка. Может, это позади моих глаз? Не знаю. И хрен тут выяснишь.
Звук. Я что-то слышу. Вот на что похоже: когда ныряешь в бассейн и
плывешь обратно к поверхности. Этот звук, такой булькающий белый шум,
постепенно меняется в тоне, от очень низкого до самого высокого, а потом
лопается как пузырь, разлетается на...
Разговор, женский смех. Позвякивание стекла и металла. Колесный визг
или скрип ножки стула.
Запах. Да, очень медицинский. Теперь очевидно, где мы находимся. Еще -
что-то цветочное. Я чувствую два запаха. Один резкий, но свежий, другой...
Не знаю. Не могу описать... Ага: первый - от цветов на тумбочке у кровати.
Второй запах - ее. Похоже, она не изменила своему пристрастию к духам
"Джой". Да, наверное, это она. Так этими духами не пахнет больше никто, даже
ее мать. Андреа здесь!
Сегодня что, день тот же самый? И что, я ее увижу? О, только не уходи!
Останься!
Ну двинь же чем-нибудь! Давай шевелись!
Тут полнейший беспорядок. Ни черта не видать. Я похож на сонного
кукловода, которого неожиданно разбудили, и теперь он шарахается за сценой и
пытается отыскать концы и распутать нитки. Ручки? Ножки? Головки? Что тут к
чему? И где инструкция?.. О господи, только бы не пришлось учиться всему
этому по новой.
Глазки! Откройтесь, блин!
Дерг! Ручки!
Ножки! А ну-ка вставайте, делайте, что вам положено!
...Эй, люди! Кто-нибудь!
Полегче, полегче. Ложись-ка и думай о Шотландии. Успокойся, приятель.
Дыши глубже, прислушайся к току крови. Ощути тяжесть заправленного под
матрас одеяла и простыней, ощути щекотку в ноздре, куда входит конец
трубки...
...Вот и все. Не слышно ничьей болтовни поблизости. Только приглушенный
рокот здания, города. Легким ветерком унесло аромат "Джой"... А может, его
тут и не было. Зато подсохшей кровью попахивает...
Снова потянуло сквозняком. Приятное ощущение на щеке и на коже между
носом и губой. Со студенческих лет не ощущал там ветра. Столько лет прожил с
бородой...
Я глубоко вздыхаю.
Я в самом деле дышу. Чувствую сопротивление заправленного под матрас
одеяла, когда грудь поднимается выше обычного. Трубка искусственного легкого
скользит по ткани на плече, потом, когда я расслабленно выдыхаю, скользит
обратно. Дышу!
Я до того потрясен, что открываю глаза. Дрожит левое веко; ресницы
слиплись, но взор проясняется через секунду-другую. Поначалу все дрожит и
кажется слишком ярким, но вскоре нормализуется.
Андреа сидит менее чем в метре, подобрав ноги под стульчик. Одна рука
лежит на бедре, другая держит у рта пластиковый стаканчик. Губы раздвинуты.
Я вижу ее зубы. Она изумленно смотрит на меня. Я моргаю. Она тоже. Я шевелю
пальцами ног и вижу, как в изножье приподнимается и опускается белый пиджак.
Напрягаю бицепсы. До чего же грубые здесь одеяла! Есть хочется!
Андреа опускает стакан, чуть наклоняется вперед, словно не верит
собственным глазам. Смотрит то в один мой глаз, то в другой, явно выискивает
в них признаки сознания (и я вынужден согласиться, что это вполне
обоснованная мера предосторожности). Кашляю, чтобы прочистить горло.
Андреа вся обмякает. Когда-то я видел, как выпадает из ее пальцев
шифоновый шарф, но даже тот не изгибался столь грациозно... С ее лица вмиг
сходит вся тревога: раз - и нету. Андреа медленно кивает и улыбается:
- С возвращением.
- Да ну?
"Монти Пайтон и Святой Грааль" (1975) - эксцентричная комедия Терри
Гиллиама и Терри Джонса по сценарию Грэма Чапмена, Джона Клиза и др. Первый
полнометражный фильм группы "Монти Пайтон", прославившейся сюрреалистическим
сериалом "Воздушный цирк Монти Пайтона", который выходил на английском
телевидении в 1969 - 1974 гг. Американец Терри Гиллиам (прежде занимавшийся
комиксами, а впоследствии видный кинорежиссер) отвечал в группе
преимущественно за мультипликацию.
"У/Z" - английский журнал комиксов, выходящий с 1983 г. Начинался в
Ньюкастле как малотиражное самодеятельное издание и сперва имел чисто
культовую известность, распространялся в местных пабах; однако уже к началу
90-х гг. его тираж превысил миллион экземпляров. Относится
к категории "взрослых" комиксов, но это не означает, что журнал имеет
эротическую направленность: "VIZ" - юмористическое издание с характерным
грубоватым, а то и скатологическим юмором.
Полицейские машины (бутерброды с джемом). - На английском сленге
полицейские машины зовутся бутербродами с джемом. В англо-американском
словаре Криса Рея (www.english2american.com) это прокомментировано следующим
образом: "Полицейские машины в Англии белые, с красной продольной полосой
посередине, - отсюда и прозвище. Если сощуриться, встать на голову и
прочитать „Отче наш" задом наперед, то не исключено, что в чем-то
полицейский автомобиль покажется не таким уж и непохожим на бутерброд с
джемом".
...всегда клялся, что атеистом останешься и в окопе под огнем... -
Имеется в виду знаменитое высказывание американского священника Уильяма
Томаса Каммингса (1903 - 1945): "Не бывает атеистов в окопах под огнем".
Процитировано в гл. 15 книги Карлоса П. Ромуло "Я видел падение Филиппин"
(1943).
Кеджери - жаркое из рыбы с рисом и пряным порошком карри.
...plus сa change... - начало французской поговорки "Plus с.а change,
plus c'est la meme chose" (чем больше все меняется, тем больше все
по-прежнему).
Гарри Лодер (1870-1950) - эдинбургский комик-репризер, автор и
исполнитель песен; самая яркая звезда английского мюзик-холла первой
четверти XX в., в 1919 г. возведен в рыцарское достоинство. Выступая в
кильте и с большой крючковатой палкой, эксплуатировал утрированный образ
шотландца, за что порой критиковался соотечественниками.
Они с друзьями решили сделаться "альтернативными геологами" и прозвали
себя рокерами. - Игра слов: "rock" по-английски означает "горная порода" и
"рок-музыка", а "рокер" в традиционных значениях - рок-музыкант или
поклонник рок-музыки. - Прим. пер.
"White Rabbit" - песня Jefferson Airplane с альбома "Surrealistic
Pillow" (1967); ассоциации подразумеваются не только кэрролловские,
посвящена песня Стивену Оусли по кличке Белый Кролик - калифорнийскому
химику-любителю, изготовлявшему качественный и общедоступный ЛСД.
"Astronomy Domine" - первая композиция с первого альбома Pink Floyd, "A
Piper at the Gates of Dawn" (1967).
...с юной медсестрой из "Вестерн дженерал"... - Western General,
известный научно-исследовательский медицинский комплекс в Эдинбурге. - Прим.
пер.
Лейнг, Рональд Дэвид (1927-1989) - английский психиатр, известный
нетрадиционным подходом к лечению шизофрении. В первой книге "Разделенное
„я"" (I960; рус. пер. 1995) утверждал, что онтологическое сомнение
(сомнение в собственном существовании) вызывает защитную реакцию: "я"
разделяется на несколько компонентов, что порождает симптомы, характерные
для шизофрении. Выступал против традиционных методов лечения шизофрении
(госпитализация, электрошок). В "Политике опыта" (1967) рассматривал безумие
как форму трансценденции нормального состояния отчуждения. Впоследствии
частично пересмотрел наиболее радикальные из своих ранних взглядов.
Т. С.Элиот (1888 - 1965) - выдающийся поэт, теоретик литературы,
драматург. Его поэма "Бесплодная земля" (1922) - одно из высочайших
достижений модернизма.
"Wheels of Fire" - двойной альбом Cream (1968).
"Electric Ladyland" - двойной альбом Джими Хендрикса (1968).
"Bringing It All Back Home" - альбом Боба Дилана (1965). Впоследствии
переиздавался под названием "Subterranean Homesick Blues" (по первой песне).
...и когда мэр Дети... - Дейли Ричард Джозеф (1902-1976), шестикратный
мэр Чикаго (1955-1976); по его приказу в 1968 г. полиция жестоко разогнала
демонстрантов во время предвыборного съезда Демократической партии, что
привело к неделе массовых беспорядков. Обвиненный на пресс-конференции в
том, что насилие было спровоцировано полицией, Дейли ответил знаменитой
оговоркой: "Наша полиция служит не для того чтобы учинять беспорядок, а
чтобы охранять беспорядок". Из более ранних достижений: считается, что Дейли
фальсифицировал результаты президентских выборов 1960 г. в своем штате
Иллинойс, что принесло победу Кеннеди, а не Никсону. К слову сказать, в 1989
г. его сын, Ричард М. Дейли, тоже был выбран мэром Чикаго.
"Wichita Lineman" - песня Джимми Уэбба (р. 1946). Существует по меньшей
мере полсотни вариантов исполнения. Самое известное - 1968 г., Глена
Кэмпбелла (номер один в кантри-хит-параде, номер три в хит-параде
"Биллборда"); также исполнялась Реем Чарльзом (1970), Urge Overkill (1988),
R.E.M. (1995).
"Ode to Billy Joe" - баллада Бобби Джентри (наст, имя Роберта Стритер,
р. 1944), первый ее сингл (1967) и одна из популярнейших фолк-песен второй
половины 60-х; входила как в поп-, так и в кантри-чарты. По мотивам этой
истории роковой любви шестнадцатилетнего Билли Джо Макаллистера и
четырнадцатилетней Бобби Ли был снят фильм (1976, реж. Макс Баэр-мл.). В
песне - и, конечно, в фильме - фигурирует мост через речку Таллахатчи;
дальше в романе Бэнкс это обыгрывает ("рухнул мост Таллахатчи" - см. стр.
284).
По "Радио-1" в ночном эфире Джон Пил крутил реггей. - Джон Пил (наст,
имя Джон Роберт Паркер Равенскрофт, р. 30.08.1939) - знаменитый английский
радиоведущий. Прославился сперва на пиратской радиостанции Radio London, с
1967 г. и до настоящего времени ведет программу на Radio One (ВВС). В
соответствующее время активно пропагандировал психоделию, реггей, панк,
электронную и хаус-музыку, этнику и др., предпочитает работать с
независимыми лейблами и малоизвестными музыкантами. В июле 1991 г. посещал
Санкт-Петербург.
Он купил "Past, Present and Future" Эла Стюарта. - Эл Стюарт (р. 1945)
- известный шотландский автор-исполнитель; начинал в фолк-среде, потом стал
использовать более масштабные аранжировки и значительно расширил аудиторию.
В конце 60-х с ним периодически записывался Джимми Пейдж. "Past, Present and
Future" (1973) - его пятый альбом, начиная с которого он сосредоточился
преимущественно на исторической тематике. "Post World War Two Blues"
повествует о тяжелом шотландском детстве на фоне послевоенной политики.
"Roads to Moscow" - песня от лица советского солдата, краткое изложение всей
Великой Отечественной войны вплоть до последующего сибирского лагеря за
немецкий плен. Десятиминутную, с затянутыми гитарными соло, композицию
"Nostradamus" большинство критиков сочли единственной неудачей альбома;
радикально сокращенную кавер-версию под названием "Eyes of the Nostradamus"
включил в свой альбом "Somewhere in Africa" (1982) Манфред Мэнн.
Он много раз ставил "The Confessions of Doctor Dream"... - Альбом
Кевина Айерса (1974) с участием Майка Олдфилда и Нико. Самый коммерчески
успешный альбом Айерса за всю его карьеру.
Из кассет в машине был преимущественно Пит Эткин, но для быстрой...
езды задумчивые... тексты Клайва Джеймса не годились... - Пит Эткин -
культовый английский автор-исполнитель, постоянно сотрудничавший с поэтом
Клайвом Джеймсом; выпустил в 1970 - 1975 гг. шесть фолк-альбомов, широко
прогремевших в узких кругах, и на четверть века пропал из виду, пока в 2001
г. не вышел двойной альбом "The Lakeside Sessions".
"Rock and Roll Animal" (1974) - концертный альбом Лу Рида, содержит
преимущественно старые, еще "вельветовские" песни.
Какое-то время выписывал "Тайме", уравновешивая ее "Морнинг стар".
<...> Он перешел на "Гардиан". - Упомянуты наиболее характерные
газетные полюса Британии: "Тайме" - оплот консерватизма, "Морнинг стар" -
орган английской компартии, "Гардиан" - самая известная центристская газета.
Гручо Маркс (Юлиус Генри Маркс, 1890 - 1977) - один из четырех братьев
Маркс, знаменитых комиков. Самые известные их фильмы: "Штучки" (1931),
"Вечер в опере" (1935), "День на бегах" (1937). В послевоенное время Гручо
вдобавок прославился как ведущий радиовикторины "На что спорим?", а потом ее
долгоживущей телеверсии.
Он покупал альбомы Clash, Sex Pistols и Damned... но больше слушал Jam,
Элвиса Костелло и Брюса Спритстина. - Кроме Спрингстина, все упомянутые
выпустили свои первые альбомы в 1977 г. и являлись типичными
представителями, соответственно, панка или "новой волны"; Спрингстин же
исполнял традиционный фолк-ритм-энд-блюз и дебютировал в 1973 г.
"Because the Night" (1978) - сингл Патти Смит; песня, написанная ею
совместно с Брюсом Спрингстином, включена в альбом того же года "Easter"; в
1993 г. кавер-версию исполняли 10, 000 Maniacs. "Shot by Both Sides" (1978)
- сингл группы Magazine; песня включена в их альбом того же года "Real
Life"; в 2002 г. кавер-версию исполняли Mansun, а в осеннем турне 2000 г. -
Radiohead.
...зто страна летучих мышей. - Фраза из третьей главы "Страха и
ненависти в Лас-Вегасе" (1972) американского писателя и журналиста Хантера
С. Томпсона (р. 1937); появление летучих мышей характеризует у него момент,
когда начинают действовать наркотики ("...и небо заполонили какие-то хряки,
похожие на огромных летучих мышей..." - это уже, правда, цитата не из
третьей главы, а из первой, из самого первого абзаца книги). В этом
документальном романе, публиковавшемся осенью 1971 г. в журнале "Роллинг
стоун" с иллюстрациями Ральфа Стедмана, Томпсон описывает, как на пару со
своим адвокатом-полинезийцем отправляется в Лас-Вегас освещать мотоциклетные
гонки по пустыне; они берут напрокат "кадиллак" с откидным верхом, загружают
машину диким количеством наркотиков и алкоголя, педаль в пол - и понеслось,
во всех смыслах. В 1998 г. Терри Гиллиам выпустил крайне любопытную
экранизацию, главные роли исполняли Джонни Депп и Бенисио дель Торо. Строго
говоря, "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" - так в русской версии назывался
именно фильм, а книга, выпущенная в переводе Алекса Керви под редакцией Ильи
Кормильцева, была названа "Страх и отвращение в Лас-Вегасе".
Подхвати меня лучом, Скотти ("Beam me up, Scotty") - распространенная
версия фразы из телесериала "Стар трек", на самом деле звучавшей:
"Подхватите нас лучом, мистер Скотт".
Лэрд - шотландский помещик, владелец наследственного имения.
"Can't Stand the Rezittos" (1978) - единственный альбом смешных
шотландских панков Rezillos (не считая концертника, вышедшего годом позже).
Питали пристрастие к фантастической тематике, на сцене часто одевались как
герои комиксов.
Жак Брель (1929-1978) - знаменитый французский шансонье; англоязычную
версию его песни "Амстердам" исполнил на альбоме каверов "Pin-ups" Дэвид
Боуи (1973).
Бесси Смит (1894-1937) - великая блюзовая певица; Дженис Джоплин (1943
- 1970) считала себя новым ее воплощением.
...Он же предпочитал Motels и Pretenders... - группы "новой волны" (в
случае Motels - с элементом фанка), дебютировали, соответственно, в 1979 и
1980 гг. Крисси Хайнд - вокалистка Pretenders, Марта Дэвис - вокалистка
Motels. "Total Control" - песня с первого альбома Motels, который так и
назывался - "The Motels".
"Warren Zevon" (1974) - второй альбом американского фолк-рокера Уоррена
Зевона, многими критиками считается одним из лучших альбомов 70-х. Зевон (р.
1947, в русско-еврейско-шотландско-валлийско-мормонской семье) продолжает
работать до сих пор, но известностью обладает скорее культовой, нежели
массовой, притом что на его альбомах эпизодически появляются такие звезды,
как Боб Дилан, Нил Янг, Брайан Зетцер и др.
Сент-Эндрюс-Хаус - здание Министерства по делам Шотландии в Эдинбурге.
Выстроено в 1939 г. Томасом Тейтом и является одним из самых ярких в
Шотландии образцов стиля арт-деко; стоит на государственном учете как
памятник архитектуры первой категории.
"The River". - Есть основания полагать, что имеется в виду песня Брюса
Спрингстина с одноименного альбома 1980 г.
Хериот-Уатт - один из крупнейших технологических университетов
Великобритании, находится в Эдинбурге. - Прим. пер.
Андреа купила... сиамских котят <...> "Мальчиков" она назвала
Франклином и Финеасом, а... кошечка получила имя Фредди-толстушка. "Будь
проклята ностальгия"... - Франклин (Freewheelin' Franklin), Финеас (Phineas
Phreak), Фредди-толстяк (Fat Freddy) и его кошка - персонажи андерграундного
комикса "The Fabulous Furry Freak Brothers" ("Легендарные пушистые
торчки-братаны") Гилберта Шелтона (р. 1940); "братья" возникли в 1968 г.,
первый сборник их похождений опубликован в 1971 г., тринадцатый - в 1997 г.
Оба партнера поддерживали социал-демократов, а у Альянса идея участия
рабочих в управлении производством была весьма в чести. - В марте 1981 г.
Либеральная партия Шотландии и социал-демократы сформировали альянс, а через
семь лет из альянса образовалась Либерал-демократическая партия Шотландии.
"Weaver's Answer" - первая песня со второго альбома английской
фолк-джаз-хард-рок-группы Family ("Entertainment", 1969), самая известная их
композиция. Под "ткачом" здесь имеется в виду Бог, и написана песня от лица
умирающего человека, который вспоминает всю свою жизнь как вытканный на
полотне узор.
Он давал деньги "Live Aid", но, услышав о выходе пластинки "Band Aid",
вспомнил старую революционную поговорку: заниматься благотворительностью при
капитализме - все равно что заклеивать лейкопластырем раковую опухоль. -
Началось все с документального фильма Майкла Берка о голоде в Эфиопии,
показанного по Би-би-си в октябре 1984 г. Через два месяца по инициативе
Боба Гелдофа (Boomtown Rats) и Миджа Ура (Ultravox) был выпущен сингл "Band
Aid" с песней Гелдофа и Ура "Do They Know It's Christmas? / Feed the World",
в записи которого принимали участие более сорока известнейших английских
музыкантов; полученные от его продажи деньги были направлены на закупку
продовольствия для Эфиопии (только в Англии разошлось более трех миллионов
экземпляров сингла). Аналогичная американская инициатива - сингл "USA for
Africa" с песней Майкла Джексона и Лайонела Ричи "We Are the World",
выпущенный в марте 1985 г. Тогда же родилась идея устроить для сбора средств
в помощь Эфиопии большой коллективный концерт. Названный "Live Aid", он
состоялся 13 июля 1985 г. одновременно в Англии и США (на лондонском
стадионе Уэмбли и на стадионе "Джей-Эф-Кей" в Филадельфии), длился 16 часов
(с полудня до четырех ночи), привлек множество самых популярных музыкантов и
собрал больше ста миллионов долларов. Что же касается "старой революционной
поговорки", дело в том, что "Band Aid" - это фирменное название
бактерицидного лейкопластыря; игра слов ("band" означает как ленту,
перевязку, так и музыкальную группу, оркестр) запрограммирована в названии
сингла совершенно сознательно.
Фэй Файф - вокалистка Rezillos (см. выше). "Айм фэй Файф" ("Ah'm fay
Fife") - искаженное, с утрированным шотландским акцентом, произношение фразы
"I'm from Fife" ("Я из Файфа").
..в университете, по Кестлеровскому завещанию, открыли новую кафедру -
парапсихологии... - Артур Кестлер (1905 - 1983) родился в Будапеште,
образование получил в Вене. Первые свои книги писал на венгерском, затем на
немецком, а с 1941 г. - на английском. 1926 - 1932 гг. провел в сионистском
поселении в Палестине; вернувшись в Европу, вступил в коммунистическую
партию и некоторое время жил в СССР. С началом гражданской войны в Испании
отправился туда корреспондентом и был арестован франкистами, однако
освобожден при обмене пленными; затем был интернирован в Париже, а после
побега в Англию снова интернирован. Из компартии вышел в 1938 г. Наиболее
известное свое произведение "Тьма в полдень" опубликовал в 1940 г. (русский
перевод 1988 г. назывался "Слепящая тьма"); в романе детально и убедительно
раскрывается психологический механизм поведения жертв московских "больших
процессов". В 2001 г. издательство "Евразия" выпустило перевод его книги
"Тринадцатое колено: Крушение империи хазар и ее наследие" (1976), где
Кестлер отстаивал тезис о том, что основную массу восточноевропейского
еврейства составила не палестинская диаспора, но хазарские мигранты. В 1983
г., больной лейкемией и паркинсонизмом, покончил жизнь самоубийством (вместе
с женой). С конца 50-х гг. увлекался мистикой, исследовал ее связь с наукой
и в книге "Корни совпадения" (1972) пытался выдвинуть квантово-механическое
обоснование феноменов сверхчувственного восприятия; завещал все свое
состояние на учреждение в Эдинбургском университете кафедры парапсихологии.
...вспомнили гипотезу морфологического резонанса... - Выдвинута
английским биологом Рупертом Шелдрейком (р. 1942) в книге "Новая наука
жизни" (1981) и сводится к следующему. Допустим, некто совершил прорыв
(скажем, научный) - так после этого остальным исследователям, никак не
связанным с первооткрывателем, будет легче добиться того же. Происходит это
благодаря так называемому "морфологическому полю" и якобы носит всеобщий
характер, является одним из движущих механизмов эволюции. Полная, словом,
чушь.
...теории фон Деникена. - Эрих фон Деникен (р. 1935) - швейцарский
писатель, наиболее известный в шестидесятые годы апологет теории
палеоконтакта. В книгах "Воспоминание о будущем", "Колесницы богов" (1968) и
других утверждал, будто гигантские рисунки в пустыне Наска, фрески в пещерах
Тассили, японские статуэтки догу, циклопические сооружения наподобие
Баальбекской террасы и т.д., и т.п. свидетельствуют о посещении Земли в
далеком прошлом космическими пришельцами; аналогичные свидетельства он
пытался отыскивать в древних мифах и эпосах.
...как это в духе "Страха и ненависти"-, очень по
хантер-эс-томпсоновски. ...от этой чертовой книги ты потом всегда ездишь
чуть быстрее. Сам же виноват, несколько минут назад слушал "White Rabbit" -
вот музыкой и навеяло. - О книге Хантера С.Томпсона см. выше. Скорость у
него действительно превышают сплошь и рядом. И "джефферсоновский" "Белый
кролик" (см. прим. к стр. 153) тоже фигурирует, причем это один из самых
ярких моментов как книги, так и фильма: адвокат-полинезиец сидит,
удолбанный, в ванне и просит Джонни Деппа / Рауля Дьюка / Хантера С.
Томпсона сбросить в воду магнитофон, исторгающий на полной громкости
"Surrealistic Pillow", - причем сбросить ровно в тот момент, когда отзвучат
последние такты "White Rabbit". Впрочем, все отделались легким испугом.
...не думать о "Красных акулах" и "Белых китах"... - "Красной акулой" и
"Белым китом" (Мелвилл ни при чем) были окрещены взятые напрокат "кадиллаки"
все у того же Хантера С. Томпсона, соответственно, в первой и во второй
частях книги.
...тетушку Джоани. - Речь идет о знаменитой американской фолк-певице
шотландско-мексиканского происхождения Джоан Баэз (р. 1941), прозванной
"королевой фолк-музыки".
...он слушал Big Country, альбом "Steeltown" - на родине Карнеги это
казалось вполне уместным. - Речь о втором альбоме (1984) этой шотландской (а
именно данфермлинской) группы, исполнявшей постпанк с доминирующим
фолк-колоритом; в октябре 1988 г. они дали концерт в Москве, и это было
первое в СССР выступление подобного рода, организованное не Госконцертом, а,
можно сказать, в частном порядке (продюсерским центром Стаса Намина).
Карнеги, Эндрю (1835 - 1919) - американский сталелитейный магнат
шотландского (а именно данфермлинского) происхождения, также знаменитый
своей филантропической деятельностью.
Как насчет "Bridge Over Troubled Water"? <...> ...есть Los Lobos
("How Will the Wolf Survive?"-) <...> Ладно, пусть будут Pogues, "Rum,
Sodomy and the Lash". - "Bridge Over Troubled Water" - суперхит Саймона и
Гарфанкела, первая песня на одноименном альбоме 1970 г. (их последнем
альбоме). Los Lobos - группа лос-анджелесских мексиканцев, начинали в конце
60-х с ритм-энд-блюза, потом переключились на свое, народное, к началу 80-х
достигли синтеза и были приняты "на ура" в панк-среде; "How Will the Wolf
Survive?" (1984) - их первый альбом на мейджор-лейбле. Впоследствии
неоднократно получали "грэмми" как за испано-, так и за англоязычный
материал; участвовали в саунд-треках к фильмам Роберта Родригеса "Десперадо"
(1995) и "От заката до рассвета" (1996). Pogues - ирландская
фолк-панк-группа; строго говоря, по музыке это просто ирландский фолк, от
панка здесь только эпатажные тексты Шейна Макгоуэна и энергичная подача
(хотя ирландскому фолку и в чистом виде энергии не занимать). "Rum, Sodomy
and the Lash" - (1985) - их второй альбом и один из лучших.
"VAT 69" - шотландское марочное виски. Название в переводе означает
"69-й чан", его история такова: в 1860-х гг. Уильям Сандерсон купажировал
100 разновидностей виски, разлил по чанам, созвал друзей и устроил
дегустацию; победил купаж в 69-м чане - с того и повелось.
Если я туда вернусь и обнаружу старика, похожего на меня... надо
будет... подать жалобу. <...> Я не нахожу загримированного Кира
Даллеа. - Кир Даллеа (р. 1936) - американский актер, прославившийся ролью
астронавта Дейва Боумена в кларковско-кубриковской "Космической одиссее 2001
года" (1968). Речь идет о самой концовке, когда путешествие через
космическо-психоделические бездны завершается в гостиничном номере и Боумен
видит себя состарившимся и ложится спать.
Айерс-рок - австралийская столовидная скала аркозового песчаника;
высота 335 м, овальное основание 2 км на 3, 6 км. В зависимости от высоты
солнца, песчаник меняет цвет и наиболее красив на закате, когда выглядит
багрово-оранжевым.
Мачу-Пикчу - город-крепость древних инков, один из немногих центров
доколумбовой цивилизации Америки, дошедших до наших дней фактически в
неприкосновенности; открыт в 1911 г. Хирамом Бинге-мом из Йельского
университета. Расположен в Андах, в 80 км к северо-западу от перуанского
города Куско.
...пирокластические зрелища... - Пирокластической называется
геологическая порода, сложенная преимущественно из вулканических обломков
(агломерат, туф). То есть под пирокластическим зрелищем следует понимать
извержение вулкана.
Азания - название, данное арабскими торговцами в конце I тысячелетия н.
э. южной части восточного побережья Африки.
А на другой сторонке Eurythmics... Малютка Энни с тетушкой Аретой
наяривают. <...> Поет "Better To Have Lost In Love (Than Never To Have
Loved At Alb). - Совместно с Eurythmics знаменитая соул-певица Арета
Франклин исполняла песню "Sisters Are Doing It For Themselves" на их альбоме
"Be Yourself Tonight" (1985), соответствующий сингл вышел в октябре того же
года; а песня "Better To Have Lost In Love (Than Never To Have Loved At
All)" завершала альбом.
Кончена забава (спасибочки, Билл) - ср.:
...Кончена забава.
Актеры наши, как сказал уж я,
Все были духи. В воздухе прозрачном
Рассеялись, растаяли они.
Вот так когда-нибудь растают башни,
Макушкой достающие до туч,
И богатейшие дворцы, и храмы
Величественные - весь шар земной
И жители его, все, все растает.
Рассеется бесследно, как туман,
Как это наше пышное виденье.
Из той же мы материи, что сны.
Сны - завершенье куцей жизни нашей...
(У. Шекспир. "Буря". Пер. О. Сороки)
Процедура завершена (и тебе, Мак). - Слова "Процедура завершена"
произнес 2 сентября 1945 г. на линкоре "Миссури" генерал Дуглас Макартур,
выйдя к журналистам после подписания Японией капитуляции; можно сказать, что
этим была поставлена точка во Второй мировой войне.
Браммер пробуждается. - Под названием "Браммер" существует несколько
американских компаний, обслуживающих нефтегазовый комплекс.
Брахма пробуждается. - Брахма - верховное божество в индуистской
мифологии, творец мира, открывающий триаду верховных богов.
Рассматриваю, и чем-то он мне не нравится. Голова кружится, и комната
будто бы накренилась, словно я все еще в ветхой L-образной кабине лифта
рядом со стариком в ливрее, который совершает очередной опасный, не
предусмотренный инструкциями маневр. Мысли на миг расплываются и
смешиваются, как те дымные сигналы загадочных самолетов (и, обморочно
пошатываясь, я сам на мгновение кажусь себе чем-то дымным и бесформенным,
хаотичным и зыбким, как туманы, что клубятся у верхних ярусов
моста-исполина, покрывая влагой, точно потом, слои старой краски на его
фермах и балках).
Из этого странного ступора меня выдергивает звонок телефона. Я поднимаю
трубку, но слышу только знакомые регулярные гудки.
- Алло? Алло?
В ответ - гудки. Опускаю трубку. Телефон звонит снова, и все
повторяется. На сей раз я кладу трубку рядом с аппаратом и накрываю
подушкой. Включать телевизор даже не пытаюсь, знаю, что я там увижу.
Уже идя к кровати, замечаю, что все еще держу клочок бумаги. Я бросаю
его в мусорное ведро.
За моей спиной лежит пустыня, впереди - море. Пустыня - золотая, море -
синее; они встречаются, как соперничающие времена. Море живет в настоящем,
оно сверкает барашками, вздымается белыми валами, и ухает вниз, и бьется в
песчаный берег, и его прилив - как дыхание... Пустыня движется медленно, но
верно, ее высокие рассыпчатые волны ползут по безжизненной земле под
гребенкой невидимого ветра.
Меж пустыней и морем, утонув наполовину и в той, и в другом, лежит
древний город.
Он изъеден ветром, песком и водой. Подобно зернышку, он угодил меж
крутящимися мельничными жерновами - каменные строения не устояли перед
разрушительной силой ветра.
Я был один, я бродил в полуденной жаре, белым призраком витал между
грудами обломков. Тени своей я не видел, она тянулась назад от ног.
Темные с розовым оттенком камни лежали кругом в полнейшем беспорядке.
Сгинуло большинство улиц, их давным-давно погребли крадущиеся пески. Склоны
барханов были испещрены ветхими арками, вывалившимися перемычками, кусками
поверженных стен. У бахромчатой кромки берега разрозненные останцы каменной
кладки противостояли набегам волн. Чуть дальше из моря выступали
накренившиеся башни и фрагмент арки, словно кости давно утонувшего чудовища.
Над пустыми дверными проемами и забитыми песком окнами я видел резные
фризы. Я рассматривал удивительные полусточенные фигурки и символы и пытался
разгадать их смысл. Несомый ветром песок истончил иные стены и балки до
ширины вытесанных на них знаков; сквозь кроваво-алый камень просвечивало
голубое небо.
- А ведь мне знакомо это место, - ни к кому не обращаясь, проговорил я.
- Я вас знаю, - сказал я безмолвным развалинам.
В стороне от городища стояла исполинская статуя. Изваяние с могучим
торсом и мужской головой, высотой в три-четыре человеческих роста,
располагалось между пеной прибоя и кромкой молчаливых руин. В незапамятные
времена у него отвалились или были отбиты руки. Ветер и песок чуть ли не до
блеска отшлифовали сколы на культях. Одна сторона массивного туловища и
головы накопила следы бесчинств ветра, но другая половина осталась
узнаваемой: большой обнаженный живот, на груди - всевозможные украшения, в
том числе ожерелья толщиной с манильский канат. На широкой плеши - корона,
ухо оттянуто тяжелыми кольцами, в носу тоже кольцо. Как и смысла резных
символов, я не смог разгадать выражения изъязвленного временем лика: то ли
жестокость, то ли горечь, то ли равнодушие очерствелой души ко всему кроме
песка и ветра.
Я поймал себя на том, что шепчу, глядя в выпученные каменные глаза:
- Мох? Мокко?
Но от великана - никакого содействия. Имена тоже ветшают, хоть и
медленно. Сначала искажаются, потом сокращаются, наконец забываются.
На пляже перед городом, в некотором отдалении от каменного истукана, я
заметил человека. Он был низок, хром и горбат, он стоял по колено в
прибойной пене, омывавшей его темные лохмотья, бил по воде тяжелой цепью и
громко проклинал все и вся.
Тяжелый горб клонил его голову книзу, грязные патлы тугими жгутами
свисали до самой воды; иногда словно седой волос выбивался из этой темной
гущи - длинная струя слюны падала на воду и уплывала прочь.
Всякий раз, когда он вскидывал и резко опуская правую руку, на море
обрушивалась цепь - дюжина тронутых ржавчиной, но поблескивающих тяжелых
чугунных звеньев на гладкой деревянной рукояти. Вокруг под размеренными и
непрекращающимися ударами пенилась и пузырилась вода и темнела от поднятого
со дна песка.
Горбун по-крабьи сместился на шаг в сторону, вытер рукавом рот и
возобновил порку. Он непрерывно бормотал, пока взлетала и падала, поднимая
брызги, тяжелая цепь. Я долго стоял за его спиной на берегу и наблюдал. Вот
он снова прервал экзекуцию, вытер лицо и сделал еще шаг в сторону. Ветер
взметнул изорванные одежды, подкинул засаленные космы. Эти же порывы трепали
и мой ветхий наряд. Должно быть, горбун уловил в шуме прибоя посторонний
звук, так как он не возвратился к своему занятию. Голова чуть повернулась,
словно он напрягал слух. Казалось, он силится выпрямить увечную спину... а
потом сдался. Мелкими, шаркающими шажками, будто стреноженный, он медленно
повернулся кругом. И вот мы стоим лицом к лицу. Он постепенно поднял голову
и замер, когда наши глаза встретились. Волны плескали в его колени, цепь,
чью рукоять сжимали узловатые пальцы, покачивалась в воде.
Его физиономия почти целиком скрывалась под спутанными волосами,
выражения было не разобрать. Я ждал, когда он заговорит, но он терпеливо
безмолвствовал, и наконец я произнес:
- Извините... Продолжайте, пожалуйста.
Он долго молчал, ничем не выдавая, что услышал мои слова. Словно нас
разделяла некая среда, гораздо медленнее пропускавшая звуки, чем это делает
воздух. Наконец коротышка ответил удивительно вежливым голосом:
- Понимаете, это моя работа. Меня специально наняли.
- Ну конечно же, понимаю, - кивнул я, ожидая дальнейших объяснений.
Опять показалось, что мои слова дошли до него с большим запозданием. Он
очень неуклюже пожал плечами:
- Видите ли, однажды великий император... - Тут его голос на добрую
минуту затих. Я ждал. Он задумчиво покачал головой и шаркающе развернулся к
изрезанному волнами синему горизонту. Я громко позвал, но если он и услышал,
то не подал виду.
Бранясь и бормоча, спокойно и монотонно он снова принялся рассекать
цепью волны.
Я еще немного понаблюдал за тем, как он бичует море, потом повернулся и
зашагал прочь. Не замеченный мной раньше чугунный браслет, словно наручник
беглого арестанта, тихо и ритмично позвякивал на моем запястье, когда я
возвращался к развалинам.
В самом ли деле мне это приснилось? Разрушенный город у моря, человек с
цепью?.. Несколько мгновений пребываю в замешательстве: может, это просто я
накануне вечером лежал не смыкая глаз и пытался придумать для врача
правдоподобный сон?
Нежась в темноте на широкой теплой постели, я даже испытываю
облегчение. Я даже тихо смеюсь, крайне довольный собой, - ведь я в конце
концов дождался сна, который можно пересказать доброму доктору с чистой
совестью. Я встаю и надеваю халат. В квартире холодно, серая заря едва
просвечивает через высокие окна; робкий, медленно пульсирующий свет исходит
из-за моря, из-за длинного вала темной тучи, как будто туча - это суша, а
заря - медленно мигающий в гавани буй.
Где-то бьет колокол, где-то очень далеко, и вслед раздается другой
звон, потише, и так пять раз. Уже пять утра. Далеко внизу локомотив со
свистом выпускает пар. Едва различимый ухом, скорее осязаемый, рокот говорит
мне о прохождении груженого товарняка.
Я выхожу в гостиную и вижу неподвижную серую картину: человек на
больничной койке. Прихотливо расставленные по комнате бронзовые статуэтки
рабочих-мостовиков отражают своими неровными поверхностями бледный
монохромный свет. Внезапно в кадр молча входит женщина, медсестра, и
приближается к койке. Ее лица я не вижу. Похоже, она зашла проверить
температуру больного.
Никаких звуков, кроме далекого шипения. Медсестра обходит вокруг
кровати, ступая по блестящему полу: проверяет аппаратуру. И снова исчезает,
уйдя из-под объектива камеры, но тут же возвращается с небольшим
металлическим подносом. Она берет с подноса шприц, наполняет его какой-то
жидкостью из пузырька, переворачивает иглой вверх, протирает ваткой руку
больного и делает укол. Втягиваю воздух сквозь зубы - я всегда (точно в этом
уверен) боялся уколов.
Картинка слишком мутная, не рассмотреть, как сталь входит под кожу, но
воображение рисует косой срез иглы, изжелта-бледную дряблую кожу... Я
сочувственно морщусь и выключаю телевизор.
Я поднимаю подушку с телефона. По-прежнему - короткие гудки, разве что,
может, почаще прежних. Я кладу трубку на рычаг. Тотчас аппарат разражается
звоном. Снимаю трубку и вместо гудков слышу:
- Ага, Орр! Наконец-то. Ведь это ты?
- Да, Брук, это я.
- И где же пропадал? - Язык у него запинается.
- Спал.
- Где, где? Пардон, этот шум...
На заднем плане в трубке слышится какая-то болтовня.
- Нигде я не пропадал. Я спал. Или, точнее, я...
- Спал? - громко перебивает Брук. - Ну нет, Орр, так не пойдет! Не
пойдет, и все тут! Сейчас же дуй к нам, в "Дисси Питтон", мы для тебя
бутылочку сберегли...
- Брук! Ночь на дворе!
- Да иди ты! Не может быть! Я ведь только что сюда пришел.
- Уже светает.
- Да ты что? - В трубке замирает изумленный голос Брука. Затем я слышу,
как он что-то выкрикивает, и раздается громкий недружный смех. - Орр, давай
к нам, и побыстрее. Садись на первый поезд, или что там уже ходит. Мы ждем.
- Брук...
Но Брук снова говорит не в трубку, а еще слышны далекие крики.
- Кстати! - произносит он. - Шляпу захвати. Понял? Ты должен быть в...
- Новые вопли на заднем плане. - Да, пусть будет широкополая. У тебя
найдется широкополая шляпа?
- Но при чем...
Меня перебивают крики. Брук уже орет в трубку:
- Да, широкополая! Если нет широкополой, то никакой не надо. Так как,
есть у тебя широкополая?
- Наверное, - отвечаю и спохватываюсь, что этим признанием я вынуждаю
себя ехать.
- Отлично, - говорит Брук. - До скорой встречи. Шляпу не забудь.
Он кладет трубку на рычаг. Я поступаю так же, снова поднимаю трубку и
слышу ритмичные гудки. Я гляжу в окно на медленно мигающий свет над облачным
валом, пожимаю плечами и иду в гардеробную.
Бар "Дисси Питтон" занимает не пользующиеся особым спросом помещения в
считаных ярусах над железной дорогой. Это несколько залов, асимметрично
расположенных друг над другом. Непосредственно под нижним баром находятся
канатные мастерские, там в длинных узких ангарах плетут веревки и тросы.
Вполне естественно, что и "Дисси Питтон" - это царство веревок и тросов. Вся
мебель там не стоит на полу, а подвешена к потолку. В "Дисси Питтоне" даже
мебель на ногах не держится, как заметил Брук в один из тех редких моментов,
когда в нем просыпается чувство юмора.
Швейцар спит стоя, привалившись к стене, сложив руки на груди и свесив
голову. Козырек фуражки защищает его глаза от мерцающей над дверью неоновой
вывески. Я вхожу и поднимаюсь по лестнице через два темных безлюдных этажа.
Шум и свет указывают мне путь туда, где вечеринка в самом разгаре.
- Орр! Ты-то нам и нужен!
Из людской сутолоки, из качающегося нагромождения столов, стульев,
кушеток и ширм появляется нетвердо держащийся на ногах Брук. Он подходит ко
мне, перешагнув через какого-то сморенного сном посетителя. В "Дисси
Питтоне" мертвецки пьяные редко задерживаются под одним столом, обычно они
успокаиваются в каком-нибудь дальнем уголке бара; кажущийся беспредельным
тиковый пол соблазняет их ползти и ползти на четвереньках. А может, их
толкает глубоко укоренившийся инстинкт инфантильной любознательности. Или
дело в том, что они вживаются в образ улитки?
- Вот молодец, что пришел, - говорит Брук, подавая мне руку. Он глядит
на широкополую шляпу, которую я прихватил с собой. - Шикарная шляпа. - Он
ведет меня к дальнему столу.
- Угу. - Я отдаю ему шляпу. - Кому она понадобилась? И что тут
затевается?
- Да что ты говоришь. - Он останавливается, вертит шляпу в руках.
Заинтригованно изучает подкладку, словно рассчитывая найти там подсказку.
- Помнишь, ты просил широкополую шляпу? - говорю. - Хотел, чтобы я ее
сюда принес.
- Хм... - говорит Брук и ведет меня к столу, за которым сгрудились
четверо или пятеро. Я узнаю Бейкера и Фаулера, это инженеры, приятели Брука.
Они снова и снова пытаются встать. Брук все еще озадачен. Пристально глядит
на шляпу.
- Брук, - с трудом сдерживаю раздражение, - ты потребовал, чтобы я
принес эту проклятую шляпу, и было это совсем недавно, еще и получаса не
прошло. Да не мог ты забыть, черт бы тебя побрал!
- А ты уверен, что это нынче было? - скептически вопрошает Брук.
- Ты звонил, Брук! И пригласил меня сюда, и...
- Постой-ка! - Брук рыгает и тут же тянется за бутылкой. - Хлопни-ка
винца, и мы это дело обмозгуем. - Он сует мне в руки стакан. - Ты ж опоздал
- изволь наверстывать.
- Боюсь, за тобой мне уже никак не угнаться.
- Орр, да ты, кажется, расстроен чем-то. - Брук наполняет вином мой
стакан.
- Трезв как стекло. Просто симптомы очень похожи.
- Нет, ты расстроен.
- Ничего подобного.
- И чем же ты так расстроен?
С чего это у меня сложилось впечатление, что Брук почти не слушает? И
ведь такое уже далеко не в первый раз. Иногда разговариваешь с человеком, и
вдруг его охватывает какая-то рассеянность. Как будто не лицо у него вовсе,
а маска, к изнанке которой он обычно прижимается, словно ребенок носом к
витрине кондитерской. Но когда я с ним разговариваю, пытаюсь обсудить
сложный или неинтересный для него вопрос, собеседник отдаляет свое
внутреннее "я" от маски и задумывается о чем-нибудь своем. Если
воспользоваться аналогией, он снимает ботинки, закидывает ноги на стол, пьет
кофе и расслабляется. А потом, набравшись сил и бодрости, неодобрительно
кивает и отпускает совершенно неуместное замечание - отголосок его
застарелых мыслей. Возможно, дело здесь во мне. Возможно, только я оказываю
на людей такой эффект и никто другой на это не способен.
Впрочем, наверное, такая мнительность больше пристала параноику, и,
если я отважусь вынести на обсуждение эту тему, сразу выяснится, что вовсе
никакой я не феномен, а чуть ли не самое рядовое явление. ("Ага, я тоже за
собой такое замечал!", "И со мной бывало!", "А ведь думал, что я один
такой!")
Между тем инженерам Бейкеру и Фаулеру удается наконец встать и надеть
пальто. Брук что-то серьезно втолковывает Фаулеру, тот выглядит озадаченным.
Затем его лицо проясняется. Он возбужденно отвечает, Брук кивает и
возвращается ко мне.
- Буч! - торжественно изрекает он и снимает со спинки дивана свое
пальто.
- Что? - переспрашиваю.
- Томми Буч, - надевает пальто Брук. - Это ему понадобилась шляпа.
- Зачем?
- Понятия не имею.
- Ну и где же он? - оглядываю бар.
- Вышел недавно, - застегивает пальто Брук. Позади него пошатываются
Фаулер и Бейкер, ждут.
- Вы что, уходите? - задаю совершенно риторический вопрос.
- Долг зовет! - Брук берет меня за руку, склоняется к уху и громко
шепчет: - Срочная работенка у миссис Ганновер.
- У миссис... - Я не договариваю - вспомнил. У миссис Ганновер лицензия
на содержание борделя. Мне известно, что Брук со товарищи давно протоптали
туда дорожку; как я слышал, в этом злачном местечке развлекаются главным
образом инженеры. И тут в голову навязчиво лезет целый сонм не слишком
тонких аллюзий.
Меня к миссис Ганновер еще не приглашали, к тому же я сам дал понять,
что не стремлюсь туда попасть. Сие целомудрие проистекает не из моральных
соображений, а из пустого тщеславия, уверил я Брука. Но он, похоже, с тех
пор подозревает, что за всеми моими разглагольствованиями о сексе, политике
и религии прячется ханжество.
- Как насчет с нами за компанию? - спрашивает Брук.
- Спасибо, нет.
- Хм... Я и не сомневался, - кивает Брук. Снова берет меня за руку,
снова чуть наклоняется и шепчет на ухо: - Послушай, Орр, мне не очень удобно
просить...
- О чем? - Я смотрю, как инженер Фаулер разговаривает с длинноволосым
молодым человеком, который сидит за соседним столиком в тени. Второй молодой
человек, напротив него, уснул, уронив голову на стол.
- Это дочка Эррола, - кивает на них Брук.
- Кто?
- Дочка главного инженера Эррола, - шепчет Брук. - Она тут как бы с
нами, да только братец ее, видишь, наклюкался и задрых. И если мы сейчас
отсюда смоемся, некому будет... Слушай, а ты не можешь с нею... ну посидеть,
поговорить, что ли? А?
- Брук, - отвечаю ледяным тоном, - сначала ты мне звонишь в пять утра,
потом...
Я не договариваю. При поддержке Фаулера, выражающего всем своим видом
нетерпение, Бейкер по синусоиде подходит к Бруку и говорит:
- Брук, может, пойдем, а? Чего-то мне нехорошо...
Инженер Бейкер замолкает - у него явные позывы на рвоту. Раздуваются
щеки, он судорожно сглатывает, потом с гримасой на лице кивает на ступеньки,
что ведут на этаж ниже.
- Орр, нам пора, - торопливо произносит Брук, подхватывая Бейкера под
руку, в то время как Фаулер подхватывает под другую. - До скорого. И заранее
спасибо, что за девочкой приглядишь. Извини, но знакомиться самому придется.
Вся троица плетется враскачку мимо меня. Брук сует мне в руки
широкополую шляпу. Фаулер тащит к лестнице Бейкера, Брук волочится в
кильватере.
- Увижу Томми Буча, спрошу про шляпу, - выкрикивает Брук.
Они неуклюже пробираются среди мебели и других посетителей к лестнице.
Я оборачиваюсь к молодому человеку, с которым только что разговаривал
Фаулер. Юноша поднимает припухшие от недосыпа глаза и улыбается мне.
Я ошибся. Это не юноша, а девушка. На ней широкие темные брюки и пиджак
оригинального фасона, парчовый жилет с чересчур, пожалуй, массивной золотой
цепочкой поперек живота, белая хлопковая рубашка. Ворот рубашки расстегнут,
с него свисают незавязанные концы черного галстука-бабочки. Туфли тоже
черные. Волосы у незнакомки темные, до плеч. Она сидит в кресле наискось,
подобрав ногу под себя. Приподнимает круто изогнутую черную бровь. Я
прослеживаю за взглядом девушки до треножника из инженеров, который
драматически прокладывает себе путь к лестнице.
- Как считаете, получится у них? - Она слегка наклоняет голову вбок,
подпирает кулачком затылок.
- Пожалуй, много бы я на них не поставил.
Она задумчиво кивает и подносит к губам высокий стакан. Глотнув,
произносит:
- Пожалуй, я тоже. Прошу прощения, я ведь не знаю вашего имени.
- Меня зовут Джон Орр.
- Эбберлайн Эррол.
- Как поживаете?
Вопрос кажется Эбберлайн Эррол смешным.
- Как хочу, так и поживаю, мистер Орр. А вы?
- Вы, наверное, дочь главного инженера Эррола? - в тон ей отвечаю я и
кладу шляпу на край дивана. Если мне повезет, ее кто-нибудь стибрит.
- Не наверное, а точно, - отвечает она. - А вы, мистер Орр, кто по роду
занятий? Инженер? - Она указывает длинной, без единого кольца или перстня,
кистью на местечко рядом с собой.
Я снимаю пальто, присаживаюсь.
- Нет, я пациент доктора Джойса.
- Ах вот оно что... - медленно кивает она и глядит на меня в упор, что
не очень-то распространено в здешнем быту. Глядит, словно на какой-то
мудреный механизм, в котором пришла в негодность важная деталь. Лицо у нее
молодое, но с мягким, добрым выражением, какое бывает у пожилых женщин;
морщин не видно. Глаза маленькие, кожа туго обтягивает скулы и лобную кость.
У нее широкий улыбчивый рот, но взгляд мой притягивается не к нему, а к
крошечным складочкам кожи под серыми глазами. Складочки эти делают ее взор
всепонимающим и насмешливым.
- И что же с вами не так, мистер Орр? Ее взгляд опускается на мое
запястье, но медицинский браслет спрятан под обшлагом.
- Амнезия.
- В самом деле? И давно? - Она не тратит времени на паузы.
- Уже около восьми месяцев. Меня... выловили какие-то рыбаки.
- Да? Кажется, я что-то читала об этом. Вас выудили из моря, как рыбку.
- Да, так мне сказали. А как оно было на самом деле, не помню. Я многое
забыл.
- И что, до сих пор не выяснилось, кто вы?
- Нет. По крайней мере, никто из моих родственников или знакомых пока
не объявился. И приметы мои ни с кем из объявленных в розыск не совпадают.
- Хм... Как это, наверное, странно. - Она касается губ пальцем. - Я
представляла, что это так интересно и... - пожимает она плечами, -
романтично - потерять память. Но, наверное, это жутко утомительно...
У нее довольно изящные, очень темные брови.
- Самое утомительное, но и самое интересное - это лечение. Мой врач
верит в толкование снов.
- А вы?
- Пока нет.
- Поверите, если поможет, - кивает она.
- Возможно...
- Но что, - поднимает она палец, - что если вам придется поверить еще
до того, как оно поможет?
- Не уверен, что это согласуется с научными принципами моего
замечательного врача.
- Так ведь если поможет, то какая разница, что там с чем не
согласуется?
- Но ведь если верить без причины в процесс, можно дойти до того, что
поверишь без причины в результат.
Мои слова заставляют ее умолкнуть, но ненадолго.
- То есть можно поверить в то, что вас вылечили, хотя на самом деле
этого не произошло. Но ведь это же элементарно проверяется: либо к вам
вернулась память, либо нет.
- Ну а представим, что я возьму да придумаю все.
- Собственное прошлое придумаете? - говорит она скептически.
- Некоторые люди все время так поступают. - Кажется, я ее поддразниваю,
но, произнеся эти слова, невольно задумываюсь над ними.
- Да, но только для того, чтобы обманывать других. Они же наверняка
сами знают, что лгут.
- Не думаю, что все так просто. Мне кажется, легче всего обмануть
самого себя. Возможно, себя обманывать - это необходимое условие для того,
чтобы обманывать других.
- О нет, - категорически возражает она. - Хорошему лжецу необходима
отличная память. Чтобы других водить за нос, надо быть умнее их.
- По-вашему, никто и никогда не верил в собственные выдумки?
- Ну, может, верило несколько пациентов психбольниц, но больше - никто.
Знаете, по-моему, большинство якобы чокнутых, которые выдают себя за других,
на самом деле просто разыгрывают больничный персонал.
Какая категоричность! Кажется, я и сам когда-то был столь же резок в
суждениях, хоть и не помню, где, когда и по какому поводу.
- Вы, очевидно, думаете, что врачей очень легко дурачить, - говорю.
Она улыбается. У нее безупречные зубы. Я ловлю себя на том, что пытаюсь
оценить, охарактеризовать эту женщину. Она увлекает не завлекая, поглощает
не заглатывая. Но, возможно, с тем же результатом.
Эбберлайн Эррол кивает:
- Вероятно, легко дурачить тех, кто пытается лечить мозги как мускулы.
Скорее всего, таким врачам просто в голову не приходит, что пациенты
способны намеренно вводить их в заблуждение.
Вот с этим я бы поспорил. К примеру, доктор Джойс считает делом
профессиональной чести не верить до конца всему, что рассказывают пациенты.
- А мне кажется, - говорю, - что хороший психиатр всегда разоблачит
пациента-шарлатана. Большинству просто не хватает воображения, чтобы как
следует вжиться в роль.
У нее изгибаются брови.
- Возможно, - произносит она, пристально-невидяще глядя мимо меня. - А
знаете, мне сейчас детство вспомнилось, когда мы...
В этот момент спавший напротив нее, положив руки на стол, а голову на
руки, молодой человек приподнимается, откидывается на спинку стула и зевает
и обводит бар мутным взором. Эбберлайн Эррол оборачивается к нему.
- А, проснулся, - говорит она этому костлявому парню с длинным носом и
близко посаженными глазами. - Собрал наконец кворум нейронов?
- Да ладно, Эбби, завязывай стебаться. - Взглядом он добавляет в мой
адрес: "А ты не пошел бы на...?" - Лучше добудь водички.
- Милый братец, хоть ты и скотина, но я-то не скотница! - отбривает
она.
Он тупо рассматривает стол, весь в грязных тарелках и пустых стаканах.
Эбберлайн Эррол глядит на меня:
- Вы-то, конечно, не помните, есть у вас братья или нет?
- Увы и ах.
- Хм... - Она встает и идет к стойке бара.
Парень закрывает глаза и наклоняет стул назад, заставляя его
покачиваться на двух ножках. Бар пустеет. Кое-где из-под столов торчат
ботинки, свидетельствуя, что алкогольные экскурсы их владельцев в давнюю
эпоху четырехногого передвижения пришли к ступорному финишу. Эбберлайн Эррол
возвращается с кувшином воды, останавливается возле брата и плещет водой ему
на лоб.
Молодой человек падает на пол, ругается, кое-как встает. Она вручает
ему кувшин. Он пьет. Она наблюдает за этим со смесью веселья и презрения на
лице. Все это время она курит длинную тонкую сигару.
- Мистер Орр, а вы вчера видели пресловутые самолеты? - спрашивает мисс
Эррол, глядя не на меня, а на брата.
- Да. А вы?
Она отрицательно качает головой и пускает дым.
- Нет. Мне рассказывали, но я сначала решила, что это розыгрыш.
- А мне они показались вполне настоящими.
Ее брат опустошает и театральным жестом бросает себе за спину кувшин.
Он разбивается о столик где-то в сумраке. Эбберлайн Эррол укоризненно качает
головой. Молодой человек зевает:
- Устал. Пошли отсюда. А где папаша?
- В клуб ушел. Причем уже давно. Может, он уже дома.
- Ну и ладно. Пошли. - Он встает и направляется к лестнице.
Мисс Эррол глядит на меня и пожимает плечами:
- Извините, мистер Орр, но мне пора.
- Ничего, все в порядке.
- Было приятно с вами поговорить.
- Уверяю вас, это взаимно.
Она оглядывается на брата. Тот стоит на лестничной площадке руки в
боки, ждет.
- Ну что ж, - смотрит она на меня, - может, у нас еще будет возможность
продолжить беседу.
- Искренне на это надеюсь.
Она все же не спешит уходить. Она стройна, немного взъерошена, курит
сигару. Она сгибается в глубоком ироничном поклоне, растопырив руки,
пятится. По ее следу клубится серый дым.
Посетители разошлись. В баре "Дисси Питтон" остался в основном
персонал. Эти люди гасят лампы, вытирают столы, подметают пол, достают
из-под столов бесчувственные тела. Я сижу и допиваю вино. Оно теплое,
терпкое, но я ужасно не люблю оставлять недопитые стаканы.
Наконец я встаю и узким коридором из последних непогашенных ламп иду к
лестнице.
- Сэр!
Я оборачиваюсь: только что махавший шваброй бармен протягивает ко мне
руку. В ней - широкополая шляпа.
- Это ваше. - Он даже встряхивает шляпу, чтобы я не перепутал ее со
шваброй.
Я беру ее, заразу. Нисколько не сомневаюсь, что если бы дорожил ей как
зеницей ока, следил за ней денно и нощно и боялся оставить ее в этом баре,
то ее бы уже давно и след простыл.
В дверях швейцар больше не дремлет. Он прислонил Томми Буча к стене и
пытается установить его личность и место жительства. Похоже, инженер Буч не
в состоянии издавать какие бы то ни было внятные звуки. Его лицо приобрело
ярко выраженный зеленый оттенок, и швейцару совсем нелегко удерживать моего
знакомого в вертикальной позе.
- Сэр, вы знаете этого джентльмена? - спрашивает швейцар.
Я отрицательно качаю головой:
- Впервые вижу. - Сую шляпу между рук швейцара. - Но это - его, он
забыл в баре.
- Спасибо, сэр. - Швейцар подносит шляпу к лицу инженера, чтобы тот ее
разглядел (или чтобы ее разглядели они оба). - Сэр, смотрите, ваша шляпа.
- Блгдр-рю... - удается выговорить инженеру Бучу, прежде чем содержимое
его желудка откочевывает в перевернутый головной убор. Хорошо, что у шляпы
широкие поля - удивительно мало брызг пролетает мимо цели.
Я ухожу, охваченный странным ликованием. Неужели Буч получил именно то,
что заказывал?
- Отсутствует?
- О, мистер Орр, поверьте, я вам совершенно искренне сочувствую, но
доктора действительно нет.
- Но мне...
- Да, мистер Орр, я знаю, вам назначено. У меня и запись есть, вот
здесь, видите?
- А в чем дело, собственно?
- Срочное собрание Административного совета первой подкомиссии
ветеринарной комиссии. Это крайне важное мероприятие, и, вообще, у доктора
сейчас очень горячие дни. Так много вызовов, знаете ли! Мистер Орр, вам ни в
коем случае нельзя принимать это на свой счет.
- А я и не...
- Просто так вышло. Естественно, вся эта административная рутина мало
кому по вкусу, но ведь и черную работу кто-то должен делать.
- Да, я...
- Его могли вызвать в любое другое время. Вам просто не повезло.
- Я понимаю...
- Вы ни в коем случае не должны обижаться. Убедительнейше прошу
поверить: это просто досадная накладка.
- Да, конечно, я....
- И никакой связи с тем, что мы вчера забыли вам сообщить о переезде
клиники. Это чистой воды случайность! С кем угодно могло быть! Просто не
повезло именно вам. Клянусь, здесь абсолютно ничего личного.
- Так я...
- Вам не надо принимать это близко к сердцу.
- Я и не...
- Чашечку чая, мистер Орр? Или вы предпочитаете кофе?
Выходя из приемной, вспоминаю вчерашнее богатое событиями путешествие в
L-образном лифте и решаю его повторить. Ищу огромное круглое окно и дверь в
расположенную напротив него шахту.
Во мне растут досада и раздражение. Я больше часа блуждаю в сумраке под
высоким сводом яруса, минуя ниши со слепыми статуями (увековеченных в
бледном камне древних бюрократов), проходя под тяжело нависшими флагами (как
помпезные паруса из грубой ткани на мачтах огромного темного корабля). Но
круглого окна так и не обнаруживаю. Не нахожу и бородатого старца, и лифта.
Зато мне попадается старший клерк. Судя по шевронам, это ветеран, отслужил
лет тридцать, не меньше. Он удивленно пялится на меня и отрицательно мотает
головой, когда я описываю лифт и седого лифтера.
В конце концов я сдаюсь. Мой врач едва ли похвалит меня за это.
Следующие несколько часов я трачу на хождение по маленьким галереям в
незнакомой секции моста, далеко от моих излюбленных мест. Здесь тоже есть
экспозиции, но нет экскурсантов, кроме меня. Их и не бывает, судя по
обалдевшим лицам служителей. Меня ничто не радует. От всех работ веет
усталостью и вырождением, картины - блеклые, статуи - бездушные. Но еще
хуже, чем общее убожество экспонатов, на меня действует откровенная
извращенность их создателей, словно сговорившихся искажать всеми мыслимыми и
немыслимыми способами пропорции человеческой фигуры. Скульпторы придали
своим изваянием диковинное сходство с элементами моста. Бедра превратились в
кессоны, торсы - в кессоны или несущие трубы, руки и ноги - в напряженные
балки и фермы.
Тела сделаны из клепаной стали, покрашены той же бурой краской, что и
мост. Трубчатые фермы стали конечностями, срослись в уродливый конгломерат
металла и мяса, порождая исключительно кровосмесительные или же
онкологические ассоциации. У картин тот же лейтмотив: на одной мост
изображен как шеренга уродливых карликов, которые стоят, взявшись за руки, в
кровавой клоаке; другая показывает целостное трубчатое сооружение, но с
петляющими, выпирающими через охряную поверхность венами, и из-под каждой
заклепки сочится кровь.
Под этой частью моста островок, один из тех, которые поддерживают
каждую третью секцию.
Островки схожи только размерами и местоположением. И форма, и история у
каждого свои. Некоторые - в червоточинах старых копей и пещер, на других
полно разрушающихся бетонных глыб и цилиндрических колодцев, похожих на
артиллерийские огневые точки. Отдельные островки хранят на себе руины зданий
- не то наземных шахтных построек, не то древних заводов. У большинства есть
бухточки или эспланады на мысках, и лишь единицы лишены следов человеческого
обитания - это всего лишь комья земли, прячущиеся под травой, кустарником и
зелеными водорослями.
Впрочем, у них есть тайна, одна на всех: как они здесь оказались и для
чего служили раньше. На первый взгляд это природные образования, но все
вместе, лежащие на одной прямой, они выдают себя, и эта неестественная
упорядоченность интригует даже сильней, чем мост, основаниями которому они
служат.
Возвращаясь домой на трамвае, бросаю из окна монетку; она блестит в
полете к морю. Кидают монеты и еще двое пассажиров. В моей голове ненадолго
возникает абсурдная картина: воды под мостом постепенно заполняются
выброшенной мелочью, монетаристские останки растраченных желаний формируют
верхний, как на дрожжах растущий слой осадочных пород, и в конце концов к
полым стальным костям места подступает монолитная денежная пустыня.
У себя в квартире, прежде чем лечь в постель, я смотрю на человека на
больничной койке, вглядываюсь в мутное серое изображение так напряженно и
так долго, что сам себя едва не гипнотизирую этим статичным образом. Я врос
в вечернюю мглу, мой взор неподвижен, и кажется, я вижу не фосфоресцирующее
стекло, а блестящий металл, силюсь прочесть письмена, отчеканенные или
вырезанные на шероховатой стальной плите.
Я жду, когда зазвонит телефон.
Я жду, когда вернутся самолеты.
Появляется медсестра, та самая медсестра, опять с металлическим
подносом. Чары разрушены, иллюзия экрана как стальной плиты развеяна.
Медсестра готовит шприц, протирает руку больного. Я дрожу, словно это
мою кожу холодит спирт. И не только по руке бегут мурашки - по всему телу.
Я спешу выключить телевизор.
А все этат сутчий волшебник да ета он падсунул мине ету как он сказал
дамашнюю звирьюшку и типерь ана сидит у миня на пличе и весь сутчий день на
пралет нисет фсякую ни сусветную хринятину. И нифига я ни магу типерь от
делаца от етой праклятой пакосьти у миня на пличе патаму мы сней типерь как
адно тцелое. Волшебник абищщал она мине памагать будит абищщал она будит
гаварить фсякие полезные весщи и все сбудица. Я то думал што он пад
разумивал и взо правду полезные весщи а ни ету сутчую болтавню весь день
напралет. Етот волшебник миня пад купить пыталса патаму што думал што я иво
при контчить сабираюс а я взо правду сабиралса. И он сказал если я ни буду
иво убиват он мине дасть эту вот интирестную и полезную дамашнюю звирьюшку и
она будит па начам старожить и мине саветы давать полезные на разные случяи
жизьни. И тада я иму сказал ладна преятиль согласии жыви давай паглядим чиво
она там умеит. А он падходит к шкапу и дастает шкотулку а изние дастает
какую та хринятину глядит на ние и гаварит при этам какие та магитческие
слава. А я за ним слижу штобы он ни папыталса надстроить мине какую нибуть
пакосьть а естли папытаица я иму метчем глодку в раз пирирежу. Ничиво таково
он ни пытаица а в место етаво дастает такую смишную чтучьку в роде кошьки
или абизянки тока всю накрытую чорным мехом с клювом и чорными периями на
спине и касаглазую ктамуже и сажаит ие мине на пличо и гаварит ступай мой
малчик сбогом. А я панятно дело ни спишу ухадить патаму што ищще ни знаю што
ета за ффигня у миня возли бошки сидит и диржу метч у ниво возли глодки
папрежнему. Гльяжу на касую звирьюшку и спрашиваю у ние где старый пидрила
рыживье держит. А она атвичаит в старым сюндуке за ширьмой но ето волшебный
сюндук загляниш в ниво а он пустой а руку суниш и нащщупаиш рыживье а выниш
иво и оно с разу видным станит. Волшебник чуть ни акачурился я тоже.
Праверил все аказалос как звирьюшка и абищщала и я тада спрасил чиво типерь
делать. А она гаварит при кончи стараво пирдуна для начяла пака он тибе
какунибуть пакосьть ни надстроил. И я тада при шил валшебника но стех пор
чортава звирыошка ни чпво харошсва ни саветуст тока бридятину кисет всякую
цэлыми днями.
- ...И разумеется, согласно наставительным правилам новой символогии,
выражаемым Большим Арканом, башня означает отступление, ограничение контакта
с реальным миром, философскую экстроспекцию. Короче говоря, это не имеет
никакого отношения к упоминавшейся мною ранее сугубо инфантильной
одержимости фаллической символикой. Действительно, если исключить страдающие
непроходимым нравственным запором социумы, можно утверждать, что, когда люди
хотят видеть сны о сексе, они и видят сны о сексе. Комбинация карт "La Mine"
и "La Tour" в Малом Аркане считается особенно важной, и, если башня
оказывается над шахтой, это имеет сексуальный резонанс с точки зрения
предикции, что, казалось бы, вовсе не очевидно, исходя из простого сочетания
отступления с боязнью провала, однако...
Поняли типерь че я имею ввиду? Так и свихнуца не долго. А ведь мне даже
ни скавырнуть чортаву сутченку патаму што она за миня когтями держица за
саживаит поскуда их в самое мясо. Ни магу даже с бить звирьюшку кулаком или
камнем патаму што она мертвой хвадкой держица и начинаит арать и дергаца и
ругаца и пишчать и у миня ни палучаица ни сбить паскуду ни глодку ей
кенжалом про дырьявить.
И всетаки дила май на лад пашли када я с ней встретилса и значица она
мине на верно принисла удачю. А я то думал без волшебника ни чиво харошиво
сней не выйдит и то сказать я же ни калдун сутчий а прастой рубака. И
всетаки павторяю дила май пашли на лад.
И я узнал от звирьюшки койкакия новые славетчки и значица стал чутотчку
абразований. Да я за был упаминуть што када я пытаюс скавырнуть ие со свово
плича или ни кармлю ие она начинаит арать так ис тошно што проста оглохнуть
можна и всю ночь арет и спать мине ни дает. Норас она ни через чур
пражорлива да и удачу мине приносит я плюнул на ние проста и там бутьшто
будит както мы с ней ладим. Еслип толька сука наспину мне ни гадила все
время...
- ...Между прочим, любопытный факт... хотя ты, конечно, этого не
оценишь. И то сказать, когда у человека в мозгу всего одна извилина... а
если точнее, всего одна клетка серого вещества... Так вот, внизу дело
обстоит совершенно иначе, нежели на этих головокружительных высотах. (Ты
заметил, что запыхался? Ну конечно же нет.) Так вот, власть на этих райских
пастбищах, на этом воплощенном лоне девственной природы, принадлежит
женщинам, а мужчины до конца дней своих остаются ростом с детей.
Снова она йазыком чешит а я уже у самаво верьха сутчей башни и мой метч
пакрыт кровишшей и рука балит ие парезал адин сутчий страшник навходе и я за
блудилса в этом дирьмовом лоберинте сриди всех етих праклятых комнатух.
Биспакоица натчинаю иза агня каторый я успел гдета за палить патамушта дымом
ваняит и я ни хочю сжарица тута зажыво нетужки спачибочки. А чортова тфарь
опьять фее далдонит и мине ни как не паймать старую каралеву патамушто у ние
и магийя и всякая такая ффигня. Вот апять на миня кидаица страшник вреш ни
вазьмеш я иво канчаю и пирипрыгиваю чериз иво трупп и прабираюс далше на
верх па слидам увьертливой ветьмы каралевы.
- ...Господи, но какие же все-таки примитивы эти трутни! Менталитет
улья - самая настоящая игра в поддавки с высшими позвоночными. Да-да, я
согласен, что и к тебе применим этот ярлык, но лишь в отношении физического
роста. Заблудился? Ну разумеется. Дым беспокоит? Это вполне естественно.
Будь на твоем месте парень посмышленей, он бы разом решил обе проблемы -
просто нашел бы, куда дым тянет. Дымит-то снизу, а окон на этом этаже не так
уж много. Но у тебя, как мне кажется, нет ни единого шанса сложить два и
два. Плохо, когда у человека разум не шустрее накачанного валиумом ленивца.
Жаль, что твое сознание не дошло еще в развитии даже до межледникового
периода. Хотя, с другой стороны, не всем же быть гигантами мысли. Вероятно,
дело тут в катастрофическом искажении генного кода. Все пошло наперекосяк
еще в материнской утробе, кровоснабжение работало только на рост
мускулатуры, а мозгу досталась порция большого пальца левой ноги или
чего-нибудь в этом роде...
Я уже было падумал че тутто мине и канец но патом заметил куда нахрен
сачица дым и на шол етот здаравеный льюк ура зашебис! Но ни шутатчное ето
дело разбираца чтокчиму када касаглазая тфарьюга так и тришщит тибе в ухо.
- ...Кстати, о детях. Как я уже говорила... О, неплохо: мы, похоже,
нашли путь на следующий этаж. Мои поздравления! Надеюсь, мы не забудем
опустить за собой люк? Отлично, отлично. Продвигаемся! Потом ты научишься
завязывать шнурки... скорее связывать их друг с другом, но лиха беда начало.
Так о чем я говорила? О детях. Да, внизу всем заправляет так называемый
слабый пол. Самцы рождаются с виду нормальными, но потом плохо развиваются и
останавливаются примерно на уровне ребенка, начинающего ходить. В
сексуальном аспекте они взрослеют, отращивают на теле густую шерсть и даже
слегка полнеют, и их гениталии развиваются полностью, но самцы всю жизнь
остаются крохами, никогда не вырастают до такой степени, чтобы представлять
собой угрозу. Их разум тоже не достигает нормального уровня развития, но...
plus сa change; спросите любую женщину, и она подтвердит. Эти симпатичные
озорные волосатые затейники используются для осеменения, и, конечно,
домашние животные из них просто чудо, но к серьезным взаимоотношениям
женщины склонны только между собой, что, на мой взгляд, совершенно правильно
и нормально. Помимо всего прочего, женщине для тактильного кворума нужны
разом три, а то и четыре самца, чтобы занятия любовью отличались от обычного
процесса оплодотворения...
Ну видити эта сутченка все трепица и трепица а ведь еслибы я ни на шол
выход на верх она бы дафно паджарилас. Тут кругом всякие сталбы и занавецы и
другие весчи а стены залатые на вид но энто тока пазалота и проку никакова
ни чилавеку ни зверью от нее. Я за балыпим стулом на памосте ищщу путь на
верьх и тут на миня кидаюца ищще два здаравеных страшника они как ведмеди с
чилавечими голавами и рычят и ламают все кругом но я их тоже канчаю а адин
хлабысть с болкона и литит вниз и привращаица в малинькае пятныжко но ето не
приближает миня к старой стерьве каралеве.
- ...Бьюсь об заклад, теперь он жалеет, что не учился в свое время
летному делу. Вы только посмотрите на этот пейзаж! Холмы и горные кряжи, все
эти леса... и реки, точно вены, по которым течет ртуть. Просто дух
захватывает! Даже будь у нас дыхательные аппараты - все равно бы захватило!
Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что необходим дыхательный аппарат. Смерть
от кислородного голодания тебе вряд ли грозит. Ты бы наверняка обошелся и
парой кислородных молекул в день. Да посмотри на себя, приятель: если
превратишься в овощ, это будет повышение в чине!.. Все же надо отдать тебе
должное: ты преспокойно разделался с теми наглыми крикливыми хищниками. Ведь
им почти удалось меня напугать, но ты не ударил лицом в грязь. Похоже, ты не
робкого десятка. Жалко только, мозги подкачали, но ведь нельзя же иметь все
на свете? В том числе и способность видеть то, что у тебя под носом. Лично
мне кажется, разгадка - в троне. Да, никакого пути отсюда на следующий этаж
не наблюдается, но ведь он должен быть, и если б я был монарх, то
распорядился бы насчет быстрого и удобного способа эвакуации, на случай если
в этом зале вдруг запахнет жареным. Смешно, с каким упорством ты не
замечаешь столбик, соединяющий помост с сиденьем. Впрочем, чего еще ожидать
от такого непроходимого тупицы? Каданибудь энта сутчья звирьюшка миня
давидет сваей поскудней дуратцкой балтавней и я точно разабью сибе бошку
обстенку. Я бы довно избавилса от чертовой тфари нокак вот вапрос. Я зализаю
на здаравеный стул или как там иво трон штоли и натчикаю шивилить мазгами и
натчинаю дьергать все што тартчит из пиво простатак от нечива делать дьергаю
а ета долбаная хриновина как в друг вазьмет да и падскочит ввоздух а мы с
чортовой звирьюшкой наней седим.
- Надо же, какой сюрприз! Лифт оригинальной конструкции! Семьдесят
девятый этаж: дамское белье, верхняя кожаная одежда, постельные
принадлежности, облачение для служителей культа.
Куцы ето ищще нас за нисло. Проста аффигеть можна здаравеная комната и
вней пално краваток и кушшеток и всиво таково прочиво а наних бабы валяюца
тока все нетцелые им койчиво нехватаит.
Лижат они насваих койках и пахнит кругом пряностьями и благо вонями а к
мине падбигаит здаравеный такой муджик благо воняными мослами на мазаный аж
блистит весь а галосишка униво пискльявый каку бабы. Муджик кланиица и
лодошки патираид и пойет мине песинку сваим пискльявым бабским галоском и
приветствуит миня как гаспадина и сльозы па роже тикут. И я там пасидел
чутток дух пири вел а патом па шол гльянуть че и как а здаравеный талстеный
пидрила замной плитеца и балбочет чивото безумалку и все приветствуит.
А бабы на койках все жывые датока уветчные нирук ниног как буто в
битьве пабывали тока шрамоф ни видадь нарожах и телах и кто их так адделал
астаеца тока дагадываца. Бабы всекак адна в теле здаравеные титтьки и бьедра
пухлые и рожи ничиво и на етих бабах кожинные шмодки или празратчные трьяпки
или кружыва сутчьи. И койкто из баб тоже приветствуит миня проста аффигеть
можна.
Нихрина сибе прикидываю какие из врашчонные фкусы бывают у некатарых
пидрил и че ниужто сто все прид назнатчено для старой каралевы. Хатя я
слыхал че у ведьм и калдунов чистенько бывают даволно из врашчонные фкусы и
канешна наффиг мине нада штоб папитам за мной хадил етот здаравеный жырный
муджык каторый тута телок старажыл а он все ходит и ходит и песинки
распивает и приветствуит на доел уже и я иво при контчил. А патом за шол за
здаравеный занавец и там на шол талпу старикашшек и все дидки как адин в
дуратцких шероких адияниях.
Вотето была картинка проста аффигеть можна када они пиридо мной натчали
руками роз махивать и за вывать я их спрасил где каралева и иенное рыжывье а
они чивота лапочут и ниффига нипанятно. Койкто зато фсе скумекал.
- ...Ай да молодцы! Даже в поражении - какой стоицизм! Но вам следует
учесть: наш гостеприимный толстячок, увечный поводырь увечных, только что
познакомился с клинком моего мускулистого товарища и получил удар еще более
жестокий, чем тот, который сделал его тем, кем он был до сего дня. Сдается,
у моего спутника терпение на исходе, оно и в лучшие-то времена было с микрон
толщиной, а потому, если не хотите отправиться на тот свет вдогонку за
евнухом или в самом оптимальном случае занять освобожденную им должность,
подумайте о сотрудничестве. Итак, кто из вас объяснит, как пройти к
королеве? Отвечает Молохий? Прекрасно, ты у нас всегда был разговорчивым,
верно? Ну о чем речь?! Конечно, награда за правду - жизнь и свобода. Даю
слово! Мм... хм-м... Поняла. Зеркало. Наверное, просто пластик. Оригинально
- едва ли, но надежно - вполне.
Я прахожу мимо старикашшек раз биваю зеркало и за гльядываю вдыру и
вижу там в далнем канце ступенки зашибис тошто надо.
- Ладно, можно пока не напрягать фарш, который тебе заменяет мозги.
Делай, что считаешь естественным, а там будет видно.
Я при канчиваю старикашшек они и так были савсем дохлые кожжа да кости
не работа для мово метча. Правда я уже под устал и рука балит. Я нашол
каралеву на самом верьху крышы в шырокой комнате аткрытой всем витрам. И там
она седит в таком чорном падвинечном платьи и держыт в руке лук мелкий такой
лучонок и сморит на миня так бута я ето не я а кусок дирьма. Она не красодка
но и не старая корга как я ожедал и темной нотчкой сашла бы впалне зашибис.
А я ежли чесна стаю и ни знаю че делать у ние чето такое с глазами и я
нанимаю че она на миня дейвствуит сваей магийей но шивильнуца ни магу и даже
рта раз крыть и даже касая звирыошка при умолкла а патом гаварит:
- Плохо, моя девочка. Я думала, ты на большее способна, разве это
драка. Погоди-ка, мне надо кое-что шепнуть на ушко моему другу. Так вот,
слышал анекдот: приходит человек к врачу с лягушкой на голове. Врач
спрашивает: на что жалуемся? А лягушка говорит...
- Ни абращщай на ниво вниманийя, - говорит каралева сутчей звирьюшке а
я даже сутчим пальтцем пошивилить ни магу ну пагади думаю добирус ты у миня
папляшиш мине бы тока сместа сайти. - И как же тибе удалое асвабадица? -
спрашивает каралева.
- Облажался старина Ксеронис. Нанял этого громилу, а при расчете
попытался его надуть. Представляешь, дал себя перехитрить такому дуролому! А
я, между прочим, всегда говорила старому пню: ты слишком высоко ценишь свои
умственные способности. Должно быть, он забыл, в которую шкатулку меня
засунул. И перепутал с дешевым талисманом с двухдневной гарантией и
проницательностью шпоры на большом пальце ноги! И посадил на плечо к этому
безмозглому олуху.
- Идиет, - гаварит каралева. - И какэто миня угараздило даверидь иму
тибя?
- Милочка, так ведь это далеко не единственная твоя ошибка.
Я бы этим сутчкам наказал их ашипки если-бы мог шивильнуть рукой с
метчом. Балтают между сабой какни вчом нибывало проста аффигеть можна.
- Такты знатчит йавилас притендавать на свае закона место? - гаварит
каралева.
- Именно так. И, судя по всему, ни наносекундой раньше, чем нужно.
Вижу, что тут под твоим чутким руководством все катится ко всем чертям.
- Но видь это ты наутчила миня всиму че я знаю.
- Да, милочка, но, к счастью, не всему, что знаю я.
(А я их слушаю и гаварю сибе ни спиши атчаиваца пастаим падаждем че
далше будит. Задрала блин тарчадь тут.)
- И че ты намерина типерь делать? - спакойна так гаварит каралева как
бута хочит дело миром ришить.
- Для начала - избавиться от зверинца, что под нами. Твой?
- Для жритцов. Знаишь вить как у нас дело наставлено? Деватчки
вазбуждайют жрицов, а я... малачко выдайиваю.
- Надо было выбрать производителей помоложе.
- Ващето никаму из них и двацати нет. Проста этот працес очинь быстра
сушид чилавека.
- Меч моего друга засушил их куда быстрей.
- Латно, фсех фее рафно нипа бедиж, - гаварит каралева и стаиовица
какбуто пичальной и стераит сльезу са щики а я стаю точна каминый балван с
места ни сдвинуца и думаю ладно сутченки я вам ищще пакажу а ищще думаю че
же за хриновина тута тварица. И тута каралева в друг как киница са стула
прям на миня точна литучая мыш и как на целит лучонок прям на звирьюшку
каторая на маем пличе.
Тута я чють ни абделалса спирипугу да тока звирьюшка ни буть дура как
сигонет с мово плича прям в рожу каралеве и как дасть па ней точна сутчье
пушично едро и та хлобысь взад на стул. Каралева лук свой уранила и он
палител на пол и стал там светица а она стала атрывать звирьюшку от сваей
рожи и вапить и арать и царапать ие и бить.
Наканецта мине павизло чортава звирьюшка убралась с мово плитча. Я
сматрю как сутченки другдрушку лупьят и думаю канешна зашибис тошто нада да
тока наффиг ету игру в салдатики мине сваливат пара. Хачю паднять каралевин
лук а он красный раскалилса жеца. И я атхажу патихонку па леснитце и тут
како рвонет и я лоту кувырком сриди камней и брьеевен и чирипицы и думаю ну
все проста аффигеть можна вот мине и конетц при шол. Но ничево цел асталса
патамушто ни обо што ни вдарилса. Выбралса испод абломков глижу наверх
ничиво кругом нет тово што было и сук абоих как сфиздило. Етож проста
аффигеть можна.
Сутчье рыжывье я такине на шол тока с бабами порозвльекса ффигня
напрастная патеря времени но зато я из бавилса от гадкой звирьюшки. Стех пор
мине уже ни так визло и я инагда скутчал по ие балтавне но ни шипко если
чесна. Ито сказать я жи вам ни калдун сутчий а прастой рубака.
Нет, нет, нет! Было еще хуже (это позже, это сейчас, когда за шторами -
водянистая серость; когда слипшиеся губы, во рту гадко и трещит голова). То
был я, я был там, вожделел тех увечных женщин, и они возбуждали меня, и я их
насиловал. Что для варвара еще одна струйка крови на его мече, еще одна
взятая силой полонянка? Но ведь этим варваром был я, и хотел этих женщин,
которых сам же и сотворил; и я обладал ими. И вот моя душа, как нарыв гноем,
заполняется отвращением. Господи боже, да лучше полная импотенция, чем
похоть при виде увечий и насилие над беззащитными.
Я неуклюже поднимаюсь с постели. Болит голова, ноют кости, на коже -
холодный пот, как прогорклое благовонное масло. Раздвигаю шторы.
Облака опустились, мост окутан серым, по крайней мере на этой высоте.
Включаю лампу, газовый камин и телевизор.
Человек на больничной койке окружен медсестрами, они переворачивают его
на живот. Бледное лицо его не выражает никаких эмоций, но я знаю, что
незнакомцу больно. Я слышу собственный стон и выключаю телевизор. В груди -
моей груди - ощущаю боль, она подчиняется лишь собственному ритму.
Привязчивая, ноющая.
Я плетусь, как пьяница, в ванную. Здесь все белое и четкое, и ни одного
окна, а значит, не виден туман, обволакивающий все снаружи. Можно закрыть
дверь, включить еще несколько ламп и оказаться среди четких отражений и
твердых поверхностей. Я пускаю воду в ванну и долго смотрю на свое лицо в
зеркале. Вскоре мне кажется, будто опять все кругом темнеет, пропадает. Я
вспоминаю, что глаза видят, только когда движутся; их сотрясают слабейшие
вибрации, отчего "оживают" предметы, на которые устремлен взор. А если
парализовать глазные мышцы или как-нибудь добиться, чтобы предмет двигался
вместе с глазным яблоком, то картинка исчезнет...
Мне это известно. Я где-то когда-то этому учился. Но когда и где, не
помню. Моя память - это затонувшая земля. Я гляжу с узкого утеса туда, где
раньше простирались плодородные равнины и высились покатые холмы. А сейчас -
лишь монотонная водная гладь и несколько островков; когда-то они были
горами, а ныне - складки, созданные какими-то глубинными тектоническими
подвижками разума.
Я встряхиваюсь - хочу выйти из слабого транса, но в результате лишь
обнаруживаю, что отражение мое и впрямь исчезло. В ванну льется горячая
вода, клубящийся пар конденсируется на холодной поверхности зеркала. Он-то и
затмил, загородил, стер меня.
Я стильно одет, аккуратно причесан, хорошо позавтракал. Я узнаю - не
без удивления, - что клиника доктора находится там же, где и вчера, и никто
не отменил и не перенес на другой день назначенный мне прием. ("Доброе утро,
мистер Орр! Как приятно вас видеть! Да, разумеется, доктор здесь. Не желаете
ли чашечку чая?") И вот я сижу в новой приемной, куда просторней, чем
прежняя, и жду, когда господин целитель соблаговолит меня допросить.
За завтраком я решил лгать. Ведь если удалось придумать два сна,
как-нибудь справлюсь и с остальными. Скажу врачу, что мне этой ночью ничего
не снилось, и изложу сон, якобы увиденный вчера. Не к чему посвящать его в
мой настоящий кошмар. Психоанализ психоанализом, но и про стыд забывать
нельзя.
Доктор, как обычно, весь в сером, в глазницах мерцают осколки древней
льдины. Он выжидающе глядит на меня.
- Так вот, - говорю, словно оправдываясь, - у меня было три сна или,
точнее, один в трех частях.
Доктор Джойс кивает и что-то записывает.
- Мм... Хм-м... Продолжайте.
- Первый - очень короткий. Я в огромном роскошном доме, в мглистом
коридоре, гляжу на противоположную черную стену. Все - монохромное. Сбоку от
меня появляется человек. Он медленно и тяжело ступает. Он лыс, и кажется, у
него ритмично раздуваются щеки. Но я не слышу ни звука. На нем светлый
пиджак. Человек пересекает коридор слева направо, и я вижу, что стена за ним
- это не стена, а огромное зеркало, в котором снова и снова повторяется
отражение идущего, потому что есть еще одно зеркало, где-то сбоку от меня. И
вот я смотрю на всех этих толстых, неуклюжих мужчин, гляжу, как они идут
длиннющей шеренгой, маршируют в ногу слаженней, чем любое воинское
подразделение... - Я гляжу в глаза врача. Глубоко вздыхаю. - Самое
поразительное - что первое, ближайшее отражение не во всем повторяет
действия мужчины. На секунду, лишь на одно мгновение оно поворачивается и
смотрит на него - но при этом не сбивается с шага. Это лишь движение головы
и рук. Человек в зеркале поднимает руки к голове, вскидывает их вот так, -
показываю я врачу, - и мигом возвращает в прежнее положение. Шеренга копий
черного толстяка скрывается с моих глаз. А настоящий человек, оригинал, даже
не замечает, что произошло, и... собственно, это все.
Доктор жует губами и сцепляет короткие мясистые пальцы:
- Вы узнали хоть что-то из ваших собственных черт в горбуне, который
бичевал море? А будучи странником в свободных одеждах, наблюдая с берега,
испытывали при этом хоть мимолетное ощущение, что вы - еще и другой? И
наконец, кто был реальней? Кажется, стоявший на берегу в определенный момент
исчез - карлик с цепью перестал его видеть. Хорошо, сейчас не отвечайте.
Поразмыслите над этим. И еще над тем фактом, что у человека, которым были
вы, отсутствовала тень. Продолжайте, пожалуйста. Каков был следующий сон?
Я сижу и таращусь на доктора Джойса. У меня отпала челюсть. Что он
сказал? Что я сейчас услышал? А что сказал я? Господи, да это еще хуже, чем
было ночью. Доктор, я сплю, вы мне лишь пригрезились!
- Что?.. Я... Доктор... Что?.. Откуда вы?..
Доктор Джойс недоуменно смотрит на меня:
- Прошу прощения?
- Ч-что вы сейчас сказали? - У меня запинается язык.
- Что я сейчас сказал? - Эскулап снимает очки. - Мистер Орр, я не
понимаю, о чем вы. А сказал я только: "Продолжайте, пожалуйста".
Господи, неужели я все еще сплю? Какое там! Бесполезно внушать себе,
что это сон. Ладно, продолжаем. Может, это всего лишь временный сбой разума;
меня не оставляет странное ощущение, что я брежу. Да, наверное, дело в этом,
в чем же еще. Не поддавайся, держи себя в руках; спектакль должен
продолжаться.
- Я... извините, доктор. Мне сегодня никак не удается толком
сосредоточиться. Ночью плохо спалось. Может, потому и снов не было. - Я
браво улыбаюсь.
- Понятно. - Добрый доктор возвращает очки на нос. - Вы себя нормально
чувствуете? Рассказывать можете?
- Да.
- Вот и отлично. - И доктор улыбается, правда натянуто, как человек,
который примеряет яркий галстук, осознавая, что тот ему не идет. - Когда
будете готовы - продолжайте.
У меня нет выбора. Я уже сказал ему, что снов было три.
- В следующем сне, тоже черно-белом, я наблюдаю за парочкой в парке.
Возможно, это лабиринт. Они на скамейке, целуются. За ними живая изгородь и
статуя... Ладно, пусть будет просто статуя, фигура на постаменте. Женщина
молода и привлекательна, мужчина в летах, важный, носит строгий костюм. Они
страстно обнимаются. - Пока что я избегал смотреть доктору в глаза, и
требуется значительное усилие воли, чтобы поднять голову и встретить его
взгляд. - А затем появляется слуга. Не то дворецкий, не то лакей. Говорит
что-то вроде: "Посол, вас к телефону". Пожилой респектабельный мужчина и
молодая женщина оглядываются. Она поднимается со скамьи, оправляет платье и
говорит что-то вроде: "Вот гадство! Долг зовет! Извини, милый". И уходит за
слугой. Пожилой мужчина крайне раздосадован. Он подходит к статуе, глядит на
ее мраморную ногу, потом достает откуда-то кувалду и отбивает большой палец.
Доктор Джойс кивает, что-то записывает и говорит:
- Мне было бы интересно узнать ваше мнение о том, каково значение
диалекта. Но давайте дальше. - Он поднимает глаза.
Я сглатываю. В ушах - странный высокий гул.
- Последний сон, точнее, последняя часть одного-единственного сна...
Это происходит днем, на утесе над рекой, в красивой долине. Там дети, много
детей, и симпатичная юная учительница... Думаю, это пикник. А позади них -
пещера... Нет, не пещера. Короче говоря, мальчик держит бутерброд. Я гляжу
на них, на мальчика и бутерброд, с очень близкого расстояния, и вдруг на
бутерброд падает большой темный сгусток, и еще один. Мальчик в недоумении
поднимает голову, смотрит на утес. Сверху из-за утеса высунулась чья-то рука
с бутылкой томатного соуса, он-то и капает на хлеб. Вот и все.
Что я сейчас услышу?
- Мм... Хм-м... - говорит врач. - Это был поллюционный сон?
Я оторопело смотрю на него. Вопрос прозвучал достаточно серьезно, и
никаких сомнений: все, что здесь будет сказано, останется сугубо
конфиденциальной информацией. Я кашляю, прочищая горло.
- Нет, доктор.
- Понятно, - говорит врач и какое-то время тратит на украшение половины
страницы своей микроскопической каллиграфией. У меня дрожат руки, я потею.
- Что ж, - наконец произносит он, - кажется, мы нащупали, э-э... точку
опоры. Как по-вашему?
Точку опоры? О чем это он?
- Не понимаю, о чем вы, - говорю.
- Пора перейти к следующей стадии лечения, - провозглашает доктор. Мне
это откровенно не нравится.
Джойс издает профессиональный вздох строго отмеренной длительности.
- Материала у нас накопилось достаточно много... - Он просматривает в
блокноте несколько страниц. - Но я не чувствую, чтобы мы приближались к ядру
проблемы. Мы просто ходим вокруг да около. - Он глядит в потолок. - Видите
ли, если мы сравним человеческий разум... ну, скажем, с замком...
О-хо-хо! Мой доктор любит метафоры!
- ...то получится, что на последних сеансах вы лишь устраивали мне
экскурсии вокруг крепостной стены. Нет-нет, я вовсе не хочу этим сказать,
что вы сознательно вводили меня в заблуждение. Уверен, вы хотите помочь себе
в той же мере, в какой и я хочу вам помочь, и вам, наверное, кажется, что мы
и в самом деле пробираемся вглубь, к центральной башне, но... Джон, я в этом
деле собаку съел и давно научился отличать движение вперед от топтания возле
рва с водой.
- Н-да... - На меня эти сравнения с замком производят гнетущее
действие, хочется скорее сменить тему. - И что же теперь делать? Мне очень
жаль, что я...
- Помилуйте, Джон, вам совершенно не в чем оправдываться, - уверяет
меня доктор Джойс. - Но, кажется, нам пора перейти к новой методике.
- Что еще за методика?
- Гипноз, - отечески молвит доктор Джойс и улыбается. - Единственный
способ преодолеть куртину, а может, и проникнуть в центральную башню. - Он
замечает, что я хмурюсь. - Это будет совсем несложно. Мне кажется, с
внушаемостью у вас все в порядке.
- Правда? - мнусь я. - Ну не знаю...
- Очевидно, это единственный путь вперед, - кивает он.
Единственный путь вперед? А я-то думал, мы пытаемся идти назад.
- Вы уверены?
Мне надо подумать. Чего хочет доктор Джойс? И чего он хочет от меня?
- Вполне уверен, - говорит врач. - Абсолютно убежден!
Какой пафос! Я нервно тереблю браслет на руке. Собираюсь просить время
на размышление.
- Наверное, вы хотите это обдумать? - произносит доктор Джойс. Я ничем
не выдаю облегчения. - Кроме того, - добавляет он, глядя на карманные часы,
- у меня через полчаса заседание. И я бы предпочел встречаться с вами вне
своего расписания - нам явно понадобятся более продолжительные сеансы. Так
что сейчас, пожалуй, не очень удобное время. - Он собирается: кладет на стол
блокнот, прячет серебряный карандаш в футляр, а футляр - в нагрудный карман.
Снимает очки, дует на линзы, протирает носовым платком. - У вас
исключительно яркие и... связные сны. Удивительная плодовитость ума.
Что у него с глазами? Мерцают или мигают?
- Вы слишком добры ко мне, доктор, - говорю.
Секунду-другую он переваривает эту фразу, затем улыбается. Я ухожу,
согласившись со своим лекарем в том, что туман - это большое неудобство. За
дверью я благополучно уворачиваюсь от подобострастных "чайку-кофейку",
дебильных реплик и тошнотворно-слащавых пожеланий и спешу к выходу.
Едва не сталкиваюсь с мистером Беркли и его конвоиром-опекуном. Изо рта
у мистера Беркли пахнет нафталином. Мне остается лишь предположить, что он
возомнил себя платяным шкафом.
Я иду по Кейтинг-роуд. Мост утопает в клубящемся облаке, улицы и
проспекты обернулись тоннелями в тумане, огни магазинов и кафе с трудом
вылавливают из серой мглы человеческие силуэты, очень смахивающие на
призраков.
Подо мной шумят поезда. То и дело отработанный пар стремительно
прорывается через железный настил и спешит раствориться в тумане. Локомотивы
завывают, словно неприкаянные души, и человеческий разум машинально пытается
перевести эти протяжные крики на свой язык. А может, гудки с тем расчетом и
задумывались - чтобы будить в нас зверя. С невидимого моря, лежащего в
сотнях футов внизу, поездам вторят сквозь туман судовые сирены, их крики
дольше и басовитей, звучат мрачным предостережением, как будто каждый из
этих ревунов водружен над местом страшного кораблекрушения, чтобы оплакивать
души давным-давно погибших моряков.
Из тумана неудержимо вырывается рикша, оповещая о себе визгом
клаксончиков. Повозка стремительно приближается, девчушка, торгующая
спичками, спешит уступить дорогу, я оборачиваюсь и в глубине плетеной
коляски замечаю белое лицо в обрамлении темных волос. Рикша проносится мимо;
я готов поклясться, что седок ответил на мой взгляд. Сзади на коляске тускло
светится в тумане красный фонарь. Слышится окрик, когда уже почти истаял,
сгинул красный свет, и писк каблуков-клаксонов неожиданно смолкает. Рикша
остановился. Я иду вслед, и вот я рядом. Из коляски показывается голова с
белым, как будто сияющим в тумане, лицом.
- Мистер Орр!
- Мисс Эррол.
- Какой сюрприз! Кажется, нам по пути.
- Похоже на то. - Я останавливаюсь рядом с двуколкой. Между оглоблями
стоит парень, глядит вверх, тяжело дышит. Капли пота блестят в неярком свете
уличного фонаря. Кажется, Эбберлайн Эррол смущена, лицо у нее при ближайшем
рассмотрении не белое, а почти розовое. Я почему-то радуюсь, видя, что
отчетливые припухлости под ее глазами никуда не делись. Наверное, они у нее
всегда или она сегодня опять допоздна кутила. Похоже, как раз возвращается
домой. Но нет: у человека бывают утренние вид и самочувствие, а бывают
вечерние. И сейчас дочь главного инженера Эррола прямо-таки источает
свежесть.
- Подбросить вас?
- Куда уж выше, я и так на седьмом небе от счастья, - изображаю я в
кратком варианте ее изощренный поклон.
У нее глубокий, горловой смех. Совсем мужской.
Рикша следит за нами с откровенным раздражением. Достает из-за пояса
счеты, громко, демонстративно щелкает ими.
- Да вы галантны, мистер Орр! - кивает мисс Эррол. - Мое предложение
еще в силе. Чего наверняка не скажешь о вас. Присаживайтесь, в ногах правды
нет.
Я обезоружен:
- С удовольствием.
Я забираюсь в легкую повозку. Мисс Эррол, в высоких сапогах, кюлотах и
жакете из плотной, тяжелой ткани, двигается на сиденье, освобождает мне
местечко. Рикша уже не только щелкает, но и возбужденно говорит, и
жестикулирует. Эбберлайн Эррол отвечает на таких же повышенных тонах и
энергично машет рукой.
Юноша отпускает оглобли (новый громкий щелчок) и скрывается в кафе
возле мощенной деревом дороги.
- Пошел за напарником, - объясняет мисс Эррол. - В одиночку он бы нас
вез слишком медленно.
- А это не опасно? В таком тумане? - Я чувствую, как с мягкого сиденья
через ткань пальто поднимается тепло.
Эбберлайн Эррол фыркает:
- Ну что вы. - Ее глаза сейчас, в уличном освещении, скорее зеленые,
чем серые. Они сужаются, изгибается уголок красивого рта. - Это сущая
ерунда.
Рикша возвращается с подмогой, вдвоем они берутся за оглобли и рывком
увлекают нас в туман.
- Моцион, мистер Орр?
- Нет, от врача возвращаюсь.
- И как идет лечение?
- Да ни так ни сяк. У доктора новая светлая мысль - вздумал меня
гипнотизировать. Как-то я начинаю сомневаться в пользе его терапии, если это
можно назвать терапией.
Я говорю, а мисс Эррол следит за моими губами, и от этого мне и
приятно, и как-то не по себе. Через секунду она широко улыбается и переводит
взгляд на дорогу, на двух парней, бегущих перед нами, лавируя в пронизанном
светом фонарей тумане, заставляя встречных шарахаться с нашего пути.
- Мистер Орр, человек должен во что-то верить, - говорит мисс Эррол.
- Хм... - мычу я, тоже на какой-то миг захваченный нашей лихой ездой в
условиях недостаточной видимости. - А мне кажется, было бы разумней
сосредоточиться на моих поисках.
- Поиски, мистер Орр?
- Да. Наверное, вы тоже ничего не слышали о Третьей городской
архивно-исторической библиотеке?
Она отрицательно качает головой:
- Нет, к сожалению.
Рикши предостерегающе кричат. Мы резко огибаем стоящего посреди дороги
старика, проносимся меньше чем в футе от него. Коляска кренится, меня
прижимает к мисс Эррол, затем коляска выпрямляется.
- Похоже, о ней мало кто слышал, а кто слышал, тот не нашел.
Мисс Эррол пожимает плечами, щурится, глядя в туман.
- Такое случается, - серьезно говорит она. И поворачивает голову, чтобы
взглянуть на меня. - Это и есть главная цель ваших поисков, мистер Орр?
- Нет, я хочу побольше узнать о Королевстве и о Городе. О том, что
лежит за мостом...
Я слежу за ее лицом, но она, похоже, сосредоточилась на тумане и
дороге. Я продолжаю:
- Но для этого полезно было бы попутешествовать, а я в этом отношении
связан по рукам и ногам.
Она снова поворачивает голову ко мне. Ее брови приподняты.
- Ну а мне путешествовать не в диковинку, - говорит она. - Может
быть...
- Дорогу! - вскрикивает наш первый рикша.
Мы с Эррол дружно поворачиваем головы и видим прямо перед собой
портшез, стоящий на деревянном настиле и целиком перегораживающий узкую
улочку. Его носильщики держат в руках обломки рукоятей. Оба отскакивают.
Наши парни пытаются тормозить, бороздят пятками доски, но препятствие уже
слишком близко. Коляска сворачивает, и нас угрожающе кренит. Мисс Эррол
выбрасывает руку влево, мне на грудь. Я оцепенело гляжу вперед, а повозка
подскакивает, с душераздирающим скрипом наклоняется вбок и летит прямиком на
портшез. Мою спутницу бросает ко мне; крыша повозки косо дыбится и бьет меня
по голове. На мгновение туман прорезает расплывчатая вспышка - и гаснет.
- Мистер Орр, мистер Орр? Мистер Орр?
Я открываю глаза. Я лежу на досках. Кругом все очень серое и
незнакомое, толпятся какие-то люди, глядят на меня. Надо мной склонилась
молодая женщина с припухлыми глазами и длинными темными волосами.
- Мистер Орр!
Я слышу гул авиационных двигателей. Я слышу нарастающий шум
пропеллеров. Самолеты летят в расстелившемся над морем тумане. Словами
просто не передать, до чего я расстроен. Я лежу и слушаю и пытаюсь
определить, в какую сторону они летят (это кажется исключительно важным).
- Мистер Орр!
Гул стихает. Я жду, когда из слабо шевелящегося тумана появятся
расплывчатые буквы бессмысленного дымового послания.
- Мистер Орр?
- Да? - Голова идет кругом, уши издают свел собственный шум - как шум
водопада.
Вокруг туманно, горят огни, словно мазки восковым мелком на серой
бумаге. Посреди улицы валяются разбитый портшез и изувеченная двуколка. В
стороне спорят два наших рикши и несколько незнакомых мужчин. Рядом со мной
на коленях стоит молодая женщина, она очень красива, но у нее течет кровь из
носа, на верхней губе собираются красные капли, и я вижу, что она уже
вытирала кровь: на левой щеке остался след. Изнутри меня наполняет теплое
сияние, похожее на свет маяка в тумане, - я понимаю, что знаком с этой
женщиной.
- О, мистер Орр! Простите меня! Вы целы?
Она шмыгает носом и снова вытирает кровь с верхней губы. Ее глаза
блестят в рассеянном свете, но я думаю, что это не от слез. Ее зовут
Эбберлайн Эррол, я уже вспомнил. Мне казалось, вокруг целая толпа - но
никого нет, лишь она. Из тумана возникают какие-то люди, глазеют на следы
аварии.
- Со мной все хорошо, просто великолепно. - Я сажусь.
- Вы уверены? - Мисс Эррол привстает, но только для того, чтобы
опуститься на корточки. Я киваю и ощупываю голову. Вроде висок побаливает,
но крови нет.
- Уверен, - отвечаю.
На самом деле мне все кажется слегка отдаленным, но головокружения и
слабости я не чувствую. Да и сознание достаточно ясное, чтобы я догадался
сунуть руку в карман и предложить мисс Эррол носовой платок. Она его берет и
прикладывает к носу.
- Спасибо, мистер Орр, - благодарит она, не отнимая от носа белую
ткань.
Парнишки-рикши и носильщики портшеза вопят, переругиваются, машут
руками. Толпа зевак все растет. Я с помощью девушки поднимаюсь на дрожащие
ноги.
- Правда-правда, я целехонек. - На время в моих ушах снова появляется
рев, потом постепенно стихает.
Мы подходим к покалеченным транспортным средствам. Мисс Эррол глядит на
меня и говорит через платок, отчего голос получается насморочным:
- А как ваша память? Не проснулась от такого удара по голове?
Я осторожно качаю головой, а мисс Эррол заглядывает в коляску, вынимает
тонкий кожаный атташе-кейс и смахивает с него пыль.
- Нет, - отвечаю, подумав. Я бы нисколько не удивился, обнаружив, что
после столь мощной встряски еще больше забыл. - А вы? С вами все в порядке?
Ваш нос...
- Чуть-чуть кровоточит, - кивает она, - но не сломан. Еще несколько
синяков, но в целом дешево отделалась. - Она кашляет и сгибается чуть ли не
в три погибели; я не сразу понимаю, что это опять смех. Отсмеявшись, резко
встряхивает головой: - Простите, мистер Орр, это я во всем виновата. Обожаю
быструю езду. - Она поднимает атташе-кейс. - Папа в соседней секции, это его
чертежи, он их ждет. Я и решила: хороший предлог, чтобы с ветерком
прокатиться. Может, на поезде и быстрее, но... Извините, мне и правда надо
ехать. Если вы уверены, что целы, то я вас здесь оставлю, а сама поднимусь
лифтом наверх и там сяду в поезд. А вам лучше отдохнуть. Тут рядом бар, я
угощу вас кофе.
Протестую, но сейчас я слишком беспомощен. Меня отводят в кафе. С
минуту мисс Эррол скандалит на улице с носильщиками портшеза и рикшами,
затем поворачивается: из тумана позади нее с визгом клаксонов появляется
новый рикша. Она бросается к этому пареньку, что-то быстро ему говорит,
возвращается в бар, где я прихлебываю кофе.
- Ничего, наняла другую коляску. - Она запыхалась. - Надо ехать. - Мисс
Эррол отнимает от лица окровавленный платок, смотрит на него, шмыгает носом
на пробу, заталкивает платок в глубокий карман кюлотов. - Потом верну, -
обещает. - Уверены, что вам не надо в больницу?
- Да.
- Тогда до свидания. Еще раз простите. И будьте осторожны. - Она
пятится, машет мне, потом быстро выходит на улицу, щелкает пальцами рикше.
Еще один - прощальный - взмах руки, и мисс Эррол исчезает в тумане.
Подходит бармен, чтобы снова наполнить мою чашку.
- Молодежь... - улыбается он и укоризненно качает головой.
Интересно, кто же тогда я в его глазах? Почетный пенсионер? Впрочем,
поглядев в зеркало за стойкой бара, я понимаю, в чем тут дело. Я уже готов
объяснить вслух причину своей непрезентабельности, но тут с улицы, как
безумные, бибикают каблуки, и мы с барменом дружно поворачиваемся к окну.
Снова возникает только что нанятая мисс Эррол коляска, резко тормозит и
разворачивается у самой двери. В проеме показывается темноволосая голова.
- Мистер Орр!
Я машу рукой. Похоже, новый рикша уже злится. Двое предыдущих и
носильщики портшеза оторопело внимают.
- Это насчет путешествий. Я дам о себе знать, ладно?
Я киваю. Кажется, мисс Эррол удовлетворена. Она откидывается на спинку
сиденья и щелкает пальцами. Коляска снова срывается с места. Мы с барменом
переглядываемся.
- Наверное, боженька чихнул, когда вдыхал жизнь в это создание, -
ухмыляется он. Я киваю и пью кофе, разговаривать не хочется. Он возвращается
к своему привычному занятию - мытью стаканов.
Я изучаю в зеркале напротив, над гордым строем стаканов и красочными
рядами бутылок, свою бледную физиономию. Соглашаться на гипноз или не
соглашаться? Кажется, меня уже загипнотизировали.
Еще какое-то время сижу в кафе, прихожу в себя. С улицы уже унесли
портшез и двуколку, а туман никуда не делся, наоборот, он теперь еще гуще.
Покидаю кафе и сажусь в лифт, потом еду на поезде, потом снова на лифте, и
вот я дома. Там меня ждет посылка.
Инженер Буч возвратил мою шляпу, присовокупив к ней сопроводительную
записку с пространными извинениями. В них много выспренности, но мало
оригинальности и еще меньше грамотности. Даже фамилию мою он написал с
ошибкой: "Ор".
Зато шляпу привела в порядок рука опытного чистильщика. Страдалица
пахнет освежителем и выглядит новей, чем перед моим походом в "Дисси
Питтон". Я выношу ее на балкон и швыряю с размаху, и она улетает в серый
туман по нисходящей кривой, быстро, бесшумно и гордо, словно в невидимых
отсюда серых водах ее ждет какая-то почетная и важная миссия.
Мне вовсе не обязательно тут торчать я вообще блин куда угодно могу
сквозануть.
Тут в моем разуме в моем мозгу в моем черепе (и все кажется таким оч-)
нет (нет, потому что "все это кажется сейчас таким очевидным" - клише, а у
меня вжившаяся, въевшаяся, впитанная с материнским молоком ненависть к клише
(и кликам, и кличам). Кстати, насчет кличей - это я так, провожу точку (бред
с точки зрения математики, ведь если проводить точку, получишь линию, и
какая тогда, к чертям собачьим, точка?). В смысле, что это за точка, дьявол
ее побери? Где это я, о чем? (Дьявол побери и эти огни, и эти трубы, и все
это верчение-кручение, и все эти уколы-приколы, и вообще, трудно ли тут
сбиться с толку напрочь?
Обратная перемотка. Раньше, в начале, была проблема идентификации
разума-мозга. Ага! Га-га-га! Никакой проблемы (ф-фу-ух, как я рад, что все
уладилось!), разумеется, никакой проблемы, они же совершенно одинаковы и
абсолютно разные; я имею в виду че ежли твоя долбаная мозга не сидит в твоей
долбаной черепухе где еще нахрен ей сидеть? Или, может, вы из этих идиотов,
религиозных фанатиков?
(Тихо:) Нет, сэр.
Да уж конечно, "нет сэр". Окоп видите?
А насчет проведения точки - это стопроцентный верняк, точняк, хуяк, и в
яблочко, и я сим охеренио горд. Чего ж это я все ругаюсь-то? Пардон. Просто
я сейчас, видите ли, нахожусь под мощнейшим прессингом (точно сиська в
тигриных клыках // точно писька в железных тисках). В жизни у меня не все
благополучно, и я могу это доказать, позвольте только отмотаю...
Доставлен в больницу бригадой "скорой помощи". Над головой - огни.
Громадные белые звезды в небе. Быстрей на операцию, ситуация критическая,
о-ля-ля-ля, бля-бля-бля (а то она когда-нибудь не была для меня
критической?), состояние пациента стабильное (если чесна до миня это тока
натчало д'хадить). Быстрая перемотка вперед, т-р-р-р.
...Э народ вот че раз не хочете знать про мои пр'блемы (а уж мине-то
ваши точна до звизьды) так можа я свово др'гана пердьставлю эта мой старый
корефан чувак с децтва прашу любить и
Столица-призрак...
да не гони ты. Я уже гаварил мы с етим чупаком д'вно кореша и я ему
хочу дать наст'ящий
Столица-призрак. Настоящий город из...
Ну все все да па-аш'л ты валяй ...к'зел.
Столица призраков. Настоящий город из камня разных пород, серое царство
переулков и сквозняков. Город вперемежку стар и нов, будничен и праздничен.
Это громадный каменный пень между рекой и холмами. Замерзший поток времени,
истрескавшийся слиток самой материи древности.
Он остановился на Сайеннес-роуд - не по чьему-то совету, просто
название понравилось. Вдобавок отсюда было близко и до университета, и до
института. И даже, если прижаться лицом к оконному стеклу в холодной комнате
с высоким потолком, можно увидеть краешек Утесов - коричнево-серых складок
над шиферными крышами и городским дымом.
В памяти навсегда осталось чувство свободы, испытанное в том, первом,
году. Сам себе хозяин, что хочешь, то и делаешь. Впервые у него была
собственная комната и собственные деньги, и можно было их тратить по своему
усмотрению. Покупать еду, какая нравится, ходить, куда ноги несут, и вообще
распоряжаться собственной судьбой. Это было просто классно.
Его родной дом остался на западе страны, в ее промышленном сердце,
которое уже страдало аритмией, зарастало дурным жиром, испытывало
энергетический голод, наполнялось шлаками и угрожало вот-вот разорваться.
Вместе с ним жили мама и папа, братики и сестренки. У них был дом,
оштукатуренный с каменной крошкой, и клочок земли у подножия низкого холма.
Оттуда было рукой подать до паровозных дымов и увенчанных паровыми флажками
труб над депо, там работал его отец.
Еще отец держал на пустыре голубей. Соседи тоже понаставили там
голубятен, не меньше десятка. Сооружения эти все были высокие, бесформенные,
и места для них выбирали наобум, и строили их из ржавой жести, а красили
дешевым битумом. Летом он приходил туда помочь отцу или просто поглядеть на
воркующих птиц; на голубятне было очень жарко, и куда ни ткнись - всюду
перья. Но зато сумрачная клетушка, остро пахнущая голубями, казалась уголком
какого-то иного, таинственного мира.
В школе у него дела шли неплохо, хотя учителя говорили, что он мало
старается. Он облюбовал историю, всегда имел по ней пятерки, и этого ему
хватало. Если надо будет напрячься - он прибавит оборотов. Пока же он играл,
читал, рисовал и смотрел телевизор.
Отец получил тяжелую травму в депо и полтора года пролежал в койке.
Мать пошла работать на сигаретную фабрику, а старшие сестра и брат уже
достаточно выросли, чтобы присматривать за остальными детьми. Отец наконец
поправился, правда стал нервным и вспыльчивым, мать же перевели на неполный
рабочий день, а через несколько лет уволили по сокращению штатов.
Он любил папу, пока не стал немного стыдиться его, а заодно и всей
своей семьи. Отец интересовался только футболом и получкой, у него были
старые записи Гарри Лодера, и нескольких оркестров волынщиков, и он мог
прочитать наизусть с полсотни самых известных стихотворений Бернса.
Естественно, он был лейбористом, преданным навеки, но всегда настороже -
знаем мы этих политиканов, у всех у них, мол, рыльце в пушку. Он утверждал,
что ни разу не выпил больше стопака в компании тори, за возможным
исключением отдельных кабатчиков, которых он, дабы не подорвать авторитета
социалистического дела, предпочитал считать консерваторами, в крайнем случае
либералами. Либералов он полагал людьми серыми, заблуждающимися, но, в
сущности, безвредными. Он был мужик как мужик. Никогда не уходил от драки,
всегда был готов пособить другу-пролетарию, на футболе надрывал глотку, в
кабаке не оставлял кружку недопитой.
Мать в сравнении с отцом казалась бледной тенью. Она была рядом с
мальчиком, когда он в ней нуждался, стирала ему одежду, расчесывала ему
волосы, покупала ему разные вещи и обнимала, если он разбивал коленку. Но
как личность он ее так и не узнал.
С братьями и сестрами он ладил неплохо, но все они были старше (уже
почти взрослым он узнал, что родители его, позднего ребенка, не хотели) и
успели вырасти, прежде чем он достиг возраста, когда детям нужны товарищи
для игр. Родня его то терпела, то баловала, то шпыняла - в зависимости от
настроения. Он считал, что ему приходится нелегко, и завидовал детям из
малочисленных семей, но со временем понял, что все-таки чаще его прощают и
балуют, чем обижают и шугают. Ведь для папы и мамы он был их кровинкой,
родным сыночком. Причем талантливым - они бурно восторгались, когда он
правильно отвечал на вопросы телевикторин раньше участников. А еще гордились
его оценками в школе и даже немного удивлялись тому, что он прочитывает в
неделю две-три библиотечные книги. Они недолго улыбались, а потом долго
хмурились, когда он показывал школьный табель. Не обращали внимания на
четверки и даже тройки с минусом, но грозно стучали пальцем по двойкам (за
ЗБ - Закон Божий; не передать словами, в каком смятении ума он пребывал в те
годы - ведь отец был атеистом, но не спускал своим детям плохих оценок по
любому школьному предмету, и по ФК - он ненавидел физкультурника, который
платил той же монетой).
Потом родовое гнездо опустело, птенцы оперились и разлетелись кто куда.
Девицы вышли замуж, Сэмми забрали в армию, Джимми эмигрировал... Пожалуй,
удачливей всех оказалась Мораг, выйдя за менеджера по продаже оргтехники и
уехав в Берсден. Постепенно, за годы, он со всеми утратил связь, но не забыл
о том, какой спокойной, почти уважительной гордостью сквозили их
поздравления, телефонные, почтовые или при личной встрече. Вся семья
радовалась, когда его приняли в университет, хоть и удивлялась, что он
предпочел геологию, а не английскую филологию или историю.
Но в том году всеми его чувствами владел большой город. Глазго
находился слишком близко от его дома, "западная столица" оставила слишком
много детских воспоминаний, связанных с визитами к тетям и бабушкам. Это
была часть его жизни, часть его прошлого. Зато старая столица, город Эдвина,
Эдинбург, явилась для него новой чудесной страной. Эдем в полном расцвете,
Эдем до грехопадения, Эдем перед своим долгожданным прощанием с формальной
невинностью.
Здесь даже воздух казался другим, хоть дом и находился в каких-то
пятидесяти милях. Дни были изумительно солнечными, по крайней мере в ту
первую осень, и даже ветры с туманами были желанными; зной и холод он сносил
с радостью, с тщеславным стоицизмом, как будто все это специально для него -
закалка, тренировка, подготовка к главному.
Всякий раз, когда выдавалось свободное время, он знакомился с городом,
гулял пешком, ездил на автобусах, забирался на холмы и спускался по
лестницам, присматривался и запоминал. Он изучал кладку, планировку зданий и
иные архитектурные тонкости с тем же неуемным азартом, с каким
новоиспеченный помещик осваивает угодья. Он стоял на иззубренном
вулканическом останце, щурил глаза на ветру, вдыхал соленый аромат Северного
моря и охватывал взглядом городские просторы. Он прорывался через завесу
жалящего ливня, блуждал в заброшенных доках и прохаживался по морской
набережной; он петлял среди хаотичных нагромождений старых кварталов,
следовал четкой геометрии новых, в уютном тумане проходил под мостом
Дин-бридж, обнаружил в черте города настоящую деревню, и в ней еще теплилась
жизнь. Он шагал по знаменитой бурлящей улице в солнечные субботы, улыбался
укоренившемуся на скале замку, и его свите из колледжей и конторских зданий,
и замшелой куртине из жилых домов, что тянулась вдоль базальтового
позвоночника холма.
Он затеял сочинять стихотворения и песни; он насвистывал мелодии, ходя
по университетским коридорам.
Он познакомился со Стюартом Маки, невысоким, узколицым, спокойным и
рассудительным абердинцем, тоже студентом геофака. Они с друзьями решили
сделаться "альтернативными геологами" и прозвали себя рокерами. Они пили
пиво в "Юнионе" и пабах на Роуз-стрит и Ройал-майл, они курили анашу, а
кое-кто баловался и ЛСД. В ту пору магнитофоны исторгали "White
Rabbit"<"Белый кролик" (англ.)> и "Astronomy Domine".
И как-то вечером в Тринити он наконец лишился формальной невинности с
юной медсестрой из "Вестерн дженерал", чье имя забыл уже на следующий день.
С Андреа Крамон он познакомился в "Юнионе". В тот вечер он был со
Стюартом Маки и еще несколькими рокерами. Друзья ушли не попрощавшись,
отправились на Дэньюб-стрит, в популярный бордель. Потом оправдывались, мол,
засекли, что цыпа с гранитно-красными кудрями положила на него глаз, и
решили не обламывать другу кайф.
Андреа Крамон была коренная эдинбурженка, жила в полумиле от
родительского дома, величавого особняка, из тех, что окружают Морзй-плейс.
Она носила психоделические наряды, у нее были зеленые глаза, выдающиеся
скулы, "лотос-элан", четырехкомнатная квартира на Камли-бэнк, неподалеку от
Куинсферри-роуд, две сотни дисков и казавшийся неисчерпаемым запас денег,
шарма, ливанского каннабиса и сексуальной энергии. Он влюбился в нее чуть ли
не с первого взгляда.
При первой встрече, в "Юнионе", они разговаривали о реальности и
нереальности, о психических болезнях (она недавно прочла Лейнга), о роли
геологии (это уже его вклад в беседу), о новых французских фильмах (ее), о
стихах Т. С. Элиота (тоже ее), о литературе вообще (в основном - ее) и о
Вьетнаме (обоих). В тот вечер ей надо было ехать к родителям - у отца завтра
день рождения, а в семье есть традиция праздничным утром за завтраком вместе
пить шампанское.
Через неделю они едва не столкнулись друг с другом на верхней площадке
Уэйверли-степс. Он шел к вокзалу, чтобы поехать домой на выходные, а она
решила повидаться с друзьями, но сначала пройтись по магазинам и купить
что-нибудь к Рождеству. Они зашли в бар промочить горло, и промочили
неоднократно, а потом она пригласила его к себе домой - дернуть по косячку.
Он позвонил соседу, попросил, чтобы тот звякнул его родителям и предупредил,
что он задержится.
У нее дома нашлось виски. Они слушали пластинки "стоунзов" и Дилана;
они сидели на полу перед шипящим газовым камином, а за окнами сгущалась
тьма, и через некоторое время он поймал себя на том, что гладит ее длинные
рыжие локоны, а потом целует ее. Он снова позвонил соседу и сказал, что ему
надо дописывать курсовую и в эти выходные он к родителям приехать не сможет.
А она позвонила ждавшим ее друзьям и объяснила, что ей никак не вырваться к
ним на вечеринку. И выходные они провели в постели и перед шипящим газовым
камином.
И только через два года он признался, что издали заметил ее в толпе на
Норт-бридж, дважды прошел мимо и дважды вернулся, прежде чем намеренно
столкнулся с ней на лестнице; она была погружена в свои мысли и не смотрела
по сторонам, а он очень стеснялся и не мог остановить ее без какого-нибудь
предлога. Она рассмеялась.
Они выпивали, курили план, и занимались постельной акробатикой, и пару
раз вместе закидывались кислотой. Она поводила его по музеям и картинным
галереям и даже затащила в родительский дом. Ее отец был адвокатом -
высокий, седой, респектабельный, с зычным голосом и очками с линзами в форме
полумесяца. Мать Андреа Крамон была моложе мужа - седеющая матрона, но
элегантная и высокая, как ее дочь. Был старший брат, цивил цивилом, тоже
юрист. А еще Андреа окружало множество школьных друзей и подруг. Именно
из-за них он и застыдился своей родни, серого детства, акцента жителя
западного побережья и даже некоторых слов, укоренившихся в его речи чуть ли
не с рождения. Из-за этих людей он казался себе неполноценным, пусть не по
уму, но по воспитанию, словно кондовая деревенщина среди лощеных горожан. И
он начал постепенно меняться, он примеривал на себя разные личины и стили
поведения, искал среди них самые подходящие, самые близкие и ему, и тем, для
кого все это делалось. Он не изменял своему происхождению, воспитанию,
убеждениям, но был верен и всему тому, чем жила и дышала тогдашняя молодежь:
поветрию вселенской любви, надеждам на реальные перемены, на мир во всем
нашем говенном мире, жгучему желанию исцелить этот мир от безумной
алчности... Все это сплавлялось с его личной основополагающей верой: в
достижимость и податливость земли, окружающей среды, да вообще всего на
свете.
Но как раз эта вера и не давала ему полностью принять все остальное.
Одно время ему казалось, что мировоззрение отца слишком ограниченно,
втиснуто в узкие рамки географии, истории и классовой принадлежности. Друзья
Андреа были чересчур амбициозны, ее родители - чересчур самодовольны, а
Поколение Любви (он уже это чувствовал, хотя признать было нелегко) -
чересчур наивным.
Он верил в науки: математику и физику. Он верил в логику и постижимость
мира, в причину и следствие. Он любил элегантность и прозрачную
объективность научной мысли, которая начиналась словом "допустим", но затем
без каких-либо предрассудков и предубеждений выстраивала в определенную
цепочку твердые факты и получала неоспоримый вывод. Тогда как почти всякая
религиозная мысль начиналась с властного "верь", твердила этот императив на
каждом шагу и им же заканчивалась, и такое бездумное, упрямое вдалбливание
могло рождать лишь образы страха и угнетенности, подчинения чему-то
непостижимому в принципе, слепленному из бессмыслицы, призраков и древних
химер.
В том, первом, году не обошлось без проблем: он со страхом открыл, что
ревнует, когда Андреа спит с кем-нибудь другим. Он проклинал свое
воспитание, упорно внушавшее ему, что мужчине и положено ревновать, а
женщине непозволительно трахаться на стороне в отличие от мужчины. Он
спрашивал себя, не должен ли он, как порядочный, переселиться к Андреа или
снять квартиру, чтобы жить вместе с ней. И даже предложил, но разговор ни к
чему не привел.
То лето ему пришлось провести на западе страны. Он работал в
департаменте жилищно-коммунального хозяйства, сметал опавшую листву и
собачий кал с улиц Вест-Энда. Андреа была за границей, сначала с семьей в
вилле на Крите, а потом в Париже, гостила в семье какого-то своего друга.
Но, к его удивлению, в начале следующего учебного года они снова были
вместе, и все пошло почти как прежде.
Он надумал уйти с геологического. Но на ниве английской литературы и
социологии топталось, по его мнению, слишком уж много народу, и он решил
переключиться на что-нибудь полезное. Перевелся на факультет промышленного
дизайна. Кое-кто из друзей Андреа уговаривал его заняться английской
филологией, потому что о литературе он знал, казалось, все. Он научился умно
говорить о ней, а не просто получать удовольствие от чтения, а еще он писал
стихи. В том, что об этом все прослышали, была вина Андреа. Он не хотел
публиковать свои опусы, но она нашла в его комнате исписанные листы и
послала их своему приятелю в журнал "Радикальный путь". Когда она принесла
свежий помер журнала и торжественно помахала перед его носом, он был очень
смущен, но почти в той же степени горд. Да, он твердо решил принести
реальную пользу миру. Пускай приятели Андреа называют его водопроводчиком,
он от своего намерения не отступится. Со Стюартом Маки они остались
друзьями, но связь с прочими рокерами он потерял.
Иногда на выходных они с Андреа отправлялись в другой дом ее родителей,
стоявший чуть восточнее Галлана, среди дюн на берегу залива. Дом был
большой, светлый и просторный, к тому же рядом с площадкой для гольфа. Окна
глядели на серо-синие воды, на далекий берег Файфа. Они гуляли по пляжу и
дюнам, время от времени в каком-нибудь тихом, укромном уголке занимались
любовью.
Иногда в погожие, ясные дни они уходили в дальний конец пляжа и
поднимались на самую высокую дюну. Он верил, что оттуда можно увидеть
верхушки трех длинных красных пролетов Форт-бриджа. Этот мост произвел на
него неизгладимое впечатление, еще когда он был совсем малышом. Вдобавок
мост был того же цвета, что и ее волосы, о чем он повторял ей неоднократно.
Но моста они оттуда так и не увидели.
Она сидела, скрестив ноги, на полу, водила по длинным густым рыжим
локонам щеткой. Ее синее кимоно отражало свет камина. Чистые, еще не
высохшие после ванны лицо, ноги и руки тоже отливали желто-оранжевым. Он
стоял у окна, смотрел в заполненную туманом ночь. Ладони, точно оправа
водолазной маски, были приставлены к щекам, нос прижат к холодному стеклу.
- О чем задумался? - спросила она.
Он молчал некоторое время, затем отстранился от окна, задернул
коричневую бархатную штору, повернулся к Андреа и пожал плечами:
- Сплошной туман. Доехать-то можно, но ломает. Может, останемся?
Она медленно расчесывала волосы - рукой отводила пряди от наклоненной
головы и терпеливо, осторожно продирала сквозь них щетку. Он почти слышал,
как бродят мысли в ее голове. Был воскресный вечер. Надо бы запереть дом на
взморье и возвращаться в город. Утро выдалось туманное, и они весь день
ждали, когда развиднеется. Но туман только сгущался. Она позвонила
родителям. Оказалось, что, если верить метеоцентру, туман и в городе, и над
всем восточным побережьем. И ехать-то от Галлана всего миль двадцать, но при
такой паршивой видимости это долгий путь. Андреа очень не любила ездить в
тумане, а он, по ее мнению, водит слишком быстро, при любой погоде (на права
он сдал - на ее машине - всего полгода назад и любил быструю езду). В этом
году две ее подруги попали в аварию, обе легко отделались, но факт остается
фактом. Он знал, что она суеверна: непруха любит троицу и все такое. И ее
вдобавок просто не тянет возвращаться, хотя завтра утром у нее семинар.
Над поленьями в широком зеве камина играл огонь. Она медленно кивнула:
- Идет. Только я не знаю, хавка-то осталась?
- По фиг хавка. Дернуть-то есть чего? - спросил он, садясь рядом,
наматывая на палец прядь ее волос и ухмыляясь.
Она стукнула его по лбу тыльной стороной ладони:
- Наркот!
Он замяукал, повалился на пол, потерся головой о ковер. Видя, что это
не возымело действия - она по-прежнему спокойно расчесывала волосы, - сел
опять, спиной к ножкам кресла. Посмотрел на старую радиолу:
- Хочешь, опять "Wheels of Fire"<"Огненные колеса" (англ.)>
поставлю?
Она отрицательно покачала головой:
- Не-а...
- "Electric Ladyland"<"Электрическая страна женщин" (англ.)>, -
предложил он.
- Лучше что-нибудь старенькое. - Она погрустнела, глядя на складки
коричневых бархатных штор.
- Старенькое? - Он изобразил отвращение.
- Ага. Есть "Bringing It All Back Home"?<"Все возвращая домой"
(англ.)>
- А, Дилан... - Он потянулся и провел пальцами по своим
длинным волосам. - Кажись, не захватили. Хотя - гляну. - (Они привезли с
собой целый чемодан пластинок.) - Гм... фигушки, пролет. Еще какие будут
предложения?
- Сам выбери. Из старенького. У меня ностальгия по добрым старым
временам. - Она рассмеялась.
- Это сейчас добрые старые времена.
- Когда Прагу давили танками, а Париж - нет, ты совсем по-другому пел,
- упрекнула она.
Он глубоко вздохнул, глядя на потрепанные конверты дисков:
- Да, знаю.
- И когда избрали этого милашку Никсона, ты тоже совсем по-другому пел,
и когда мэр Дейли...
- Все, все. Что поставить-то?
- Ну пусть будет снова "Ladyland", - вздохнула она.
3азвучала музыка.
- Хочешь, съездим поедим? - спросила она.
Голода он вроде бы не чувствовал. Как и искушения покинуть уют
загородного дома, нарушить интим. Да и эти посиделки в кафе... Неудобно,
ведь платила каждый раз Андреа.
- Да ладно... - пробурчал он, наклонился и сдул пыль с иглы под тяжелым
бакелитовым тонармом. Он уже перестал шутить насчет этой старой радиолы.
- Посмотрю в холодильнике, может, осталось что-нибудь. - Она поднялась
с пола, оправила кимоно. - И в сумке вроде есть заначка.
- Во, ништяк! - обрадовался он. - Щас кайфовый косячок забью!
В тот день она позвонила родителям, обещала вернуться завтра. Потом они
играли в карты. Потом она взялась ему погадать и достала колоду Таро. Она
интересовалась Таро, астрологией, солнечными знамениями и пророчествами
Нострадамуса. Всерьез ни во что такое не верила, просто любопытствовала. Он
считал, что это еще хуже, чем безоглядно верить в такие вещи.
Своими подковырками он ее наконец разозлил. Она плюнула и уложила карты
в коробку.
- Я просто хочу разобраться в том, как это действует, - попытался он
объяснить.
- Зачем?
Она вытянулась рядом с ним на кушетке, взяла конверт от пластинки, на
котором только что раскладывала карты.
- Зачем? - рассмеялся он. - Да затем, что это единственный способ
проникнуть в суть явления. Во-первых, действует эта фигня или нет. А
во-вторых, если действует, то каким образом?
- Милый, а тебе не приходило в голову, - лизнула она краешек
прямоугольника папиросной бумаги, - что, может быть, не все на свете
поддается рациональному объяснению? И не все на свете можно перевести на
язык математических уравнений?
Эту тему они мусолили регулярно: что важнее, логика или чувства. Он
верил во что-то вроде единой теории поля применительно к сознанию. Все
поддается анализу: и эмоции, и чувства, и логическое мышление. И как ни
противоречивы составные части, как ни разнятся гипотезы и результаты -
действуют они по одним и тем же фундаментальным принципам. Все на свете
удастся постигнуть, это лишь дело времени и кропотливого труда
исследователей. И это казалось таким самоочевидным, что понять чужую точку
зрения бывало порой выше его сил.
- А знаешь, - сказал он, - если бы от меня зависело, я бы запретил
всем, кто верит в астрологию, Библию, чудесное исцеление и прочую
хиромантию, пользоваться электричеством, автомобилями, поездами, и
самолетами, и пластмассовыми вещами. Мракобесы втемяшили себе в башку, что
вселенная живет по их кретинским законам. Это их дело, пусть тешат себя
иллюзиями. Но как они тогда, блин, смеют прикасаться к плодам чистого
человеческого гения, к тому, чего ценой тяжкого труда добились люди
несравненно лучше их? Да кто возьмется перечислить все те вещи, которых
сейчас не было бы вокруг нас, если бы не нашлись люди здравомыслящие и
упорные... Да хватит стебаться!
Он посмотрел на нее со злостью. Она беззвучно смеялась, не донеся до
губ очередную бумажку, розовый язычок вибрировал. Она повернула к нему
голову, блеснула глазами и протянула руку:
- Ты такой смешной иногда...
Он взял ее руку, церемонно поцеловал:
- Мадам, я счастлив, что сумел вас позабавить.
Но ему вовсе не казалось, что он ляпнул смешное. Почему же она слушает
и потешается? Он был вынужден признать, что никогда не понимал ее до конца.
Он вообще не понимал женщин. И мужчин. И даже дети оставались для него
загадкой. По-настоящему он понимал (или ему это казалось) только себя - и
остальную вселенную. Естественно, и себя, и вселенную он понимал не до
конца, однако все же достаточно, чтобы полагать: всему непознанному со
временем найдется объяснение, найдется место - как в картинке-головоломке,
только без конца и без края. В бесконечной вселенной для любого фрагмента
найдется своя дырка.
Однажды, когда он был еще совсем маленьким, папа привел его в депо. Там
ремонтировались локомотивы. Папа всюду водил его, показывал, как разбирают и
собирают, скоблят и моют громадные паровозы. И ему запомнилось, как один из
них проверяли на холостом ходу. Локомотив ревел на полной мощности, и под
ним выла шеренга притопленных стальных цилиндров. Колеса высотой в
человеческий рост превратились в расплывчатые пятна, клепаный корпус дышал
жаром, в клубах пара стремительно мельтешили спицы. Поршни, рычаги,
соединительные стержни - все это вспыхивало под лучами осветительных ламп, а
дым из паровозной трубы выстреливал порциями в огромную клепаную вытяжку.
Ужасный шум, дьявольская мощь, неописуемый восторг. Он одновременно
переживал страх и экстаз, он был потрясен и благоговел перед этой
невероятной мощью, сосредоточенной в стальном механизме.
Эта сила, эта управляемая, приносящая пользу человеку энергия, этот
металлический символ всего, что может быть создано, если соединить труд,
материю и сознание, остались в нем звучать на долгие годы. Он просыпался
ночью в поту, прислушивался к своему тяжелому дыханию, чувствовал бешеное
сердцебиение и не понимал, что его разбудило: страх, восторг или и то и
другое. Увидев тот ревущий на месте паровоз, он твердо поверил лишь в одно:
нет ничего невозможного. Ему так и не удалось найти удовлетворительное
объяснение этой вере, и он даже не пытался заговаривать об этом с Андреа.
Она подала ему самокрутку и зажигалку:
- Справишься?..
Он раскурил косяк, пустил в ее сторону колечко дыма. Она засмеялась и
отогнала от своих непросохших волос зыбкое серое ожерелье.
Они докурили весь план с примесью опиума. У них была коробка пирожных,
и еще она сделала незабываемый (для него) и неповторимый (для нее) омлет, и
потом они, хихикая и посмеиваясь, пошли в ближайшую гостиницу, чтобы до
закрытия пропустить в баре по стаканчику, и потом они, хихикая и
посмеиваясь, пошли домой. По пути сначала поглаживали друг дружку, потом
обнимались, потом целовались, в конце концов перепихнулись на траве у
дороги. В тумане никто их не заметил, но было очень холодно, и поэтому они
торопились. А в двадцати футах раздавались голоса и часто мелькали лучи
автомобильных фар.
В доме они растерлись полотенцами, согрелись, и она скрутила еще
косячок, а он прочел оказавшуюся на журнальном столике газету полугодичной
давности и посмеялся над событиями, которые кому-то казались тогда важными.
Они забрались в постель, допили привезенный Андреа "Лафроайг", а потом
сидели и пели "Wichita Lineman"<"Путевой обходчик из Унчиты" (англ.)>,
"Ode to Billy Joe"<"Ода Билли Джо" (англ.)> и т.д., только с
переиначенными на шотландский лад топонимами, вне зависимости от того,
укладывалось в размер или нет ("Я путевой обходчик на Каунти-каунселл...",
"...И сбросил их в мутные воды с Форт-роуд-бридж...").
В понедельник он вел в тумане "лотос", надеясь добраться в Эдинбург до
ленча. Ехал медленней, чем хотелось бы ему, но быстрей, чем хотелось бы ей.
В пятницу он придумал начало стихотворения и теперь пытался сочинять прямо
за рулем. Но концовка никак не складывалась. Стихотворение было особенное -
дерзкий вызов рифмовке и любовным песенкам, ему давно осточертело это "любя
- тебя" и слюнявая околесица про верность, которая живет дольше, чем горы и
океаны (горы - взоры - разговоры, океаны - капитаны - романы)...
Леди, ваша нежная кожа, ваши кости, как и мои,
В пыль превратятся еще до рождения новой горы.
Не океаны, не реки, а разве что жалкий ручей
Высохнет прежде наших глаз и наших сердец.
Но к этим строчкам в тумане ему не удавалось добавить ничего.
Эхо эху рознь. У некоторых вещей его больше, чем у других. Иногда я
слышу последний отголосок всего того, что вообще не дает эха - потому что
звуку не от чего отразиться. Это голос полного небытия, и он с грохотом
проносится через огромные трубы - трубчатые кости моста, - как ураган, как
бздеж Господень, как все крики боли, собранные на одной магнитофонной
кассете. Да, я слышу ceй ушераздирающий, череполомный, костедробительный и
зубокрушитсльный грохот. Да и какой еще мотив способны исполнять эти
органные трубы - безразмерные, сверхпрочные, непроглядные чугунные туннели в
небесах?
Только мотив, сочиненный специально для конца света, для конца любой
жизни. Для конца всему сущему.
А остальное?
Не более чем зыбкие контуры. Рисунки из теней. Экран не серебрист, а
темен. Заставь замереть эту убогую фальшивку, если хочешь понять, что к
чему. Следи за прелестными красками: вот они неподвижны, вот снова
шевелятся. Варятся, парятся, булькают, брызгают. И скручиваются от жара, и
шелушатся - как будто разлепляются чьи-то разбитые губы, и этот образ
отступает под натиском чистого белого света (видишь, малыш, что я для тебя
делаю?).
Нет, я не он. Я всего лишь наблюдаю за ним. Это случайный встречный,
человек, которого я когда-то знал.
Думаю, я с ним еще увижусь. Позже. Всему свое время.
Сейчас я сплю, но... Да, сейчас я сплю. И этого достаточно.
Нет, я не знаю, где я.
Нет, я не знаю, кто я.
Да, конечно, я знаю: все это - сон.
А что не сон?
Ранним утром налетает ветер и разгоняет туман. Я, не разлепив толком
глаз, одеваюсь и пытаюсь вспомнить сны. Но даже не уверен, что сегодня ночью
мне что-то снилось.
В небе над водой туман медленно поднимается, открывает моему взору
серые силуэты огромных раздутых пузырей. Сколько хватает глаз, вдоль мостя
висят аэростаты воздушного заграждения.
Их, наверное, сотни. Они плавают в воздухе вровень с крышей, а то и над
нею. Частью они заякорены на островах, частью принайтовлены к траулерам и
другим судам.
Последние сгустки тумана уходят вверх, рассеиваются. Броде бы денек
будет недурной. Аэростаты слаженно колышутся в небе, напоминая даже не стаю
птиц, а скорее косяк исполинских серых китов, чьи могучие тела медленно
дрейфуют в ласковых атмосферных течениях. Я вжимаю лицо в холодное оконное
стекло, осматриваю море и горизонт, приглядываюсь под самым острым, каким
только возможно, углом к расплывчатому боку моста. Аэростаты везде,
пересекают все небо, до ближайшего каких-то сто футов, до других - несколько
миль.
Наверное, это для того, чтобы предотвратить новые авиарейды. Реакция,
как по-моему, несоразмерная угрозе.
Приподнимается заслонка над щелью для почты, на ковер падает письмо.
Это приглашение от Эбберлайн Эррол. Нынче утром она хочет порисовать на
сортировочной станции в нескольких секциях отсюда, и не соблаговолю ли я
составить ей компанию?
Похоже, и вправду денек намечается приятный.
Я вспоминаю, что надо отправить письмо доктору Джойсу, написанное после
того, как я избавился от шляпы. Пусть добрый доктор узнает, что я бы хотел
отложить сеанс гипноза. Примите мои извинения, уверяю, что буду рад в любое
время встретиться с вами и обсудить мои сны, тем более что они в последнее
время более связные, а стало быть, лучше подходящие к изначально выбранной
вами методике.
Я кладу оба письма в карман и гляжу напоследок в окно. Аэростаты
медленно покачиваются в утреннем свете, как будто это огромные швартовные
бочки плавают на какой-то невидимой снизу поверхности.
Кто-то стучит в дверь. Хотелось бы надеяться, что это ремонтник -
явился чинить телевизор, или телефон, или и то и другое. Поворачиваю ключ и
пытаюсь отворить дверь, но не тут-то было. Стук повторяется.
- Да? - спрашиваю, дергая за ручку.
- Пришел взглянуть на ваш телевизор! - отвечает с той стороны мужской
голос. - Это мистер Орр?
Я воюю с дверью. Ручка поворачивается, дверь не открывается.
- А? Мистер Дж. Орр? - кричат снаружи.
- Да, да. Подождите секундочку, никак не открыть чертову дверь.
- Хорошо, мистер Орр.
Я тяну, дергаю ручку, кручу ее, трясу. До сих пор даже ни намека не
подавала, стерва, что с ней не все ладно. Может, в этой квартире все с
полугодовым сроком годности?
Начинаю злиться.
- Мистер Орр, вы уверены, что отперли дверь?
- Да, - пытаюсь говорить спокойно.
- И тем ключом, каким положено? Уверены?
- Абсолютно! - кричу.
- Я просто на всякий случай спросил. - Голос снаружи мне кажется
насмешливым. - А вы не меняли дверь, мистер Орр?
- Нет! Нет, не менял.
- Тогда я вот что вам посоветую. Просуньте ключ в прорезь для почты, а
я попробую отпереть с этой стороны.
Он пробует. Ничего не получается. Я отхожу к окну, глубоко дышу и гляжу
на скопище аэростатов. Затем возвращаюсь и слышу невнятный разговор за
дверью.
- Мистер Орр, это телефонный мастер, - докладывает другой голос. - У
вас что-то с дверью?
- Он открыть не может, - отвечает первый голос.
- А вы точно отомкнули? - спрашивает телефонист. Дверь трясется. Я
молчу.
- А у вас тут нет другого входа? - кричит второй.
- Я его уже спрашивал, - говорит первый. Снова стук в дверь.
- Что? - спрашиваю.
- У вас есть телефон, мистер Орр? - интересуется телевизионщик.
- Ну конечно же есть! - возмущенно отвечает спец по телефонам.
- Мистер Орр, а знаете что? Позвоните в "Помещения и коридоры", там
дежурят ре...
- Да как он позвонит?!! - не может поверить своим ушам телефонист. - Я
же для чего, по-твоему, пришел? Чинить его телефон.
Я возвращаюсь к окну - пока телефонный мастер не предложил мне включить
телевизор, чтобы скоротать время.
Проходит еще час. Появляется дворник и сносит все наличники вокруг
двери. Наконец та просто щелкает без предупреждения, и он с удивлением,
переходящим в мнительность, - стоит в изувеченном проеме, посреди ломаного
дерева и дробленой штукатурки. Остальные мастера ушли по своим делам. Я
выхожу из квартиры, перешагивая через планки с согнутыми гвоздями.
- Спасибо, - говорю дворнику. Он чешет себе затылок
молотком-гвоздодером.
Я отправляю письмо доктору Джойсу, потом покупаю фрукты, это будет
что-то вроде завтрака. Из-за всех проволочек есть серьезная опасность
опоздать на свидание с мисс Эррол.
Вагон, в котором я еду, битком набит людьми, и все обсуждают появление
аэростатов. У большинства - никаких догадок, с чего бы это вдруг. Когда
трамвай выезжает из секции на малозастроенный соединительный пролет, мы все
дружно поворачиваем головы - взглянуть на баллоны. Я потрясен.
Они только с одной стороны! Вниз по течению такая прорва аэростатов,
что просто глазам не верится! Вверх по течению - ни одного. Все остальные
пассажиры таращатся и показывают пальцами на скопище аэростатов, кажется,
один лишь я обалдело гляжу в противоположную сторону, на незапятнанные
небеса. За перекрестьями балок соединительного пролета - ни единого, даже
самого захудалого аэростатишки.
- Доброе утро.
- И еще какое доброе, правда? Вам того же. Как голова?
- Голова в порядке. А как ваш нос?
- Такой же распухший. Но хоть не кровоточит. О, ваш платок.
Эбберлайн Эррол сует руку в карман жакета, достает мой платок. Он
отстиран и накрахмален до хруста.
Мисс Эррол только что прибыла на служебном путейском поезде.
Мы на сортировочной станции, это самый широкий участок моста, по
крайней мере в известных мне пределах. Некоторые запасные пути выступают на
широких платформах с кронштейнами за края основной конструкции. Огромные
локомотивы, длинные составы из разнообразных вагонов, коренастые маневровые
паровозы, хрупкие дрезины - все это шипит, лязгает и ездит вперед-назад
среди невообразимого скопища рельсов, платформ, семафоров и стрелок,
напоминая фишки в некой грандиозной медленной игре. В утреннем свете
клубится пар, в лучах не погашенных с ночи дуговых ламп на фермах витает
дым. Мельтешат люди в форме, кричат, размахивают цветными флажками, дуют в
свистки и что-то тараторят в расставленные вдоль путей телефоны.
Эбберлайн Эррол сегодня в длинной серой юбке и коротком сером жакете,
волосы убраны под кепи строгого покроя. Она здесь для того, чтобы изобразить
весь этот хаос. Ее вольные эскизы и акварели на железнодорожную тематику уже
попали в некоторые административные кабинеты и фойе, она считается
перспективным художником.
Мисс Эррол отдает мне носовой платок. В ее позе, в ее глазах что-то
необычное. Я гляжу на отстиранный платок и засовываю его в свободный карман.
Мисс Эррол улыбается, но не мне, а своим мыслям. Испытываю тревожное
ощущение, будто я что-то упустил.
- Спасибо, - говорю.
- Мистер Орр, можете понести мой этюдник. На прошлой неделе я его здесь
оставила.
Мы пересекаем несколько путей, направляясь к небольшому навесу ближе к
центру широкой, обнесенной перилами платформы. Вокруг нас медленно движутся
взад и вперед сцепленные вагоны и спаренные локомотивы, в других местах
паровозы медленно погружаются под настил - массивные платформы уносят их в
ремонтные цеха ярусом ниже.
- И что вы думаете насчет этих загадочных аэростатов, мистер Орр? -
спрашивает Эбберлайн Эррол по дороге.
- Наверное, они должны препятствовать самолетам. Хотя никак не возьму в
толк, почему только с одной стороны моста.
- Никто этого тоже не понимает, - произносит она задумчиво. - Скорее
всего очередная бюрократическая путаница. - Она глубоко вздыхает. - Даже мой
отец ничего об этом не слышал, а он обычно очень хорошо информирован.
Под навесом она отыскивает свой этюдник, и я переношу его к указанному
мне наблюдательному пункту. Судя по всему, объектом изображения мисс Эррол
выбрала громоздкий подъемник для локомотивов. Она устанавливает этюдник,
рядом с ним - складной стульчик; раскрывает сумку, и я вижу баночки с
красками и набор карандашей, угольков, восковых мелков. Она задумчиво
смотрит на них и выбирает длинный уголек.
- Никаких новых последствий нашей маленькой аварии, мистер Орр? -
интересуется она и проводит черту на сероватой бумаге.
- Устойчивая нервозность при звуках бегущего рикши, а больше ничего.
- Надеюсь, это лишь временный симптом. - Она меня одаривает совершенно
сногсшибательной улыбкой и снова поворачивается к мольберту. - Помнится, мы
говорили о путешествиях, прежде чем нас так грубо прервали. Не правда ли?
- Да, и я как раз хотел спросить, как далеко вам приходилось ездить.
Эбберлайн Эррол добавляет к линии несколько кружков и дужек.
- До университета, - отвечает она, быстро рисуя несколько
пересекающихся штришков. - Это примерно... - Она пожимает плечами: - Сто
пятьдесят... двести секций отсюда. В сторону Города.
- А вы... случайно, не видели оттуда землю?
- Землю, мистер Орр? - оборачивается она ко мне. - Боже, да вы
амбициозны. Нет, землю я не видела, если не считать обычных островов.
- Так вы считаете, Королевства не существует? И Города?
- Ну что вы! Надеюсь, они где-то есть. - И рисует новые линии.
- И у вас никогда не возникало желания взглянуть на них?
- Не могу утверждать, что возникало. По крайней мере, с тех пор, как
мне расхотелось стать машинистом.
Она выбирает на бумаге участок и начинает его затенять. Я вижу
изгибающуюся сводом шеренгу иксов, слабые контуры окутанных облаком секций.
Рисует она быстро. На фоне ее бледной изящной шеи - несколько выбившихся
из-под кепи черных завитков, словно вычурные буквы незнакомого алфавита на
кремовой бумаге.
- Видите ли, - говорит она, - когда-то я была знакома с инженером,
причем высокопоставленным. Так вот, он считал, что мы живем вовсе не на
мосту, а на одинокой громадной скале в центре непроходимой пустыни.
- Хм... - говорю, не зная, как еще на это реагировать. - Возможно, для
каждого из нас это что-то иное? А вам что видится?
- То же, что и вам, - на миг поворачивается она ко мне. - Обалденно
здоровенный мостище. А что, по-вашему, я тут изображаю?
- Оскорбленную невинность? - с улыбкой предполагаю я. Она смеется:
- А вы, мистер Орр?
- Наигранный пафос.
Она одаривает меня одной из своих ослепительных улыбок и
сосредоточивается на работе, затем ненадолго поднимает рассеянный взгляд:
- Знаете, чего мне после университета не хватает?
- Чего?
- Звезд. - Она задумчиво качает головой. - Здесь слишком светло, и они
плохо видны. Конечно, можно уплыть подальше в море... А университет воткнули
между агросекциями, и там довольно темные ночи.
- Агросекции?
- Вы что, не знаете? - Эбберлайн Эррол встает, складывает руки на груди
и отходит на несколько шагов от мольберта. - Это где еду выращивают.
- Да, понял.
Мне и в голову не приходило, что какие-то секции моста могут служить
для сельского хозяйства, хотя технически это, наверное, легко осуществимо.
Для многоярусной фермы, мне думается, нужны защита от ветра и система зеркал
для передачи света, их соорудить тоже несложно. Так что мост, должно быть,
полностью обеспечивает себя пищей. Мое предположение, что его протяженность
ограничена временем, необходимым поезду для доставки продовольствия, теперь
выглядит несостоятельным. То есть мост может иметь любую длину, какую ему
только заблагорассудится.
Моя собеседница зажигает тонкую сигару. Нога в сапожке постукивает по
металлическому настилу. Эбберлайн Эррол поворачивается ко мне, снова
складывает руки под обтянутой блузкой и жакетом грудью. Подол ее юбки
качается, облепляет ноги. Это плотная, дорогая ткань. К ароматному сигарному
дыму примешивается легкий запах дневных духов.
- Так что же, мистер Орр?
Я рассматриваю уже законченный рисунок.
На бумаге была сначала вчерне набросана, а затем подвергнута
фантастической метаморфозе широкая платформа сортировочной станции. Передо
мной - необъятные адские джунгли. Рельсы и шпалы превратились в ползучие
лианы, поезда - в кошмарных узловатых тварей, напоминающих огромные личинки
или гниющие поваленные деревья. Фермы и трубы наверху трансформировались в
ветви и сучья; они исчезают в дыму, что курится над нижним ярусом
растительности. Один паровоз обернулся рыкающим огнедышащим драконом, от
него убегает человечек. Его крошечное лицо едва различимо, но видно, что оно
искажено ужасом.
- Очень... своеобразно, - по некотором размышлении говорю я. Она тихо
смеется:
- Вам не нравится?
- Боюсь, у меня слишком... натуралистические вкусы. Но мастерство
впечатляет.
- Да, я знаю.
У нее бодрый голос, но лицо кажется чуть опечаленным. Я жалею, что
набросок не понравился мне чуть больше.
Но до чего же широка эмоциональная гамма у серо-зеленых глаз мисс
Эбберлайн Эррол! Сейчас они смотрят на меня едва ли не сочувственно! И я
думаю о том, что мне очень нравится эта молодая леди.
- А ведь я специально для вас старалась. - Она вынимает из сумки
тряпку, стирает угольные следы с рук.
- Правда? - Я откровенно польщен. - Вы очень добры.
- Спасибо. - Она снимает лист с этюдника и скатывает в трубку. - Можете
делать с этим все, что угодно, - говорит она. - Хоть бумажный самолетик.
- Ну что вы! - Я принимаю подарок. Такое чувство, будто мне вручили
диплом. - Я его в рамку и на стенку. И он уже гораздо больше мне нравится,
ведь я теперь знаю, что это вы специально для меня.
Отъезд Эбберлайн Эррол опять выглядит эффектно. На этот раз она
остановила дрезину инженера-путейца - изящную, с красивыми стеклами и
панелями, битком набитую сложными, но устаревшими инструментами. Внутри -
сплошь медный блеск, позвякиванье противовесов, шуршание бумажных рулонов и
стрекот самописцев. С шипением и громыханием дрезина тормозит, дверь
складывается гармошкой, и молодой охранник отдает честь мисс Эррол, которой
угодно позавтракать с отцом. Я стою и держу этюдник, мне велено снова
спрятать его под навесом. Ее сумку распирают свернутые в рулон наброски -
она рисует на заказ. Отдав мне картинку с джунглями, она занялась тем, ради
чего, собственно, и приехала. Правда, за работой она не прекращала
разговаривать со мной. Уже поставив ногу на верхнюю ступеньку подножки, она
протягивает мне руку:
- Спасибо за помощь, мистер Орр.
- Спасибо за рисунок, - пожимаю я ее кисть. Впервые между подолом юбки
и сапожком мелькает чулок - тонкая черная сеточка.
Я сосредоточиваюсь на глазах Эбберлайн Эррол. В них - веселые блестки.
- Надеюсь, мы еще увидимся.
Гляжу на изящные припухлости под серо-зелеными глазами. И тут сеточка!
Неужели я попался в эти прекрасные тенета? Голова кружится от нелепой
эйфории. Мисс Эррол сильнее жмет мою руку:
- Что ж, мистер Орр, если я наберусь храбрости, то, может, и не
откажусь, если вы пригласите меня на ужин.
- Это будет... в высшей степени приятно. Надеюсь, вы отыщете в себе
неисчерпаемые запасы храбрости, и в самое ближайшее время. - Я отвешиваю
легкий поклон и в награду получаю еще один шанс мельком увидеть
пьяняще-чарующую ножку.
- Коли так, до свидания, мистер Орр. Не пропадайте.
- Не пропаду. До свидания.
Дверь закрывается, дрезина лязгает и шипит. Ее прощальный пар окутывает
меня, клубится вокруг, словно туман, и у меня слезятся глаза. Я вынимаю
платок.
На нем появилась монограмма. В уголке мисс Эррол приказала вышить
изящное "О" голубой шелковой нитью.
Как это мило! Нет, я и впрямь попался в сеть! А эти несколько дюймов
восхитительной женской кожи под черным шелком!
После ленча мы с Бруком сидим в "Дисси Питтоне" на подвесных скамьях у
окна, попиваем подогретое вино с пряностями и глядим на поредевший
рыболовецкий флот. Уходящие траулеры трубят, минуя своих собратьев, что
застыли на противовоздушной вахте.
- Вряд ли стоит тебя за это упрекать, - ворчит Брук. - Я тоже
сомневаюсь, что этот деятель медицины способен кого-нибудь вылечить. - (Я
уже рассказал мистеру Бруку, что решил не соглашаться на гипноз у доктора
Джойса. Мы оба глядим на море.) - Чертовы пузыри! - зло высказывается мой
приятель, подразумевая надоевшие аэростаты. Они серебристо отсвечивают в
лучах солнца, их тенями регулярно испятнаны серые воды - налицо еще одна
явная система.
- А мне казалось, ты - за... - Но я тут же умолкаю, хмурюсь и напрягаю
слух. Брук оборачивается ко мне:
- Не мое это дело - быть за или против... Орр?
- Тсс! - шиплю.
Я сосредоточиваюсь на далеком звуке, потом отворяю большое окно. Брук
встает. Уже отчетливо слышен гул приближающихся самолетов.
- Только не говори, что опять летят эти проклятые штуковины! - кричит
за моей спиной Брук.
- Так ведь летят.
В поле зрения появляются самолеты, ниже, чем в прошлый раз, средняя
машина - почти на одном уровне с "Дисси Питтоном". Они направляются в
сторону Королевства тем же вертикальным строем, что и прежде. И снова каждый
двигатель выпускает маслянистый дым, порцию за порцией, и в воздухе зависают
длиннейшие гирлянды темных пятен. Серебристо-серые фюзеляжи не несут никаких
опознавательных знаков. Фонари кабин блестят в солнечных лучах. Тросы
аэростатов, по всей видимости, лишь чисто символическое препятствие для
самолетов - они летят в четверти мили от моста, где тросов особенно много,
но только раз мы замечаем, что звену пришлось свернуть, огибая преграду. Гул
пропадает вдали, остается дым.
Брук с размаху бьет кулаком о ладонь:
- Сволочи наглые!
Ровный морской ветерок медленно несет гирлянды дымовых пятен к мосту.
После двух энергичных партий в теннисном клубе я звоню в столярную
мастерскую, где делают рамы для картин. Рисунок мисс Эррол накладывают на
фанеру, покрывают небликующим стеклом и во второй половине дня возвращают
мне.
Я подыскиваю для подарка местечко, где он будет ловить утренний свет, -
над книжной полкой, сбоку от уже починенной входной двери. Когда я поправляю
картинку на стене, включается телевизор.
На экране все тот же мужчина в окружении больничной аппаратуры. На его
лице - никакого выражения. Но освещение чуть изменилось, в палате стало
темней. Скоро надо будет заменить капельницу. Я смотрю на бледное, дряблое
лицо. Хочется постучать по экрану, разбудить бедолагу, но вместо этого я
выключаю телевизор. Есть ли смысл проверять телефон? Поднимаю трубку. Все те
же ровные, короткие гудки.
Я решаю отобедать в баре при теннисном клубе.
Как уверяет тамошний телевизор, официальная версия появления самолетов
такова: кому-то где-то в другой части моста приспичило вдруг устроить
дорогостоящий розыгрыш. Но сегодняшний инцидент показывает, что "оборону" из
аэростатов необходимо усилить (и ни слова о том, почему "обороняется" только
одна сторона моста). Ведутся поиски ответственных за эти несанкционированные
полеты. Администрация просит всех нас проявлять бдительность. Я отыскиваю в
баре знакомого журналиста.
- Ничего не могу к этому прибавить, - разводит он руками.
- А как насчет Третьей городской библиотеки?
- В наших архивах о ней никаких сведений. На том уровне был не то
пожар, не то взрыв, но уже давно. А ты уверен, что два дня назад, а не
раньше?
- Вполне.
- Ну, может быть, до сих пор тушат... - Он щелкает пальцами. - О, могу
сказать то, чего в новостях не было.
- Давай.
- Установлено, на каком языке пишут самолеты.
- И на каком?
- На Брайле.
- Что-что?
- Азбука Брайля, язык слепых. Текст местами расшифрован - полная чушь.
Но что Брайль - это точно.
Я откидываюсь в кресле, напрочь сбитый с толку уже во второй раз за
этот день.
Я стою над болотистой, чуть всхолмленной тундрой, она простирается
передо мной к горной гряде под серым, невзрачным небом. Землю овевает
холодный порывистый ветер, он теребит и вздувает мою легкую одежду,
пригибает жесткую низкорослую траву и вересковый кустарник.
Тундра полого уходит вниз, тает в серой дали - там склон постепенно
набирает крутизну. Монотонность и унылость травянистой пустоши нарушается
лишь одним - узкой влажно блестящей полоской. Это что-то вроде канала.
Студеный ветер гонит рябь по поверхности воды.
С гряды раздается далекий звук паровозного гудка.
Вдоль горизонта виден серый дым, гонимый и терзаемый ветром. Над
гребнем появляется поезд. Он приближается, и снова звучит гудок, резко и
гневно. Черный паровоз и несколько темных вагонов образуют смутно различимую
черточку, и она движется прямо на меня.
Я опускаю взгляд. Я стою между рельсами железнодорожного пути. Две
тонкие серебристые линии ведут от меня к приближающемуся поезду. Делаю шаг в
сторону и снова опускаю глаза. Я по-прежнему между рельсами. Снова шаг в
сторону. Железнодорожный путь преследует меня.
Рельсы словно ртутные: я движусь, и они движутся. Я все еще между ними.
Снова верещит гудок поезда.
Я делаю еще шаг вбок, и снова смещаются рельсы. Кажется, будто они
скользят по поверхности тундры самопроизвольно, не встречая сопротивления. А
поезд все ближе.
Я пускаюсь бежать, но рельсы не отстают, один всегда впереди, другой
всегда за моей спиной. Пытаюсь остановиться, падаю, качусь кувырком, но я
все еще между рельсами. Встаю и бегу в другую сторону, навстречу ветру; в
легких бушует огонь. А рельсы скользят впереди и позади. Поезд уже совсем
рядом, он снова ревет. Ему нипочем все крутые повороты, все зигзаги, которые
появляются на железнодорожном пути из-за моего лавирования, из-за моих
судорожных метаний. А я все бегу, я взмок от пота, охвачен ужасом, не верю,
что это со мной происходит на самом деле, но рельсы слаженно скользят,
выдерживают неизменную дистанцию. Состав надвигается, оглушительно ревет
гудок.
Трясется земля. Звенят рельсы. Я кричу и обнаруживаю рядом канал. И за
миг до того, как меня бы настиг локомотив, я бросаюсь в неспокойную воду.
Под ее поверхностью, оказывается, есть воздух. Я тону в густом тепле,
медленно переворачиваюсь лицом вверх, вижу нижнюю поверхность воды, она
блестит, как масляное зеркало. Я мягко приземляюсь на покрытое мхом дно
канала. Тут покойно и очень тепло. Над головой - ни шевеления.
Сверху падает тусклый свет. Стены здесь из гладкого серого камня, и
расстояние между ними очень невелико: я едва не касаюсь обеих, вытянув руки
в стороны. Они слегка изгибаются, постепенно исчезая из виду позади и
впереди меня. Я веду ладонью по гладкой стене и ушибаю большой палец ноги
обо что-то твердое, скрытое подо мхом.
Я отгребаю мох и обнаруживаю блестящий металл. Расчищаю дальше. Моя
находка длинна, как труба, и прикреплена ко дну канала. В поперечнике у нее
форма раздутой буквы "I". Вскоре оказывается, что она тянется подо мхом
вдоль всей стены, - невысокий такой валик, едва приметный. Вдоль другой
стены туннеля - аналогичный гребень мха.
Я вскакиваю на ноги, торопливо заравниваю мох над рельсом.
И тут плотный теплый воздух начинает медленно обтекать меня, и издали,
из-за поворота узкого туннеля, доносится слабый гудок приближающегося
паровоза.
У меня легкое похмелье. Сижу в закусочной "Завтрак на траве", жду
заказанную копченую сельдь и размышляю, не снять ли дома со стены рисунок
мисс Эррол.
Я сильно встревожен сном. Пробудился весь в поту, ерзал, ворочался на
простыне, пока наконец не пришло время вставать. Я принял ванну, уснул в
теплой воде - и очнулся от холода, вскинулся в ужасе, как от удара
электротоком: приснилось, что я в туннеле, который на самом деле вовсе и не
туннель, а западня со сходящимися стенами, а ванна - это туннель-канал, и
холодная вода в ней - это мой собственный пот.
Читаю утреннюю газету и пью кофе. Автор передовицы критикует власти за
вчерашний полет. В настоящее время обсуждаются меры (какие именно, не
сказано) для предотвращения новых вторжений в воздушное пространство моста.
Вот и нарезанная ломтиками сельдь; удаленные косточки оставили рисунок
на светло-коричневой рыбьей плоти. Вспоминаю свои рассуждения по поводу
общей топографии моста. На похмелье стараюсь не обращать внимания.
Итак, возможностей три:
1. Мост - это всего лишь мост, связующее звено между двумя массивами
суши. Они очень далеко отстоят друг от друга, и мост ведет независимое от
них существование, но транспорт движется по нему с одного массива суши на
другой.
2. Мост - это, по сути, пирс: один конец примыкает к земле, другой -
нет.
3. Мост вовсе не имеет связи с землей, если не считать крошечного
островка под каждой третьей секцией.
Второй и третий варианты не исключают вероятности того, что мост еще
находится в процессе строительства. Пирсом он может быть и просто потому,
что еще не достиг дальнего массива суши. А если у него вообще нет
соприкосновения с землей, то, возможно, его начали возводить в открытом море
и достраивают не с одного конца, а с обоих.
В случае номер три есть одна интересная возможность. Мост кажется
прямым, но существует горизонт; солнце всходит, описывает на небосводе дугу
и заходит. Поэтому можно допустить, что мост в конце концов встречается сам
с собой, образует замкнутый круг.
По пути сюда я заглянул в библиотеку, искал учебник Брайля, и это мне
напомнило о запропастившейся Третьей городской. После завтрака мое
самочувствие приходит в норму, и я решаю прогуляться до секции, где
расположены и клиника доктора Джойса, и мифическая библиотека. Попытка, как
говорится, не пытка.
День опять выдался погожий. Легкий теплый ветерок дует против течения,
натягивает тросы - серые пузыри тянутся к мосту. В небе появились новые
аэростаты, на больших баржах лежат полунадутые баллоны, а некоторые траулеры
держат уже по два аэростата, и пары тросов образуют гигантские "V".
Отдельные баллоны покрашены в черный цвет.
Насвистывая и помахивая тросточкой, я иду от секции к секции.
Общедоступный, хоть и отделанный плюшем лифт поднимает меня на высший из
открытых для посещения ярусов, который, впрочем, находится несколькими
ярусами ниже самого верха секции. Мне уже знакомы высокие, темные, пахнущие
плесенью коридоры. По крайней мере, шапочно знакомы. Их детальная планировка
остается для меня загадкой.
Я прохожу под флагами, потемневшими от времени. Шагаю от ниши к нише,
где стоят запечатленные в камне чиновники. Я пересекаю комнаты, где тихо
переговариваются опрятно и одинаково наряженные клерки. На перекрестках
коридоров цокаю каблуками по тусклому белому кафелю световых люков.
Заглядываю в замочные скважины и вижу темные безлюдные галереи, на полу там
дюймовый слой пыли и мусора. Я пытаюсь открыть двери, но петли приржавели
намертво.
Наконец прихожу на знакомое место. Впереди, там, где расширяется
коридор, на ковре лежит большое круглое пятно света. Пахнет сыростью, и я
готов поклясться, что толстый темный ковер еле слышно чавкает под моими
ногами. Вижу высокие растения в кадках и участок стены, где должен
располагаться вход в L-образный лифт. В центре белого пятна на полу лежит
тень, которую я не припоминаю, и эта тень шевелится.
Я подхожу к свету. Вижу большое круглое окно, оно смотрит "вниз по
течению" и похоже на огромный циферблат без стрелок. Тень отбрасывает не кто
иной, как мистер Джонсон, пациент доктора Джойса, тот самый
маньяк-стекломой, отказывающийся вылезать из своей люльки. Он чистит раму,
водит по стеклам тряпкой, на лице - выражение глубокой сосредоточенности.
Позади и чуть ниже его, прямо в воздухе, в доброй тысяче футов над
морем, дрейфует маленький траулер.
Суденышко висит на трех тросах. Оно темно-коричневое, с полосой
ржавчины над ватерлинией и слоем ракушек - под. Набирая высоту, траулер
медленно сближается с мостом.
Я подхожу к окну. Высоко над летящим траулером вижу три черных
аэростата. Я гляжу на увлеченно работающего мистера Джонсона. Стучу по
стеклу. Он не обращает внимания.
А траулер все поднимается - прямиком к нашему окну. Я колочу по стеклу,
так высоко, как могу достать, размахиваю тростью и шляпой и кричу во всю
силу легких:
- Мистер Джонсон! Оглянитесь! Назад!
Он перестает тереть, но только для того, чтобы нежно улыбнуться и
дохнуть на стекло.
Я стучу по стеклу на уровне колен мистера Джонсона; выше мне не достать
даже тростью. Траулер уже в двадцати футах. Мистер Джонсон самозабвенно
орудует тряпкой. Бью по толстому стеклу медным набалдашником трости.
Появляются трещины. Пятнадцать футов. Траулер уже на одном уровне с
башмаками мистера Джонсона.
- Мистер Джонсон!
Я что есть силы ударяю по стеклу набалдашником. Оно наконец не
выдерживает, сыплются осколки. Я отшатываюсь от стеклянного града. Мистер
Джонсон глядит на меня и злобно щерится.
Десять футов.
- Сзади! - кричу я, показывая тростью, и спешу в укрытие.
Мистер Джонсон смотрит, как я убегаю, затем поворачивается. Траулер в
морской сажени от него. Мистер Джонсон бросается на дно своей люльки, а
траулер врезается в центр огромного круглого окна, его киль царапает
поручень люльки и осыпает мистера Джонсона ракушками. Лопаются рамы, на
площадку перед окном сыплется блестящее крошево. Звон бьющегося стекла
соревнуется со скрежетом разрываемого металла. Форштевень траулера таранит
окно в центре, металлическая рама сминается, точно паутина, с ужасающим
треском, с душераздирающим грохотом. Подо мной содрогается пол.
В следующий миг наступает тишина. Траулер чуть отшатывается, но уже
через секунду снова рвется вперед и вверх, переваливает через верхушку
огромной мандалы, обрушивая все новые дожди осколков. Ракушки и стекляшки
вместе сыплются на ковер, барабанят по широким листьям фикусов в кадках.
И вдруг, к моему изумлению, все это прекращается. Траулер исчезает из
виду. Перестает сыпаться стекло. Скрежет удаляется - корабельный киль
бороздит верхние ярусы.
Люлька мистера Джонсона качается маятником, колебания постепенно
затухают. Стекломой шевелится, медленно встает, озирается; на его спине
золотистой чешуей блестят осколки. Он лижет ранку на тыльной стороне ладони,
осторожно стряхивает со спецовки ракушки и битое стекло, идет в конец
покачивающейся люльки и берет швабру с коротким черенком.
Сметает мусор, насвистывает при этом. Время от времени он печально
поглядывает на то, что осталось от круглого окна.
Я стою и наблюдаю за ним. Он вычищает люльку, проверяет, целы ли тросы,
перевязывает кровоточащие руки. Затем внимательно осматривает окно и находит
несколько фрагментов, не выбитых и не вымытых. И снова приступает к любимому
делу.
После удара траулера прошло минут десять, а я в коридоре по-прежнему
один. Никто не приходит выяснить, что случилось, не надрываются сирены. А
мистер Джонсон знай себе моет и натирает. В разбитое окно затекает теплый
бриз, ворошит изорванные листья растений. Там, где была дверь в L-образный
лифт, сейчас голая стена с нишами для статуй.
Я ухожу. Поиск Третьей городской библиотеки снова прерван по не
зависящим от меня обстоятельствам.
Возвращаюсь в свою квартиру, но там меня ждет еще большая катастрофа.
В апартаменты входят и выходят люди в серых спецовках, складывают
одежду на тележку. Перед моим оторопелым взором появляется очередной
грузчик, сгибающийся под тяжестью картин и рисунков. Сгружает их на тележку
и возвращается в комнату.
- Эй! Вы! Эй, вы! Что вы тут вытворяете?!
Люди останавливаются и недоуменно смотрят на меня. Я пытаюсь вырвать из
рук одного, долговязого, рубашки, но он слишком силен. Он озадаченно
моргает, но крепко держится за мою одежду. Его приятель пожимает плечами и
исчезает в дверях.
- А ну стоять! Вон отсюда!
Я оставляю в покое олуха с рубашками и бросаюсь в комнату. А там -
настоящее столпотворение. Всюду мельтешат люди в сером, одни опрастывают
шкаф с постельным бельем, другие выносят вещи, третьи сгребают с полок книги
и укладывают в коробки, снимают картины со стен и фигурки мостовиков со
столов. Я озираюсь. Я в ужасе. Я парализован.
- Прекратите! Что вы делаете? Кто-нибудь объяснит?! Перестаньте!
Некоторые оборачиваются и глядят на меня, но не прекращают свое черное
дело. Один вознамерился унести все три зонтика.
- Клади назад! - кричу, преграждая ему путь и даже замахиваясь тростью.
Он вырывает из моей руки трость и вместе с ней и зонтиками исчезает в
коридоре.
- А, так вы, должно быть, мистер Орр. - Из спальни появляется крупный
лысый мужчина в черном пиджаке поверх спецовки. В одной руке он держит
черную шляпу, а в другой скоросшиватель.
- Он самый! А кто же еще?! И что тут происходит, черт возьми?!
- Мистер Орр, вы переселяетесь, - улыбается лысый.
- Что? Почему? Куда? - выкрикиваю. У меня дрожат ноги, в желудке -
тяжелый тошнотворный ком.
- Гм... - Лысый заглядывает в папку. - Ага, вот: уровень У-семь, триста
шестая комната.
- Что? Где это? - Я ушам своим не верю. - У-семь?
Это же под железной дорогой! Но ведь там живут рабочие, простолюдины!
Что происходит? В чем я провинился? Должно быть, это какая-то ошибка!
- Вообще-то, я не знаю, сэр, - бодро отвечает лысый. - Но уверен, вы
сможете спросить дорогу.
- Но почему? Почему я должен переселяться?
- Ни малейшего понятия, сэр, - весело ответствует он. - А долго вы
здесь прожили?
- Полгода. - Из гардеробной исчезают все новые и новые предметы одежды.
Я снова поворачиваюсь к лысому: - Постойте, но ведь это мои вещи! Зачем они
вам?
- Возвращаем, сэр, - отвечает он с улыбкой.
- Возвращаете?! Куда? - вопию в отчаянии. Все это очень несолидно, но
что еще мне остается?
- Не знаю, сэр. Наверное, туда, где вы их взяли. Точно могу сказать: не
в мой департамент.
- Но ведь они - мои!
Он хмурится, снова заглядывает в папку, снова шуршит бумагами.
Отрицательно качает головой, участливо улыбается:
- Нет, сэр.
- Мои, черт возьми!
- Простите, сэр, но они не ваши. Собственность больничной
администрации. Видите, вот здесь написано? - Он сует мне под нос список всех
моих покупок в магазинах одежды по больничному кредиту. - Видите? - Он
хихикает. - А я уж было испугался, сэр. Если б мы и правда забрали
что-нибудь из вашего, это было б незаконно. Вы б могли заявить на нас в
полицию и были бы совершенно правы. Вы б могли обратиться...
- Но мне сказали, я могу покупать все, что захочу! У меня было пособие!
Я...
- Послушайте, сэр, - говорит лысый, глядя, как очередная партия шляп и
костюмов проплывает мимо нас к выходу, и что-то отмечая в папке, - я не
адвокат и не какой-нибудь там законник, но зато не возьмусь и припомнить,
сколько лет занимаюсь вот этим делом. Если мне не верите, сэр, то можете
сами проверить, что все это барахло принадлежит больнице, а вы им только
пользовались. Позвоните туда, сэр, и вам скажут.
- Но...
- Сэр, я уж не знаю, чего вам такого наговорили, но если мне не верите
- проверьте. Чего проще?
- Я... - Мне становится нехорошо. - Послушайте, а что если вы...
перерыв сделаете, а? Только на минутку, а? Пожалуйста! Дайте позвонить моему
лечащему врачу. Это доктор Джойс, вы наверняка о нем слышали. Он во всем
разберется. Должно быть, это...
- Недоразумение? - Лысый от души смеется. - Не обижайтесь, сэр.
Простите, что перебил, но как тут не смеяться? Знали б вы, сколько людей мне
это говорили! Кабы мне каждый раз платили по шиллингу, давно был бы
миллионером. - Он качает головой, вытирает щеку. - Ладно, сэр, если вы и
правда в это верите, лучше свяжитесь с соответствующими инстанциями. - Он
оглядывается. - Тут где-то телефон был...
- Не работает.
- Да что вы, сэр! Работает. Я полчаса назад звонил в департамент,
сказал, что мы уже здесь.
Я нахожу телефон на полу. Он совсем плох, только щелкает, когда я
пытаюсь набрать номер. Рядом наклоняется лысый.
- Что, сэр? Отключили? - Он смотрит на часы. - Однако рановато, сэр. -
Он делает новую пометку в папке. - Ну и шустер же народ на станции! - Он
негромко причмокивает губами и восхищенно качает головой.
- Послушайте, а все-таки нельзя ли чуть-чуть подождать? Дайте мне
переговорить с врачом, он во всем разберется. Его зовут доктор Джойс.
- Так в этом нужды нет, сэр, - радостно заявляет лысый. И тут ко мне в
голову заползает противная до тошноты мыслишка. Лысый ворошит листы в папке,
ведет пальцем по предпоследнему. - Ну вот же, сэр. Вот сюда гляньте.
Там подпись доброго доктора.
- Видите, сэр, он уже в курсе, - говорит лысый. - Это с его
разрешения...
- Да. - Я сажусь и гляжу в голую стену перед собой.
- Ну так что, сэр, вы удовлетворены? - В голосе лысого нет ни малейшей
иронии.
- Да, - слышу собственный голос. Я в шоке, в ступоре, в ватном коконе;
все чувства угасли, их пепел разворошен и залит водой.
- Сэр, боюсь, нам все-таки придется взять и то, что на вас. - Бригадир
грузчиков смотрит на мою одежду.
- Не верю, что вы это всерьез, - отвечаю вяло.
- Всерьез, сэр. Да не расстраивайтесь вы так. Мы вам спецовку принесли.
Новую, между прочим. Хотите прямо сейчас переодеться?
- Это же смехотворно.
- Понимаю, сэр, но ведь правила - они на то и правила, верно? Да вы не
сомневайтесь, спецовочка вам понравится. Новехонькая!
- Спецовочка?..
Она ядовито-зеленая. Туфли, брюки, рубашка и очень грубое нательное
белье.
Я переодеваюсь в опустошенной туалетной комнате, в голове так же пусто.
Кажется, мое тело решило жить по своему разумению. Оно, как робот,
совершает движения, которых от него ждут, затем останавливается и ждет
нового приказа. Я аккуратно складываю свою одежду, а когда добираюсь до
пиджака, замечаю платок Эбберлайн Эррол. Вынимаю его из нагрудного кармана.
Я возвращаюсь в гостиную. Лысый смотрит телевизор, там идет какая-то
викторина. Он выключает телевизор при моем появлении с охапкой одежды.
Надевает черную шляпу.
- Вот этот платок, - кивком указываю на носовой платок, венчающий
охапку. - Он с монограммой. Можно, я его оставлю?
Лысый взмахом руки велит помощнику взять у меня одежду. Сам же берет
носовой платок и сверяется с перечнем в папке. Острым карандашом стучит по
одной из строчек:
- Да, тут есть носовой платок, но... насчет буквы на нем - ничего. - Он
встряхивает платок, подносит к глазам и рассматривает вышитое синее "О". Я
уже начинаю опасаться, что он сейчас вытянет нитку и отдаст мне. - Ладно,
оставьте, - раздраженно говорит он. Я беру платок. - Но вам придется
выплатить его стоимость из нового пособия.
- Благодарю вас. - В такой ситуации быть вежливым до смешного просто.
- Ну вот, собственно, и все, - серьезным тоном произносит он и прячет
карандаш. Мне этот жест напоминает о добром докторе. Лысый указывает на
дверь: - После вас.
Я сую носовой платок в карман ярко-зеленой спецовки и покидаю квартиру
вслед за лысым. Из грузчиков остался только один, с какой-то бумагой,
скатанной в трубку, и пустой картинной рамкой. Он ждет, когда начальник
запрет и опечатает дверь, потом что-то шепчет ему на ухо. Бригадир берет и
разворачивает бумагу, и я вспоминаю, что это рисунок Эбберлайн Эррол.
- Ваше?
Я киваю:
- Да, подарок от...
- Держите. - Он сует рисунок мне и отворачивается. Вместе с подчиненным
уходит по коридору.
Я направляюсь к лифту, держа эскиз обеими руками. Успеваю сделать
несколько шагов, как вдруг раздается крик. Ко мне бежит лысый бригадир,
машет рукой. Я разворачиваюсь и иду навстречу. Он трясет папкой.
- Не спешите, приятель. Тут еще вопросик имеется. Насчет широкополой
шляпы.
- Клиника доктора Джойса. Прекрасный денек, не правда ли?
- Это мистер Орр. Я хочу поговорить с доктором Джойсом. Дело очень
срочное.
- Мистер Орр! Просто замечательно, что вы позвонили. Как поживаете? Не
правда ли, денек выдался на славу?
- Я... Сказать по правде, я сейчас поживаю хуже некуда - меня только
что из дома вышвырнули. И все-таки нельзя ли поговорить с доктором Джой...
- Но ведь это ужасно! Это просто ужасно!
- Согласен. Потому-то мне и нужен доктор Джойс.
- О, мистер Орр, вам сейчас не доктор нужен, а полиция. Вас же, я так
понимаю, не сбросили с балкона, тогда бы вы физически не могли...
- Погодите! Очень благодарен за сочувствие, но я звоню из будки, денег
у меня нет, и...
- Что? Так вас еще и ограбили? Мистер Орр?
- Нет. Послушайте! Можно поговорить с доктором Джойсом?
- Боюсь, что нет, мистер Орр. Доктор на конференции. Он сейчас... гм...
дайте-ка взглянуть. А! Кажется, вот: Комитет по процедурам оформления сделок
(контрактов), подкомитет по выбору новых членов.
- Но не могли бы вы...
- Нет! Нет, простите ради бога! Я вас обманул! Это было вчера, а
сейчас... То-то я говорю, а сам думаю: что-то не то... Вот: планирование
строительства зданий и комбинирование вертикальных...
- Черт возьми! Да какое мне дело до всех этих чертовых комитетов?!
Когда я смогу с ним поговорить?
- Зачем же так, мистер Орр? Комитеты и о вашем благе пекутся, между
прочим.
- Когда я смогу с ним поговорить?
- Извините, мистер Орр, но я этого не знаю. Может, попросить, чтобы он
с вами связался?
- Когда? Не могу же я весь день болтаться вокруг телефонной будки!
- А что если он позвонит вам домой?
- Я же только что сказал: из дома меня выгнали.
- И что же, вы не можете вернуться? Мистер Орр, я уверен, что если вы
обратитесь в полицию...
- Дверь опечатана! И это с ведома властей, и доктор Джойс сам
подписался. Вот я и хочу с ним...
- А-а! Мистер Орр! Так вас же перевели! Теперь понятно! Я-то думал...
- Что это за шум?
- Это? А, это гудки, мистер Орр. Надо положить в желоб монетки.
- Нет у меня больше монеток.
- А жаль. Ну что ж, мистер Орр, приятно было с вами пообщаться. До
свидания. Удачного вам...
- Алло? Алло?
У-7 расположен семью ярусами ниже железнодорожного. Это достаточно
малое расстояние, чтобы можно было отличить поезд ближнего следования от
транзитного или продовольственного по одной лишь вибрации, не говоря уж о
громыхании, реве и визге. Уровень широк, тускло освещен, тесен, акустика
просто замечательная. Непосредственно внизу постоянно что-то монтируют и
режут листовой металл, выше - еще шесть этажей жилых помещений. В душном
воздухе господствуют запахи пота и стоялого дыма. Комната 306 принадлежит
мне целиком, в ней одна-единственная узкая койка, ветхий пластмассовый стул,
расшатанный стол и узкий платяной шкаф. Мебели немного, но все равно тесно.
По пути сюда я учуял общественный туалет в конце коридора. За окном световой
люк, но это одно название.
Я затворяю дверь и иду в клинику доктора Джойса как ходячий автомат:
слепой, глухой, без единой мысли в голове. Когда прихожу, оказывается, я
опоздал, дверь уже на запоре, доктор и даже секретарь ушли домой. На меня
подозрительно смотрит охранник и предлагает вернуться на мой уровень.
В животе бурчит. Я сижу на своей коечке и смотрю в пол, подперев голову
руками. Слышу, как в цеху ниже ярусом визжит разрезаемый металл. У меня ноет
грудь.
В дверь стучат.
- Войдите.
Входит неряшливо одетый человечек, его взгляд обегает комнату и
задерживается на скатанном в трубку рисунке на шкафу. Затем взгляд
останавливается на мне, хотя с моим не встречается.
- Извини, приятель. Новенький? - Он остается у открытой двери, как
будто готов в случае чего шмыгнуть назад. Прячет ладони в глубоких карманах
длинного блестящего темно-синего плаща.
- Да, новенький. - Встаю. - Меня зовут Джон Орр. - Протягиваю руку. Он
хватает ее, но тут же отпускает и снова прячет свою. - А вас как зовут? -
едва успеваю спросить.
- Линч, - обращается он к моей груди. - Зови меня Линчи.
- И чем я могу быть вам полезен, Линчи? Он пожимает плечами:
- Да ничем. Мы ж соседи. Я и подумал: может, тебе надо чего.
- Как любезно с вашей стороны! Я был бы очень благодарен за небольшую
консультацию насчет обещанного мне пособия.
Теперь мистер Линч смотрит мне в лицо, его давно не мытая физиономия
хоть и тускло, но сияет.
- А... ну с этим-то я помогу, никаких проблем.
Я улыбаюсь. За все то время, пока я вращался в рафинированном обществе
на верхних ярусах моста, никто из соседей даже доброго утра мне не пожелал,
не говоря уж о том, чтобы помощь предложить.
Мистер Линч ведет меня в столовую, там покупает мне пирожок с рыбой и
пюре из морских водорослей. И то и другое на вид ужасно, но я проголодался.
Мы пьем чай из кружек. Мистер Линч уборщик вагонов и живет в комнате 308. Он
безмерно удивился, когда я показал пластмассовый браслет и сообщил, что
нахожусь на излечении. Он объяснил, куда идти и к кому обращаться завтра
утром насчет пособия. Он очень любезен. Даже предлагает мне деньжат взаймы,
однако я и так уже обязан ему, поэтому благодарю, но отказываюсь.
В столовой много шума, пара и люда, но нет окон. Повсюду грохот и лязг,
а запахи крайне негативно влияют на мой процесс пищеварения.
- Значит, так просто взяли и выперли?
- Да. И мой врач им разрешил. Я не согласился лечиться по новой
методике, наверное, потому-то меня и выгнали. Может, я и не прав.
- Во урод! - Мистер Линч качает головой, во взоре появляется злость. -
Гады они, врачи эти.
- Да, его поступок кажется непорядочным, смахивает на подленькую месть,
но все же, боюсь, я вправе винить только себя.
- Все они уроды, - настаивает мистер Линч и глотает чай из кружки.
Глотает шумно, и мне эти звуки так же неприятны, как царапанье ногтями по
грифельной доске. Я скриплю зубами. Гляжу на часы над раздаточным окошком.
Попытаюсь связаться с Бруком, - наверное, он скоро придет в "Дисси Питтон".
Мистер Линч вынимает пачку табака, стопку папиросной бумаги и
сворачивает себе сигарету. Мощно втягивает носом воздух, издает горлом
хриплый, простуженный сип. Завершает его приготовления пулеметная очередь
кашля, словно где-то в груди энергично трясут мешок с камнями.
- Куда-то собрался, приятель? - спрашивает мистер Линч, перехватив мой
взгляд на часы. Он зажигает сигарету, выпускает струю едкого дыма.
- Да, пожалуй, мне пора. Хочу навестить старого друга. - Встаю. -
Большое вам спасибо, мистер Линч. Извините, что приходится покидать вас в
такой спешке. Когда снова буду при деньгах, постараюсь вознаградить вас за
щедрость - и надеюсь, вы не будете против.
- Да без проблем, приятель. Если помощь понадобится, стукни. Завтра у
меня выходной.
- Спасибо. Вы очень добры, мистер Линч. Всего наилучшего.
- Ага. Покеда.
До "Дисси Питтона" я добираюсь позже, чем рассчитывал, и ноги все
сбиты. Надо было соглашаться, когда мистер Линч предлагал деньги, - доехал
бы поездом. Поразительно, как мало удовольствия доставляет ходьба, когда
перестает быть развлечением, а становится необходимостью. Смущает меня также
и спецовка, - по-моему, она полностью обезличивает человека. Все же я иду,
высоко подняв голову и расправив плечи, как будто на мне лучшие костюм и
пальто из моего гардероба, и, по-моему, в свое отсутствие трость куда
заметней, чем когда я ею помахивал на самом деле.
Однако на швейцара возле "Дисси Питтона" это не производит впечатления.
- Вы что, не узнаете меня? Да я же здесь чуть ли не каждый вечер бывал.
Я мистер Орр. Взгляните.
Я сую ему под нос пластмассовый браслет. Швейцар не смотрит; он вроде
стесняется, что должен разбираться со мной и в то же время приветствовать
посетителей, отворять им дверь.
- Слышь, катился бы ты, а?
- Вы меня не узнали? Да в лицо посмотрите, далась вам эта чертова
спецовка. Ну хоть передайте мистеру Бруку, пусть выйдет сюда. Он еще здесь?
Ну Брук, инженер. Маленький такой, чернявый, сутулый...
Швейцар выше меня и шире в плечах. Если б дело обстояло иначе, я бы
рискнул прорваться.
- Или ты сейчас же свалишь, или тебе очень не поздоровится, - говорит
детина. И оглядывает широкий коридор перед баром, словно кого-то ищет.
- Да я же еще вчера здесь был! Помните? Это я вернул Бучу шляпу. Вы не
могли этого не запомнить. Вы держали шляпу у него перед носом, а он туда
наблевал.
Швейцар улыбается, дотрагивается до фуражки, пропускает в бар
незнакомую мне пару.
- Вот что, приятель, я две недели пробыл в отпуске и только сегодня на
работу вышел. Или сейчас же исчезнешь, или очень пожалеешь.
- А... понимаю. Простите. Но все-таки можно попросить вас о пустяковой
услуге? Я напишу записку, а вы...
Договорить не удается. Швейцар еще раз оглядывается, убеждается, что в
коридоре, кроме нас, никого, и дает мне под дых тяжеленным кулаком в
перчатке. От парализующей боли я складываюсь пополам, и он вторым кулаком
бьет мне в челюсть, отчего голова едва не слетает с плеч. Я отшатываюсь,
обезумев от боли, и третий удар приходится в глаз.
Уже почти без чувств, я врезаюсь в дверные филенки. Меня поднимают за
шиворот и штаны, несут и вышвыривают в дверь - на свежий, холодный воздух.
Мешком валюсь на голый металлический настил. Еще два тяжелых удара ловлю уже
боком, это, похоже, пинки.
Лязгает дверь. Дует ветер.
Я как упал, так и лежу. Просто не могу пошевелиться. В животе растет
ужасная пульсирующая боль. Я даже не вижу (наверное, глаза кровью залиты),
куда выблевываю пирожок с рыбой и водоросли.
Я лежу на смятой постели. В комнате надо мной спорят мужчина и женщина.
Меня скрутили боль, тошнота и голод. Болят голова, зубы, челюстные кости,
правый глаз, висок, живот и бок, это сущая симфония муки. В ней почти утонул
назойливый шепоток, эхо старой раны, круглая боль в груди.
Я чист. Как сумел, вымыл рот и приложил платок к рассеченной брови.
Плохо представляю, как мне сюда удалось дойти или доползти, но я это сделал,
в болезненном отупении, как в подпитии.
В койке неудобно, но не стоя же встречать бесконечные волны боли,
которые набегают на меня, как на истерзанный берег.
Уже глубокой ночью наконец уплываю в сон. Но уплываю не по тихим водам,
а по океану горящей нефти. Пытки яви, которые бодрствующий рассудок мог бы
хоть попытаться поместить в контекст - заглядывая в будущее, в котором боль
утихнет, - сменяются мучительным полусознательным трансом, и в этом трансе
маленькие, рудиментарные, глубинные круги разума лишь машинально фиксируют
вопли обжигаемых болью нервов; и плачь не плачь, а утешать некому.
Я не знаю, как давно здесь нахожусь. Давно. Я не знаю, где я нахожусь.
Где-то далеко. Я не знаю, по какой причине здесь нахожусь. Должно быть, в
чем-то перед кем-то провинился. Я не знаю, долго ли еще здесь пробуду.
Долго.
Этот мост невелик, но ему нет конца. До берега совсем близко, но мне
туда не добраться вовек. Я иду, но не схожу с места. Медленно ли, быстро ли,
бегом ли, ползком ли, прямо или зигзагом, с низкого старта или замирая
столбом - толку никакого.
Мост сделан из железа. Он ржавеет, он шелушится, он весь в рытвинах
коррозии. Это железо отвечает на мои шаги и прыжки тяжким мертвым звуком,
таким тяжким и таким мертвым, что это, можно сказать, даже и не звук вовсе,
а просто волны, проходящие через мой скелет к головному мозгу. Мост кажется
отлитым целиком, а не склепанным из кусков металлопроката. Может, он и
состоял раньше из деталей, но сейчас это одно ржавое целое; он ветшает и
гниет как одно целое. А может, не склепанным, а сваренным или сплавленным.
Да какая разница?
Повторяю, мост невелик. Он пересекает речушку, которую я вижу в
просветах толстых чугунных брусьев, подпирающих высокие перила. Речка в этом
месте прямая, она медленно вытекает из тумана, журчит под мостом, а затем,
такая же прямая и медленная, пропадает в таком же точно проклятом тумане.
Я бы переплыл речушку за пару минут, да вот незадача - здесь водятся
плотоядные рыбы. Собственно, я бы и по мосту добрался до берега, причем за
гораздо меньшее время, даже если бы еле плелся.
Мост - это часть поверхности цилиндра, верхняя четверть. В целом он
представляет собой большое полое колесо, через которое течет река.
Позади меня к мосту подходит через болото дорога, мощенная булыжником.
На противоположном берегу живут мои дамы, они бездельничают или развлекаются
в многочисленных павильончиках, или открытых возках, или на полянке,
окруженной высокими широколистыми деревьями (их я вижу, когда чуть редеет
туман). Я все иду и иду к этим женщинам. Иногда шагаю медленно, иногда
быстро, а порой даже бегу. Они зовут меня, простирают ко мне руки, машут. До
меня доносятся голоса, но слов не разобрать. Но голоса такие нежные,
ласковые, теплые и соблазнительные и таким бешеным желанием наполняют мои
чресла... Нет, это невозможно передать.
Дамы разгуливают или лежат на атласных подушках в павильончиках и
широких возках. На них самые разнообразные одежды. Есть и строгие, деловые,
закрывающие своих владелиц с головы до пят, есть и свободные, ниспадающие
шелковыми волнами, есть и тонкие до прозрачности или с множеством искусно
размещенных прорех и отверстий, отчего пухлые тела (белые, как алебастр,
черные, как гагат, золотистые, как само золото) просвечивают, словно
заключенный в них юный любовный жар не метафора, а физическое явление,
которое мои глаза способны улавливать.
Иногда, глядя на меня, женщины демонстративно раздеваются. Их движения
при этом неторопливы, большие печальные очи полны желания, изящные тонкие
руки плавно касаются плеч, стряхивают, отбрасывают полосы и слои материи,
точно капли воды после купания. Я вою, я бегу быстрее; я кричу во всю силу
легких.
Бывает, что дамы подходят к воде, чуть ли не к самому мосту, и срывают
одежды, и стенают от похоти, и заламывают руки, и водят бедрами, и
опускаются на колени, и раскидывают ноги, и взывают ко мне. Я тоже кричу и
рвусь вперед, несусь что есть сил. Все мои мышцы сводит желанием, член
торчит, как копье охотника на мамонтов; я бегу, потрясая им; я реву от
чудовищного спермотоксикоза. Я часто эякулирую и, вялый, выжатый, опускаюсь
на жесткое ржавое железо, и лежу, и тяжело дышу, и хнычу, и заливаюсь
слезами, и до крови разбиваю кулаки о шелушащийся чугун.
Порой женщины занимаются любовью друг с дружкой, прямо на моих глазах.
В такие минуты я вою и рву на себе волосы. Они могут часами предаваться
обоюдным ласкам, нежно целовать и поглаживать, лизать и массировать. Они
кричат в оргазме, их тела содрогаются, корчатся, пульсируют в едином ритме.
Бывает, дамы при этом смотрят на меня, и я не могу понять, остаются ли в
больших влажных глазах печаль и желание или их сменила сытая насмешка. Я
останавливаюсь и грожу кулаком, я надрываю голосовые связки: "Суки! Шалавы
неблагодарные! Подлые садистки! А как же я? Идите сюда! Сюда! Сюда
поднимайтесь! Сюда! Ну?! Идите же! Что стали? Топайте! Хоть веревку говенную
мне киньте!"
Но ничего такого они не делают. Только манят, показывают стриптиз,
трахаются, спят, читают старые книжки, стряпают и оставляют для меня на краю
моста бумажные подносики с едой. Но иногда я бунтую. Сбрасываю подносики в
реку, и плотоядные рыбы уничтожают и жратву, и рисовую бумагу. Но женщины
все равно не ступают на мост. Я вспоминаю, что ведьмы не способны переходить
через воду.
Я все шагаю и шагаю. Мост плавно крутится, подрагивает и погромыхивает.
Брусья по его бокам неспешно рассекают туман. Я бегу, но и мост ускоряет
свое вращение, не отстает, дрожит под ногами; брусья тихонько стрекочут в
тумане. Я останавливаюсь, замирает и мост. Я по-прежнему над серединой
медлительной речушки. Сажусь. Мост неподвижен. Я подпрыгиваю и бросаюсь к
берегу, к дамам. Кувыркаюсь, ползу, прыгаю, скачу, сигаю, а мост знай себе
погромыхивает, и никогда не позволяет мне продвинуться вперед больше чем на
несколько шагов, и каждый раз обязательно возвращает меня назад, на середину
своего невысокого горба, в высшую точку над медлительной рекой. Я - ключевой
камень моста.
Сплю я - в основном по ночам, но иногда и днем - над стрежнем.
Несколько раз я таился до глубокой ночи, часами гнал сон, а потом - р-раз!
Прыг! Могучий скок вперед! Стремительный рывок! Але-оп! Но мост тот еще
ловкач, его не проведешь. И не важно, бегу я, скачу или кувыркаюсь, - он
обязательно возвращает меня на середину реки.
Я пробовал бороться с мостом, обращая против него его же инерцию,
суммарное количество движения, громадную неповоротливую массу, то есть
устремлялся сначала вперед, а потом обратно, пытался молниеносной сменой
направления застичь его врасплох, обмануть, перехитрить, околпачить подлеца,
доказать, что я ему не по зубам (и, разумеется, памятуя о плотоядных рыбах,
я всегда это делал с тем расчетом, чтобы в итоге очутиться на дамском
берегу), но без успеха. При всей своей тяжести, при всей своей громоздкости
мост всегда ухитряется оставить меня в дураках и позволяет мне приблизиться
к берегу лишь на считаные прыжки.
Иногда налетает ветерок, ему не по силам разогнать туман, но мне
хватает и этого. Если ветер дует со стороны павильонов, он приносит запахи
духов и женских тел. Я зажимаю нос, я отрываю длинные лохмотья от своих
ветхих одежд и затыкаю ими ноздри. Я подумываю, не заткнуть ли заодно и уши,
не закрыть ли повязкой глаза.
Раз в несколько десятков дней из леса за лужком выбегают ряженные
сатирами приземистые, плотные мужички и кидаются на дам. А те,
продемонстрировав должное жеманство, с непринужденной грацией сдаются своим
маленьким любовникам. Оргии длятся без перерыва, практикуются все мыслимые и
немыслимые формы сексуальных извращений. По ночам эту сцену освещают костры
и красные фонари, и в их сиянии поглощается невообразимая уйма жареного
мяса, экзотических фруктов и пряных деликатесов вкупе с бесчисленными
бурдюками вина и бутылками более крепких напитков. Про меня в такие
праздники обычно все забывают и даже еду не приносят на мост, поэтому я
вынужден страдать от голода, пока они предаются обжорству, насыщают все и
всяческие аппетиты. Я сижу к ним спиной, скалю зубы и гляжу на сырой
торфяник и недосягаемую дорогу, трясусь от злобы и ревности и схожу с ума от
криков наслаждения и от сочных запахов жаркого.
Однажды я охрип, крича на дам и сатиров, повредил лодыжку, прыгая на
месте, прикусил язык, исторгая площадную брань. Дождался, когда захотелось
по-большому, и запустил в них какашками. Но моим экскрементам тут же нашлось
применение в грязной сексуальной игре.
Когда чернявые мужички, еле волоча ноги, убирались в свой лес, а дамы
отсыпались и приводили себя в порядок после безумных игрищ, все шло как
прежде, разве что мои истязательницы выглядели теперь чуточку смущенными,
пристыженными, даже задумчивыми. Для меня готовили особые блюда и вообще
кормили щедрей, чем прежде. Но я все равно часто расстраивался и бросал в
них едой или скармливал ту плотоядным рыбам. Покаявшись-постыдившись, дамы
возвращались к старым своим делам, то есть к чтению и сну, прогулкам и смене
нарядов и любовью друг с дружкой.
Глядишь, когда-нибудь мои слезы превратят этот мост в ржавую пыль и я
наконец обрету свободу.
Сегодня тумана не было. Рассеялся он ненадолго, но мне хватило. Мост
бесконечен, но я-то, я уже дошел до своего конца.
Я не одинок.
Когда туман поднялся, я увидел, что с обоих боков моста река уходит в
чистые дали. С одной стороны к ней примыкает торфяник, с другой - луг и лес.
Выше по течению, шагах в ста, еще один мост, в точности как мой: чугунная
бочка без дна и крышки, но с толстыми радиальными брусьями. На ней мужчина,
он держится за брусья и смотрит на меня. Дальше опять мост, на нем тоже
мужчина. И так далее. Череда мостов постепенно превращается в чугунный
туннель, и он пропадает на горизонте. К каждому мосту подходит по болоту
отдельная дорога, а на другом берегу собрались женщины со своими павильонами
и повозками, И ниже по течению - точно такая же картина. Но мои дамы,
похоже, этого не замечают.
Мужчина на ближайшем, ниже по течению, мосту какое-то время смотрит на
меня, затем пускается бежать. Я смотрю, как вращается громадный полый
цилиндр, поражаюсь идеальной плавности его движения. Человек останавливается
и снова глядит на меня, потом на мост, что ниже по течению от него.
Незнакомец карабкается по брусу, становится на перила и почти без колебаний
падает в воду. Та окрашивается в алое. Самоубийца вопит и тонет.
Возвращается туман. Я какое-то время кричу, но ни сверху, ни снизу по
течению не доносится отклика.
Теперь я бегу. Ровно, быстро и решительно. И так - несколько часов.
Темнеет. Дамы обеспокоены - я уже растоптал три подноса с едой.
Дамы стоят и наблюдают за мной, у них большие печальные глаза, и в них
какое-то смирение - будто все это они уже видели, будто всегда это только
так и заканчивается.
А я знай себе бегу. Мы с мостом теперь одно целое, детали какого-то
огромного отлаженного механизма, игольного ушка для речки-ниточки. Я буду
бежать, пока не упаду, пока не умру. Иными словами, буду бежать всегда.
Дамы мои плачут, я же - счастлив. Это они в плену, это они в западне.
Узницы, покорившиеся своей судьбе. А вот я - свободен.
Я просыпаюсь от крика, я всерьез верю, будто скован льдом похолоднее
того, что получается из воды. Мой лед такой студеный, что прожигает до
костей, как расплавленный камень. И такой тяжелый, что с треском дробит
кости.
Но это не я кричу. Я безмолвствую, а визжит разрезаемый металл. Я
одеваюсь, иду в туалет.
Вытираю руки носовым платком. Вижу в зеркале свое лицо, распухшее, без
кровинки. И несколько зубов чувствуют себя в деснах посвободнее, чем им
полагается. Я весь в синяках, но серьезных травм вроде бы нет.
В конторе, где меня зарегистрировали для выдачи пособия, обнаруживаю,
что половину месячной суммы удержали за носовой платок и шляпу. Получаю
деньги. Их кот наплакал.
Мне дают адрес магазина подержанного платья, там я покупаю длинное
пальто. Оно старое, но, по крайней мере, прячет зеленую робу. С половиной
денег пришлось расстаться. Иду в соседнюю секцию. Я не отказался от
намерения встретиться с доктором Джойсом. Скоро устаю, приходится сесть на
трамвай и заплатить за билет наличными.
- Травма на три этажа ниже, в двух кварталах к Королевству, - сообщает
юный секретарь, когда я добираюсь до приемной своего лечащего врача. И он
снова утыкается в газету. Кофе или чаю на этот раз не предлагает.
- Я мистер Орр. Мне нужно встретиться с доктором Джойсом. Помните,
вчера мы с вами об этом говорили? По телефону.
Молодой человек устало поднимает ясные, как хрусталь, очи, оглядывает
меня с головы до ног, прикладывает к гладкой щеке наманикюренный палец,
втягивает воздух через чистейшие, даже чуть светящиеся от белизны зубы.
- Мистер... Орр? - Он поворачивается заглянуть в картотеку. Мне снова
дурно. Сажусь на стул. Секретарь смотрит на меня возмущенно:
- Кто вам позволил садиться?
- А что, я спрашивал разрешения?
- Ну ладно... надеюсь, пальто на вас чистое.
- Я могу повидать доктора?
- Я ищу вашу карточку.
- Так вы меня помните или нет?
Он долго меня разглядывает.
- Да, но ведь вас, кажется, перевели.
- А что от этого меняется?
Он с язвительным смешком качает головой и роется в картотеке.
- Ну, так я и думал, - говорит он, прочитав текст на красной карточке.
- Вы переведены.
- Я это уже заметил. Мой новый адрес...
- Нет, я в том смысле, что у вас теперь другой врач.
- Не нужен мне другой врач. Мне нужен доктор Джойс.
- Да что вы говорите? - Он смеется и стучит пальцем по красной карте. -
Боюсь, придется вам уйти ни с чем. Доктор Джойс вас к кому-то перевел, и все
тут. И если вас это не устраивает, что с того? - Он кладет красный лист
обратно в картотеку. - А теперь будьте любезны выйти.
Я подхожу к двери в кабинет доктора. Она заперта.
Молодой человек больше не поднимает глаз от бумаг. Я пытаюсь заглянуть
в кабинет через матовое стекло, потом вежливо стучу.
- Доктор Джойс! Доктор Джойс!
Секретарь хихикает. Я поворачиваюсь к нему, и тут звонит телефон. Юноша
отвечает:
- Клиника доктора Джойса. Сожалею, но его сейчас здесь нет. Он на
ежегодной конференции руководящих работников. - При этих словах секретарь
разворачивается вместе с креслом и смотрит на меня с презрительным
снисхождением. - Две недели, - ухмыляется он мне. - Код межгорода
подсказать?.. О да, офицер, доброе утро. Да, конечно, мистер Беркли. Как
пожи... О да! В самом деле? Стиральная машина? Да неужто? Ну, должен
сказать, это что-то новенькое. Мм... гм... - Юный секретарь напускает на
себя профессиональную важность и пишет в блокноте. - И много ли он съел
носков? Так-так... Хорошо. Да, понял и немедленно отправляю своего
заместителя в автопрачечную. А вам желаю чудесно провести день. До свиданья,
мистер Беркли.
У моего нового врача фамилия Анцано. Помещение у него в четыре раза
меньше, чем у Джойса, и восемнадцатью этажами ниже, без вида на море. Анцано
стар, пузат, с редкими желтоватыми волосами и зубами им в тон.
Прождав часа два, я удостаиваюсь чести побеседовать с ним.
- Нет, - говорит доктор. - Скорее всего с переводом я не смогу помочь.
Да я здесь и не для этого, видите ли. Дайте время прочитать вашу историю
болезни. Наберитесь терпения. У меня сейчас и так забот по горло. Как только
освобожусь, мы подумаем, как вернуть вам здоровье. Хорошо? - Он старательно
изображает бодрость и участие.
- Ну а пока? - Меня охватывает усталость. Наверное, выгляжу я ужасно: в
лицевых мышцах пульсирующая боль, у левого глаза сужено поле зрения, волосы
грязные, да и побриться мне сегодня не удалось. Разве могу я в таком виде
убедительно претендовать на свой прежний образ жизни? Я же одет черт-те во
что и вообще потрепан и в прямом, и в переносном смысле.
- Пока? - недоуменно переспрашивает доктор Анцано и пожимает плечами. -
Вам рецепт нужен? У вас достаточно того, что вам прописывали?..
Он тянется за рецептурной книжкой. Я мотаю головой:
- Я о том, как мне теперь быть...
- Тут я вряд ли могу существенно помочь, мистер Орр. Я же не доктор
Джойс. Мне даже себе помещения побольше никак не выхлопотать, что уж тут
говорить о пациентах... - В словах пожилого врача звучит горечь, похоже, его
раздражает мое присутствие. - Вам остается лишь ждать пересмотра вашего
дела, а я дам все рекомендации, которые сочту нужными. У вас ко мне больше
нет вопросов? Я очень занятой человек, мне, знаете ли, некогда на
конференциях краснобайствовать.
- Вопросов больше нет, - успокаиваю его. - Спасибо, что уделили мне
время.
- Не за что, не за что. Мой секретарь свяжется с вами и известит насчет
приема. Обещаю, это будет очень скоро. Если вам еще что-нибудь понадобится,
звоните.
Возвращаюсь в свою комнату.
В дверях снова появляется мистер Линч.
- А, мистер Линч! Добрый день!
- Что с тобой стряслось, приятель?
- Имел неосторожность повздорить с отвратным привратником. Да вы
входите, входите. Устроит вас этот стул?
- Я задерживаться не могу. Вот, принес. - Он сует мне в руку
запечатанный конверт.
На бумаге остались следы пальцев мистера Линча. Я вскрываю. - Почтальон
в дверях оставил. Ведь так и спереть могут.
- Спасибо, мистер Линч, - говорю. - Вы уверены, что не хотите остаться?
Я надеюсь отблагодарить вас за вчерашний добрый поступок, пригласив сегодня
на ужин.
- Да ну? Спасибо, приятель, только сегодня не могу. Сверхурочная у
меня.
- Ладно, тогда как-нибудь в другой раз. - Я смотрю на письмо, оно от
Эбберлайн Эррол. Просит прощения за наглое использование моего имени - под
предлогом ужина со мной хочет сбежать с вечеринки, грозящей скукой смертной.
Не желаю ли я стать ее сообщником, постфактум? Она записала номер телефона в
апартаментах ее родителей и просит позвонить. Читаю адрес на конверте.
Письмо переслали сюда из моей прежней квартиры.
- Ну, чего? - спрашивает мистер Линч, так глубоко засунувший руки в
карманы пальто, как будто карманы его брюк набиты краденым свинцом и он изо
всех сил пытается их удержать. - Новости-то хорошие хоть?
- Да, мистер Линч. Одна молодая леди хочет, чтобы я пригласил ее на
ужин. Мне надо позвонить по телефону. Но не забудьте: вы следующий в списке
тех, кого я намерен угостить, насколько это позволят мои скромные средства.
- Да как скажешь, приятель.
Удача пока на моей стороне - мисс Эррол оказывается у родителей.
Человек, которого я принимаю за слугу, отправляется ее искать. Ожидание
стоит мне нескольких монеток. Вероятно, апартаменты у семейства Эрролов
довольно внушительных размеров.
- Мистер Орр? Алло? - Похоже, она запыхалась.
- Добрый день, мисс Эррол. Я получил ваше письмо.
- Да? Хорошо. Вы сегодня вечером как, свободны?
- Я бы очень хотел с вами встретиться, но...
- Что случилось, мистер Орр? У вас простуженный голос.
- Простуда ни при чем, у меня рот... - Я замолкаю на несколько секунд.
- Мисс Эррол, я правда очень хочу вас увидеть, но боюсь... в моей жизни
наступила черная полоса. Меня перевели. Можно сказать, понизили в должности,
причем существенно. Это доктор Джойс меня опустил, если можно так
выразиться. Если точнее, на уровень У-семь.
- Да?
Бесцветный тон, с каким она произносит это простое слово, дает мне
больше, чем дал бы целый час вежливых объяснений о праве собственности,
социальном положении, благоразумии и такте. Возможно, от меня ждут
продолжения разговора, но это выше моих сил. Сколько длится мое молчание?
Секунды от силы две? Три? По меркам моста это пренебрежимо мало, однако я
успеваю пережить гамму чувств в диапазоне от отчаяния до гнева. Что же
делать? Бросить трубку, уйти, порвать с мисс Эррол немедленно и навсегда?
Положить конец этой пытке? Да, я так и сделаю. И пропади оно все пропадом!
Бросаю трубку! Вот сейчас... Да, сейчас же...
- Простите, мистер Орр, я отходила дверь затворить. Тут мой братец
рядом сшивается.
Так куда, говорите, вас перевели? Я могу помочь? Хотите, сейчас приеду?
Орр, ты идиот!
Облачаюсь в одежду брата Эбберлайн Эррол. Девушка появилась у меня за
час до условленного времени, с чемоданом, полным ношеных шмоток, в основном
ее братца. Мисс Эррол сочла, что у нас с ним примерно одинаковое
телосложение. Пока я переодевался, она ждала за дверью. Ужасно неприятно
было оставлять ее в столь вульгарной обстановке одну, но вряд ли она смогла
бы находиться в комнате.
И вот я выхожу. Она ждет в коридоре, прислонившись спиной к стене,
согнув ногу в колене и упершись пяткой в стену, так что ягодица касается
каблука. Руки сложены на груди. Мисс Эррол разговаривает с мистером Линчем,
а тот глядит со смесью подозрения и благоговения на лице.
- О нет, дорогой, мы всегда в конце тайма меняемся сторонами, -
досказывает Эбберлайн Эррол анекдот и хихикает.
Мистер Линч ошалело таращится, а потом разражается хохотом. Мисс Эррол
замечает меня:
- А, мистер Орр!
- Он самый. - Отвешиваю легкий поклон. Впрочем, не такой уж и легкий.
Эбберлайн Эррол смотрится просто великолепно в мешковатых брюках из
грубого черного шелка, жакете такого же цвета, шелковой блузе, сапогах с
высокими каблуками и потрясной шляпке. Девушка делает мне комплимент:
- Да у вас просто сногсшибательная фигура, мистер Орр.
- Сильно сказано.
Мисс Эррол вручает мне черную трость:
- Ваша тросточка.
- Спасибо.
Она протягивает руку и ждет. Мне приходится подставить локоть. Рука об
руку мы смотрим на мистера Линча. Я чувствую тепло мисс Эррол через куртку
ее брата.
- Что скажете, мистер Линч? Разве плохо мы смотримся? - спрашивает она,
выпрямляясь и вскидывая подбородок.
Мистер Линч смущенно кашляет:
- Ага... Очень... очень... - Он с трудом подыскивает подходящее слово:
- Очень... красивая пара.
Как хочется в это верить! Вроде бы мисс Эррол тоже польщена.
- Спасибо, мистер Линч. - Она поворачивается ко мне: - Не знаю, как вы,
а я проголодалась.
- Так какие у нас теперь приоритеты, мистер Орр?
Эбберлайн Эррол перекатывает между ладонями стакан, глядит сквозь
голубое свинцовое стекло и бледно-янтарную жидкость на пламя свечи. Я
любуюсь ее смоченными виски губами, влажно блестящими в мягком свете.
За ужин платит мисс Эррол, она на этом настояла. Мы сидим за столиком у
окна в ресторане "Высокие прогоны". Здесь просторно, вкусная еда,
вышколенная обслуга, отменные вина и красивый вид: по всему морю мигают огни
держащих аэростаты траулеров; сами баллоны плохо различимы, они почти
вровень с нами - смутные глыбы в ночном небе отражают многочисленные огни
моста. Еще заметны несколько самых ярких звезд.
- Мои приоритеты?
- Да. Что важнее вернуть: статус любимого пациента доктора Джойса или
утраченную память?
- Гм... - Я только теперь задумываюсь об этом по-настоящему. -
Безусловно, потеря привычных благ воспринимается довольно болезненно и
доставляет уйму неудобств, но я, наверное, в конце концов научусь жить
сообразно своему новому положению, если судьба не предложит чего-нибудь
получше. - Потягиваю виски. Мисс Эррол смотрит на меня с бесстрастным
выражением. - Однако неспособность вспомнить, кто я... - Не удерживаюсь от
смешка. - О ней, увы, я не способен забыть. Я всегда буду сознавать, что в
моей прежней жизни что-то было, поэтому, наверное, всегда буду искать.
Знаете, такое ощущение, будто во мне есть какая-то запертая и забытая
комната, и я буду мучиться неопределенностью, пока не найду вход.
- Жутковато звучит. Наводит на мысли о гробницах. А вы не боитесь того,
что можете найти за этой дверью?
- Библиотеку. А библиотек боятся только злые и глупые.
- Так для вас важнее найти библиотеку, чем вернуть апартаменты? -
улыбается Эбберлайн Эррол.
Я гляжу на нее и киваю. Войдя сюда, она сняла шляпку, но волосы не
распустила. И теперь ее голова и шейка выглядят умопомрачительно. И
по-прежнему меня чаруют обманчивые припухлости у нее под глазами. Они словно
защита, словно мешки с песком перед гнездами снайперов. А снайперы - ее
серо-зеленые глаза. Веселые, живые, смелые, уверенные в себе, неуязвимые.
Эбберлайн Эррол глядит в свой бокал. Я собираюсь что-то сказать насчет
складочки, миг назад образовавшейся у нее на лбу, но тут гаснут огни.
Мы остаемся в сиянии нашей свечи, на других столиках тоже качаются и
мерцают огоньки. Включаются тусклые аварийные лампы. Звучит глухое фоновое
бормотание. Снаружи один за другим исчезают огни траулеров. Аэростаты уже не
видны, потому что не отражают свет моста. Очевидно, все громадное сооружение
погрузилось в мрак.
Это самолеты. Они летят с погашенными огнями со стороны Города, их гул
разносится в ночи. Мы с Эбберлайн Эррол встаем и подходим к окну, и рядом с
нами выстраивается много других посетителей, и все вглядываются во мглу,
отгораживая глаза ладонями от слабого света аварийных ламп и свечей,
прижимаясь носами к холодному стеклу, как школьники у витрины со сластями.
Кто-то растворяет окно.
Источник звука - почти на одной высоте с нами.
- Вы их видите? - спрашивает Эбберлайн Эррол.
- Нет. Но, судя по звуку, они совсем близко.
Самолеты невидимы, их навигационные огни не горят. В небе нет луны, а
звезды слишком слабы, им не осветить летательные аппараты.
Звук начинает удаляться. Похоже, темнота самолетам не помеха.
- Как думаете, им это удастся? - спрашивает мисс Эррол, неотрывно
вглядываясь во мрак. От ее дыхания туманится стекло.
- Не знаю, - говорю искренне. - А если удастся, я не удивлюсь.
Она закусывает нижнюю губу, кулачки прижаты к темному оконному стеклу,
на лице возбуждение. Она кажется такой юной...
И тут загораются лампы.
Самолеты оставили свои бессмысленные сообщения - клочки дыма едва
видны, это мгла на фоне мглы. Мисс Эррол садится и берет стакан. Когда я
поднимаю свой, она наклоняется ко мне через стол и заговорщицки произносит:
- За наших бесстрашных авиаторов, откуда бы они ни были.
- И кем бы они ни были, - касаюсь ее стакана своим.
Когда мы уходим, среди более осязаемых ресторанных ароматов едва
улавливается легкий маслянистый чад. Загадочные сигналы исчезнувших
самолетов сливаются друг с другом и текут через структурную грамматику
моста, словно критика.
Мы ждем поезда. Мисс Эррол курит сигару. В роскошном зале ожидания
играет музыка. Девушка потягивается в кресле и позевывает.
- Извините, - говорит она и добавляет: - Мистер... постойте, если я вас
буду звать Джон, вы согласны звать меня Эбберлайн? Но только не Эбби?
- Ну разумеется, Эбберлайн.
- Договорились, Джон. Как я поняла, ты совсем не в восторге от своего
нового жилища?
- Это лучше, чем ничего.
- Да, разумеется, но...
- Но все-таки не ахти. И без мистера Линча я бы там совсем пропал.
- Гм... да, наверное. - У нее задумчивый вид. Она пристально глядит на
свой черный блестящий сапог. Проводит пальцем по губам, серьезно смотрит на
сигару. - О! - Гладивший губы палец показывает вверх. - Идея! - Теперь ее
улыбка шаловлива.
- Это мой дедушка по отцовской линии построил. Секундочку, найду
выключатель. Кажется, он где-то... - Раздается глухой удар. - Черт! - Мисс
Эррол хихикает. Слышу ритмичный шелест, - кажется, это плотный шелк трется о
гладкую женскую кожу.
- Ты цела?
- Цела! Голенью стукнулась. Где-то здесь они, лампы. Кажется, нашла...
нет. Вот зараза, ничего не вижу. Джон, у тебя, случайно, зажигалки не
завалялось в кармане? Я от последней спички прикурила.
- Извини, нет.
- Черт! А тросточку не одолжишь?
- Пожалуйста. Держи. Да вот она... Нашла?
- Да, спасибо, взяла. - Я слышу, как она постукивает и поскребывает,
ищет путь во тьме. Ставлю на пол чемодан и жду, - может, глаза привыкнут к
мраку и удастся что-нибудь различить. Вроде бы в углу есть что-то светлое,
но все остальное абсолютно черно. Издали доносится голос Эбберлайн Эррол: -
Он хотел гнездышко рядом с эспланадой, а здесь - самое подходящее место. А
потом наверху построили спортивный центр. Дедуля был слишком горд и не
согласился взять компенсационный выкуп, поэтому квартира осталась в семье.
Папа хотел продать, да никто не предлагал хорошей цены. Вот мы и устроили
здесь кладовку. Кое-где потолок отсырел, но мы починили.
- Ясно. - Я слушаю девушку, но воспринимаю только звуки моря.
Поблизости о камни или пирсы разбиваются волны. Я и чувствую море - в
воздухе господствует его сырая свежесть.
- Ну наконец-то, - звучит приглушенный голос Эбберлайн Эррол.
Щелчок - и все освещено. Я стою в огромной полутораэтажной квартире,
преимущественно с открытой планировкой. Кругом полно старой мебели и
упаковочных ящиков. С высокого, в пятнах сырости, потолка гроздьями свисают
причудливые люстры, стены облицованы потемневшими от времени деревянными
панелями, лак с них облупился. Везде - белые полотнища, они полускрывают
старинные, тяжеловесные серванты, платяные шкафы, кушетки, стулья и комоды.
Другие предметы мебели зачехлены полностью и даже обвязаны веревками - ни
дать ни взять огромные и пыльные подарки. Там, где раньше угадывались пятна
света, сейчас - длинный экран непроглядной черноты, за незашторенными
оконными стеклами видна ночь. Из соседней комнаты появляется Эбберлайн
Эррол, широкая плоская шляпка все еще на ее голове. Девушка хлопает в ладоши
- отряхивает пыль.
- Ну, так-то лучше. - Она оглядывается. - Тут чуток сыро и пыльно, зато
тихо. И места побольше, чем у вас на У-седьмом. - Она возвращает мне
тросточку, потом ходит среди мебели, откидывает простыни и чехлы,
заглядывает под них. При этом она поднимает тучи пыли и чихает. - Тут где-то
должна быть кровать. - Она кивком указывает на окна: - Может, закрыть
ставни? Обычно здесь сумрачно, но утром солнце может разбудить.
Я пробираюсь к высоким окнам - кускам обсидиана в обрамлении
потрескавшейся белой краски. Загораживаю пыльные стекла тяжелыми ставнями,
они при этом громко скрипят. Снаружи, внизу, я вижу изломанную линию прибоя
и несколько огней вдали - это навигационные фонари и бакены. Выше, там, где
должен находиться мост, - только беззвездная мгла. Волны блестят миллионами
тупых ножей.
- Вот она. - Эбберлайн Эррол находит кровать. - Кажется, отсырела
немножко, но я найду побольше простыней. Они где-то здесь, в этих ящиках.
Кровать огромна. Изголовье резного дуба изображает пару огромных
распростертых крыл. Эбберлайн, в клубах пыли, идет рыться в шкафах и ящиках.
Я испытываю кровать на прочность.
- Эбберлайн, это очень любезно с твоей стороны. Но ты уверена, что у
тебя не будет из-за этого проблем?
Она громко чихает рядом с далеким ящиком.
- Будь здорова, - говорю.
- Спасибо. Нет, я не уверена. - Она стягивает с ящика простыни и
газеты. - Но если вдруг отец каким-то образом прознает и рассердится, я
наверняка смогу его уговорить. Не беспокойся, сюда никто не ходит. Ага! -
Она обнаруживает толстый плед, несколько простыней и подушку. Зарывается
лицом в плед, глубоко вдыхает: - Да, вроде сухой. - Она стелит кровать.
Я предлагаю содействие, но получаю отлуп. Тогда снимаю пальто и
отправляюсь искать ванную комнату. Она раз примерно в шесть больше комнаты
306 на уровне У-7. Одна ванна чего стоит - в ней может поплавать приличных
размеров яхта. Туалет просто шикарен. Умывальник работает, душ и биде тоже
дают водяные струи. Я задерживаюсь перед зеркалом, зачесываю волосы назад,
оправляю рубашку, смотрю, не застряли ли кусочки пищи в зубах.
К моему возвращению в комнату постель уже готова. Над белым одеялом из
утиного пуха раскинулись громадные дубовые крылья. Эбберлайн Эррол ушла.
Входная дверь медленно покачивается на петлях.
Я закрываю дверь, гашу почти все огни. Нахожу старую настольную лампу и
ставлю ее на ящик рядом с огромной холодной постелью. Потом лежу и
разглядываю на потолке большие тусклые следы давно пролитых слез.
А они, словно древние фрески, глядят в ответ, отражая круглый стигмат
на моей обнаженной груди.
Я дотягиваюсь до старой лампы и снова включаю тьму.
"Злезь на Покойника", - скозал мине етат старый убльюдок када я па
питался палучит ат ниво коикакии свиденя. Ты гаварю старий долбаной
изврашченетс закаво ты миня принимаиш. Тирпение мае лопнуло и я падрезал иму
глодку. Я тибя спрашиваю где ста долбана Спяшчая Кросавитса и нахрена мине
сдалса твой пакойник. "Нет, нет, - гаварид и крававими слунями всю маю новую
керасу за бризгал. - Это скалу звать Покойник. На ней стоит замок, там ты и
найдешь Спящую Красавицу, но только не забудь, что надо остерегаться..." - и
тута убльудок памираит пависнуф на мине. Вот видь думаю зашибис ета ж
аффигеть можна. Насраение упала канешна да тока ничиво ни паделаишь чо
случилас то случилас.
Ни как ни мог вспомнит где ета я ранше слухал про Спяшчу Кросавитсу но
видь слухал ета тотчна. Сичас кругом стока всякой магии куцы ни пльунь
валшебники калдуны и ведь мы. В какой горад ни зойди абизатилно на поришса
на какованибуть убльудка каторый на водид чары и гаварид за клинания и на
равид кавонибуть привратить в лигужку или чирвяка или пляватильнитсу или ишо
чаво. Многа сичас розвилос хитразадых пидрил да видь нада камуто и навое па
палям раз кидывать и дама строить и хлеп растидь и все такое верна видь. В
падобных дилах магия ни охти кака памошнитса. Ана хараша када нада рыжывье
ховать и памядь адшибать и приврашчать льудей в то во што ани приврашчатца
ни хатяд и все такое протчее а ни када нада пачинить калисо долбаной павозки
или откапать поели паводка фамильну халупу из ричнова ила. Такчо вы миня
лутчше ни спрашевайти какета магия дейзтвуид можид ия навсех ни хватаид или
шо адин калдун накал давал другой фзад разкалдуид коротчи нетак ана крута
как ие разписываюд или на верна мир уже давно был бы афигенна чюдестным и
щасливым и люди жыли бы в мири и гормонии и па мне так ета било бы проста
зашибис. Но жызнь такава какава ана ест и па мне так ета савсем ни плоха
патамушта инатче ни нужны били бы парни в роди миня и кака мине с таво
радост верна видь да и скукатень била бы.
А ваще нынтче жетуха ничиво работы завалис в аснавном патаму што все
eти калдуны такие хитрамудрые што за бывайюд пра тошто метч могет койчиво
делат чиво валшебство ни могет асобена када твой пративник ждет от тибя
закленания а ни удара метчом. Ващето я и сам об завелся койкакими валшебными
даспехами а ишшо дабыл закалдовоный ножытчек каторый пра сибя думал што он
баивой кинжял и все такое протчее но я им пачти ни ползуюз. Лутчи полагаца
на сваю крепку руку и острий метч вот што я вам скожу.
- Мой первый имеет английский король И то, где грызутся за главную
роль. Второй - меж клыков, источающих яд, И в лицах людей, что над мертвым
скорбят. Их вместе нельзя обнажать просто так, Но если уж вынул... (Ответ -
не елдак.)
Ни обрашчайти внымания ета долбаный ножытчек нисет всяку чуш. Атвет
кстати кинжял. Дуратчина этот ножытчек ни мазгоф ни граматы. А ишшо у ниво
отчень писклиавый галасишко и как он мине инагда на не вы действуид эта ж
проста аффигеть можна. Правда под час ета штутчка дрьютчка бываид палезной
ана на пример спасобна видить в тимнате и ишшо гаварид мине кто мой друк а
кто врак и клянус ана пару рас випрыгивола из маих рук и литела как птитца и
ванзалас прям в глодку убльюдку каторый мине даставлял ниприятности. Нужная
штуковвина. Раньши ана была у дивитцы у юной кастлявой ведь мочки. Ие
дамагалси адин калдун а ана ни хатела играть с ним в ети игры и тада нанила
миня штобы я пазаботилса о старом казле и ета юная дивитца дала мине в
награду ножытчек скозала ето токо копия но ана явилас из будушчево и можид
тибе пригадица.
И ета была ни идинствена мая нограда. Знаити што за чудиса ети ведь мы
в койки вы тваряюд? Зашибис проста аффигеть можна. Каданибуть ишшо ее
навешчу при слутчае.
Вобщим гдета я услухал пра Спяшчу Кросавитцу и ришил узнать где жи ана
абритаица но аказалось што ета савсем нилегкая задатча. На конетц мине
папался етот калдун каторый росказал пра сколу Пакойник но тока я иво при
контчил ранше чем он успел мине росказать все што знал. Пажалуй эта я
патарапилса всигда тараплюс ест у миня токая слабост но тут ничиво ни
паделаиш низря жи гаваряд што биспалезна пириучиват чилавека на старасти
лет. Хатя я ишшо савсем ни старый ни падумайти чиво. Штобы бить рубакой
найомником нада бить маладым и крепким иуда ретч сичас не об етом. Так на
чом я астанавилса? Ахда на Пакойнике.
Ну каротче гаваря поели многих валнуюшчих прекльутчений я дабралса да
етава волшебника и зоставил иво паказать мине дорошку в какуйта Приисподню.
Прешлос пачти три нидели жарить на медлином агне жырых кошаков но в кантце
кантцов я сваиво до билса. Валшебник наказал мине на правление и дал койкаки
саветы но у миня тада была тупая бошка патамушта наконуни я на пилса вина и
к тамужи очин валнавалса патамушта я сабиралса на конетц вайти в Надземный
Мир. Кароче я за помнил ни все из таво што мине скозал калдун. "Юноша,
остерегайся Леты, реки забвения!" - гаварил валшебник када я стаял в падвале
иво замка и бошка у миня тупая была и я думал здря ты ета ни скозал вчира
перид тем как я ножралса. Чиво чиво астиригаца гаварю. А он кречит: "Леты!"
Лады старикашшка все понял гаварю и станавлюс прям в ету зобавную звездотчку
катору он нарисавал на палу в сваем падвали.
Нихринаж сибе мистечко думаю ета ж проста аффигеть можна. Кругом арут
вапят кречат и зубьями скрижешчут и все при ковоны к стенкам в надземных
калидорах а тут аткуда ни воз мис я са сваим пахмелием. Итак бошка тресчит
атут енти тридзвонят по питался я при кончить койково изетих шумных
убльюдков но ничиво ни вышло. Рубиш их на двое а они все ровно арут кречат и
рвутца с ципей и я ришил с ними ни связывотца. Иду я далше па падземным
калидорам и вижу ямы то с агнем то со лдом и вних люди кречат. А я диржу
метч наисгатофку а ишшо думаю эх жаль бутылотчку шатланскаво ни при хвотил
патамушта сушняк спахмела страшенный.
Иду я сибе иду и скока миль уже атшагал хрен сащитаиш. Иду и думаю што
можид поизд черис менуту-другую падайдед падкинид хоть но хрена лысава тока
ети убльюдки дастали все вапят арут кречат и дергаюца а ишо ниприятны дым и
агни и лды и ветпр воюшчий и ишшо хрензнат што и я уждумаю ни ис пить ли
водитцы из лединова озирца но тута вспаминаю слова калдуна пра Лету и воз
держиваюс.
Но пастипено все стихаит. Иду я сибе иду па длиному танелю и вот вижу в
кантце чевота в роди днивнова света но тока он очинь тусклый и скушный и я
выхажу в низу балшова утеса перид рикой а вакрух сплош аблока да туман. И ни
душы долбоной и даже етих балтливых убльудков с ципями ни слыхать. Уже
натчинаю думать што валшебник мине укозал ннверну дарогу. И пить хода снлна
и все ишчу пывнушку или ченибуть в роди а кругом тока коминюки и рика мимо
медлина тикет. Иду я иду па беригу и тута вижу каковата мужыка он котит
балшой волун на склон халма. Я иму гаварю здарова мужык я пириправу ишчу где
тута можна сесьть на парахот. Можа где при стань паблизости а? Да тока етот
убльудок дажи ни павернулса. Котит свою долбону коменюку прям в верх. Но
тута комишока сарвалас и покотилас в низ а глупый пидрила за ней пагналса. Я
кречу эй ты а мужык ни атвичаит. Эй ты казел гаварю я каво с прашиваю где
тута при стань и парахот. И плошмя бью метчом дурака по заднитце и забигаю
перид коминюкой и ни даю ей далше котица.
Да тока ни визет мине у порно муджик разговариват толком ни магет
балбочит на какомта инасраном языке. Вот видь зараза думаю и пытаюс иму
знаками вталковат што мине надо и хатя он в роди бы понял всеровно ни
гаварид и тада я скозал што памагу иму закотить волун на горку если атветит
на мой вапрос. Хитрый убльудок захател штобы я снатчала закотил коминюку. Я
так и зделал и пака он диржал волун я иво падпер камишками памелче штоб ни
скотилса. Мужыку eтa страшно панравилос он покозал на бериг рики и скозал
"Хрен" или штота в етом роди и утопал в туман аставив здаравеный каминь на
виршине халма.
Я тада по тащилса далше па беригу етой долбоной туманой рики и патом
увидил балшую птитцу ана литела в тумани и арала. Я за метил што ана
апустилас на сколу к каторой был приковон ципями какойта мужык вспарола иво
кльувом и стала вы рывать и жрать иво патроха а бедный убльудок арал и выл
так што мог бы паднят мертвово но пака я туда шол я на верна спугнул птитцу
и ана у бралас. Я ришил пасматрет как там дила у парня аказалос он уже па
правилса дажи шрама ни асталос там где арел полднитчал. Звини гаварю тчувак
я тута ишчу пириправу можа под скажиш?
Визет же мине на етих долбоных инасрантцев. Я снова па питалса знаками
паказать но мужык кажис не понял знай сибе арет и ципями трисет. Я ришил што
напрастно тиряю время все ровно што кавырят в насу рукой в пирчатке. Тута
вирнулас птитца и стала арать и кидаца на миня и целить кльувом мине в
бошку. Я уже был ни в насраении всяки глупости тирпеть а патаму махнул
метчом и атрубил ей крылыжко. Птитца упала в рику и паплыла креча и
борахтаяс а тчувак на скале абизумел от радости за арал и за гремел ципями.
Лады гаварю преятиль можиш ни благадарить. И спустилса со сколы.
Но при стани так и ни нашол. И вот стаю я перид рикой и думаю ни
хлибнуть ли из ние.
Мой первый имеет картежный игрок И северный витязь, который двурог.
Второй был разбит на священной горе...
За ткнис и ни вякай гаварю ножытчку и трясу им перид сваей фезиономией.
Я жудко злой патаму што все хажу хажу а толку нет и бошка все ишшо с
похмелия балит.
Содержится первый в похлебке из рыб И в смехе, исторгнуть который могли
б Владельцы второго: монарх-лицедей И средневековый помещик-злодей, Услышав
подобный ответ от меня: "Похлебка с монархом? Да это ж..."
Ты убльудок ишшо чивонибудь вякниш и будиш патом разгавариват с крабами
и рыбами понял пригразил я ножытчку. И тута я увидил как из тумана выходит
лотка с веслами а в ней мужык здаравеный такой урод в чорных лахмотях. Стаит
он в лотке руки слажил на пузи и рожа высокамерна такайа. А я ни магу панять
как лотка то двигаица наверна магия каканибудь. При стает лотка к беригу
перидо мной я зализаю и мужык мне руку пратягиваит. Я ие нажимаю а он
гаварид плати молыш и руку ни апускаит.
Тута я метч дастал ета ж аффигеть можна с етими инасрантцами. При
ставил астрие к иво глодке а иму кажица хоть бы хны. Ета ты гаварю Хрен.
"Харон", - атвичаит как ни в чом ни бывало. Так вот гаварю у миня дениг ни
многа так што как насчот в долг? А он дажи ни раз думываид сразу бошкой
мотаид. "У тебя должны быть монеты на глазах, все мертвецы обязаны платить
перевозчику". Нихринаж сибе сурпризики думаю ета ж аффигеть можна. Да тока
ято ни миртветц гаварю и он как буто над етим по кумекал. "Совсем
пограничная стража распустилась, - гаварид на конетц. - Ну да ладно, может,
ты и расплатишься со мной, если умеешь орудовать этой железкой". Я тута
смикаю што он имеит ввиду мой метч. А што ты от миня хочиш преятиль
спрашиваю.
Каротче мы сашлис на том што циной маей пириправы чериз рику будит
песяя бошка. Мужык скозал што пес па клитчке Серь-Берь живед на том берегу
на сколе Пакойник и стерижот вхот ва дваретц. "По одной голове он скучать не
будет, - гаварид Харон, - а мне нужно украшение на нос лодки". Ета каким жи
нада быть изврашченцем штоб до такой прозьбы дадумаца но я рассудил што люди
абриченые жыть в стой мидвежией дыре далжны видь какта развликаца.
Па ту сторану рики то же было тумано и тимно. Я аставил Харона в ивоной
лотке а сам пашол па дароге к етому балшому дому типа дварца каторый стаял
на утесе. Па пути я ухо диржал вастро в друк паявица етат пес Серь-Берь. И
правилно делал што астиригалса патаму што чудовишче выскотчило мне
навстретчу из варот када я паднялса на сколу. И у етай долбоной звирьюшки
было ажно три бошки! И все ани рытчали и слюни пускали. И я тута понял што
етот пидрила Харон имел ввиду када гаварил што па одной бошке пес скутчать
ни будит. Адну враз и аттяпал. Тока ета ж скока нада летцензий для ахоты на
таку тварь адну или три. А у псины правалица мне наетом месте бошка апядь
хоп и вырасла.
Шел первый в храм Божий дорожкой кривой По полюшку-полю с травой
кормовой. Второй коченел на ледовой горе, Потом согревался в медвежьей норе.
При встрече заливисто лаяли, но Наивно считать, что разгадка - "гов..."
Тута я кречу эй преятиль лави и выхватываю кинжял каторый между тем
всяку чуш нисет и швыряю сабрыва. И пес купился.
Гляжу я сабрыва и вижу што Серь-Берь шмякнулси в низу об коминюки. И
тада я очинь даволный сабой нагнулса за бошкой а ана возми да покатис
кабрыву. Хател паймать да замеш-колса ана сорвалас и разбилась в смядку об
камни и кинжял я тожи патирял. Вот же гацтво думаю и иду к балшому двартцу в
очинь плахом настраении. А в нутре темно хочь глаз кали. И я дажи ни вижу
куды миня нисет датамушта бошкой страшна треснулси об низку приталоку ажио
искры из глаз ну как о статуйю мраморну прилажился. И ни видна пачти ничиво
можит у миня бошка рас сажена и кров тикет на глаза. Кароче хажу я вслипую и
ошшупью пытаюс апредилить где ста я и натыкаюс на разные вешчи и ругаюс
вавсю. И тута я вдрук слышу шыпение и мима миня литят стрелы и стукаюца об
калоны и стены и падают на каминый пол. А я все ишшо очинь плоха вижу но
мине удаеца раз глядеть в тени какова то страннава убльудка. Он шыпит и
пытаица воткнуть в миня стрилу другую. Ну думаю зашибис ета ж аффигеть
можна. Эх жалка нету при мине таво смышленава кинжяла.
Ей первый любезно приносит пчела И лепит на грудь за лихие дела. Второй
даст одна из сестер девяти За путы, которых прочней не найти. Вдвоем
охраняют волшебный дворец. Ты понял, кто это? Ан поздно - ...
Хватит гаварю всяку долбону чуш нисти жива иди сюда. И вижу как возли
маей руки завис в воз духе валшебный кинджял. Я иво лавлю и кидаю а сам
бросаюс на пол. И та поскуда катора шыпела вдрук издает придушиный
кашляюшчий звук и смолкаит. Я падошол и ета оказываица женшчина ужастная
навид в миня из лука стриляла. Я ишшо плоха вижу но замичаю какие у ние
жудкие волосы прям крысины хвасты наверна с раждения бошку ни мыла. Так и
аставил ие валяца мордой в лужи крови а вот валшебный кинжял выдирнул из ие
глодки. Клянус у етой жудкой бабы кров была што твая кислата от ние дажи дым
шол.
Ну да минета што стово я пашол далше искать Спяшчу Кросавитсу.
Ну нихренаж сибе сурпризики.
Апять аблом! А случилас вот што я на конец нашел комнадку типа келья
адну на весь дваретц в каторой было коешто а в астальных было пусто. Ни
ужастных женшчин ни песов приврадников с лишними бошками и сокровишч тожи
нету. И казалос уже мине што все ета совершено напрастная патеря времини и
от етой мыстли у миня насраение ис портилос но на худой конетц думаю здес
есть красивая дивитца катора спит мертвым сном а штоб ие раз будить нада ие
пациловать. Нащщет пацилуя ни знаю а уж трахнуть ие не откажус канешна.
И вот аказываица ета ни ана а он. Спяшчий Кросавитс. Лижит в койке
мужык рожа вся белая дрыхнит. А кругом всяки железны сундуки панаставлины и
к ниму всяки длинные штуки от етих сундуков тянуца. Проста аффигеть можна. У
миня канешна от такова зрелишча насраение савсем ис портилос и я уж было
сабралса перирезать глодку убльудку да тут вдрук на стине паявилас кортинка
и не прастая а жывая. Бабья рожа притчем даволна симпотитчна с рыжьши
воласами. "Не надо!" - гаварид. Я ни спишу при контчить мужыка падхажу к
кортинке и спрашиваю тыто сутчка кто така. А дивитца гаварид: "Не убивай
его!" Я по кортинке па стучал на стикло пахоже. Зашол в комнату за кортинкой
там нету никаво значид нихрена не акошко. Ета пачиму же я ни должен иво
убивать спрашиваю бабу. "Потому что он станет тобой. Ты его убьешь, а он
будет снова жить, но уже в твоем теле. Уходи, пожалуйста. Не смотри в лицо
Медузе и не бери..." Тута дивитца ищщезаит а кортинка становица серой и
шыпит как та ужастная баба. Я вдарил па стиклу рукаяткой метча но оно тока
раз билос. И адин асколок прям в бошку мине папал и кров снова палилас.
Ладна хрен с вами гаварю и вытераю кров с лоба. Тока сабралса ухадить как
вдрук вижу на падоконике рыжывье. Ета скулптура лигужки или кавота на ние
пахожево. Я ие поднял ничиво увесестая. Сунул в корман штонов и надумал што
пора как гаварица деладь ноги. Мужыка на койки ни тронул хрен с ним он итак
идва дышыт. Хател было паискать дивитцу с кортинки но видь я устал и довно
ни чиво ни ел и ни пил и думаю в гастях харашо а дома лутчше. Пашол на зад в
патемках и идва ни спаткнулса об труп ужастной женшчины. Вспомнил об чем
прасил Харон и падумал што от песих бошек наверна мало што асталос пад
абрывом дажи если туда слезу а возвращаца с пустыми руками не хочица и
атрубил бошку ужастной женшчине и закинул ие сибе за шштчо. У ние воласы
были как змиюки хатите верьте хатите нет.
Вирнулса я к весильной лотке где миня дажидалса Харон высокий такой
уротливый стаит руки на пузи слажил и вид у ниво все та-койже натменный и
при зрительный. Здарова Харон гаварю песа я там не встретил зато при нес
тибе бошку ужастной женшчины надеюс сгодитца. И наказываю иму бошку и качяю
ею перид ним. А он застывает. Хатите верьте хатите нет етат убльудок прям на
маих глазах при врашчаитца в коменюку. И праламываит днишче лотки как статуй
до самава пиздчанава дна тонит. И лотка иво тонит в месте с ним. Ну нихринаж
сибе думаю ста ж аффигеть можна и кидаю бошку ужастной женшчины в воду. И на
фига мине спрашиваица такая жызнь. И ваще пачиму era все праисходит са мной
а ни с кемнебуть другим. Сел я на берижку и пригарюнилса. Проста выдалса
ниудатчный день гаварю сибе ни визет так ни визет.
И тута я в роде как слухаю шум в сваем кормане. Дастаю запатую
статуетку приглядываюс. И правда пахоже на лигужку тока у ние типа крылыжки
на спинке. Паглядел я на ние паглядел на воду и думаю а и хрен с ним авось
периплыву какнибуть. Но пришлос аставить на етом беригу валшебный даспех и
новую керасу. Пояс с метчом я павесил на шею а ишшо етим поясом абвизал
статуетку вашол в воду и паплыл. Носки перид етим не снял а в адин изних за
сунул валшебный кинжял. Плавать я ни мостак но па сабачьи кто изнас ни умеит
правда веть. В кантце кантцов до бралса до таво берига. И водитца в рике на
вкус оказалас ничиво такшто я всетаки уталил сваю жажду. На том беригу
астанавилса у балшой сколы где был мужык приковоный ципями. Арла и след
прастыл. Правда и тчувак на сколе падох у ниво чевота в нутре рас пухло и
вырвалос на ружу все вакрух заляпало. Можит рак а можит ишшо чивонибуть.
Пахоже на ливер. Залатая статуетка все шибуршалас в кормане. Ващето мине
было нипанятно ета я в самом дели слухал галоса или проста мерешчилос аттаво
што бошкой вдарилса. Но я всетаки паднес лигужку с крылыжками к уху и ета
была балшая ашипка.
- Мой мальчик! До чего же это благородный поступок - вызволить меня из
адских сфер. Мне даже не верилось, что телепатия Спящей Красавицы работает
между мирами или что ты сюда доберешься. Я тебя недооценивал. Мог бы,
впрочем, и догадаться, что ты легко сойдешь за тень, - ты ведь у нас никогда
особенно не блистал, верно? А знаешь, я готов поклясться: эти породы -
метаморфические, а не вулканические... Ну что ж, мой маленький Орфей, пора
выбираться отсюда, пока ты не превратился в саловаренный столп или
что-нибудь в этом роде. Предлагаю...
А я думаю зашибис ета ж аффигеть можна.
Мой первый - в...
- Ну и ну! Летательный нож - шарадист! Дружок, да как тебя угораздило
им завладеть? Или как его угораздило завладеть тобой? Сказать по правде,
чего я на дух не переношу, так это машин, которые дерзят и перечат...
МОЛЧАТЬ!!!
Кинжял взял и задкнулси. Малчид таперь втряпотчку. А ета лигужка катору
я диржу возли сваиво уха болше ни залатая. Ана сидит на маем плитче и пахожа
на кошака с крылыжками и голос у ние ужастно...
- Знакомый? - гаварид. - Да, мой мальчик, ты совершенно прав.
Ну нихринаж сибе сурпризики.
Прекращенный поиск... Запах соли и ржавчины. Кругом тьма, захороненная
в основании, чтобы с глаз долой. Тьма бродит через свет и тень под звуки
моря...
Я медленно просыпаюсь; я все еще погружен в грубые, примитивные мысли
варвара. Сюда, в просторное, но загроможденное помещение, огибая края
ставней, просачивается мягкий серый свет; он очерчивает зачехленную мебель и
подпитывает мое пробуждающееся сознание, словно принял его за росток,
пробивающийся через липкую глину.
Меня обвивают, словно веревки, холодные белые простыни. Дремотно
ворочаюсь, пытаюсь устроиться поудобнее, но ничего не выходит. Я связан, я в
ловушке, меня вмиг затопляет парализующий страх, и вдруг сна ни в одном
глазу. Замерзший, в поту, сажусь в постели, вытираю лицо и озираюсь в
сумраке и покое.
Открываю ставни. Тридцатью футами ниже море бьется о камни. Оставляю
нараспашку дверь в ванную, чтобы, моясь, слышать этот неторопливый рокот.
Я завтракаю в скромном баре. Официанты длинными белыми тряпками
протирают ближайшие столы. В воздухе кричат и барражируют чайки. В ту
сторону выходят окна кухни, и птицам бросают обрезки. Мерцает белизна
крыльев. Тряпки громко шлепают по столам. По пути сюда я зашел в комнату
306, посмотрел, нет ли для меня почты. Ничего. Внизу по-прежнему режут
листовое железо.
Я долго пью последнюю чашку кофе.
Неспешно перехожу с одного бока моста на другой. Почти все траулеры
сейчас держат по два аэростата воздушного заграждения. Некоторые аэростаты,
похоже, заякорены прямо на морском дне. Там, где тросы встречаются с водой,
на волнах покачиваются оранжевые буйки.
На ленч я взял сандвич и бумажный стаканчик чая и устроился на скамье с
видом вверх по течению. Погода меняется, свежеет, небо постепенно
затягивается тучами. Когда меня сюда прибило, стояла ранняя весна, а нынче
лето уже почти на исходе. Мою руки в туалете на трамвайной остановке, сажусь
в общий вагон и еду в ту секцию, где должна быть потерянная библиотека. Ищу
и ищу. Осмотрел все встреченные шахты лифтов, но L-образной кабины и старого
служителя так и не нашел. На мои вопросы все отвечают лишь равнодушными
взглядами.
Поверхность моря сейчас серая, как небо. Тросы аэростатов натянуты чуть
ли не до звона. Мои ноги гудят от бесчисленных ступенек. В грязное стекло
верхних коридоров барабанит дождь. Сижу там, пытаюсь набраться сил.
В самом верхнем коридоре, темном и протекающем, нахожу под разбитым
световым люком кучную стайку белых шариков. Они шероховатые и очень твердые
на ощупь. У меня на глазах очередной мячик влетает в пробоину и падает на
пол коридора. Я вытаскиваю из ниши поеденный молью стул, ставлю его под
световой люк, забираюсь и просовываю голову в дырку.
Вдали виднеется рослый старик с седой шевелюрой. На нем гольфы, джемпер
и кепка. Длинной тонкой битой он замахивается на что-то, лежащее у него под
ногами. Ко мне по высокой дуге летит белый шарик.
- Эй, впереди! - кричит старик. Наверное, ко мне обращается. Он
жестикулирует, а мячик падает возле светового люка и отскакивает. Старик
снимает кепку, упирает руки в бока и глядит на меня. Я спрыгиваю со стула и
нахожу винтовую лестницу наверх. Когда я появляюсь на крыше, старика и след
простыл. Но зато там траулер, окруженный рабочими и чиновниками. Он лежит за
поврежденной радиобашенкой, спущенные баллоны свисают с ближайших ферм. Они
похожи на обломанные черные крылья. Льет дождь, дует сильный ветер.
Вздуваются и блестят полы плащей и непромокаемых накидок.
Тусклый и сырой ранний вечер. У меня болят ноги, урчит в животе.
Покупаю сандвич и съедаю его в трамвае. Меня ждет долгий и утомительный
спуск по однообразной винтовой лестнице к старой квартире Эрролов. К тому
времени, когда добираюсь до нужного этажа, ноги уже как чугунные. В
безлюдном коридоре я себе кажусь вором-домушником. Иду, держа перед животом
ключ от апартаментов, точно крошечный кинжал.
Внутри холодно и темно. Включаю несколько ламп. Снаружи пенятся серые
валы, а комната наполнена запахом йода и соли. Закрываю ставнями окна и
ложусь на постель. Собираюсь лишь минутку полежать, дух перевести, но
засыпаю и возвращаюсь на болото, где невероятные поезда гоняют меня по узким
туннелям. Наблюдаю за тем, как варвар шествует в преисподней, где вой и
скрежет зубовный; я - не он, я прикован к стене, я взываю к нему... А он
идет размашистым шагом, неся меч в опущенной руке... Я опять на крутящемся
чугунном мосту, сквозь который течет река. Бегу и бегу под дождем, а ноги
болят, болят...
Снова просыпаюсь, весь мокрый от пота, не от дождя. Мышцы ног сведены.
Звенит звонок. Полуобморочно шарю в поисках телефона. Снова звонки, и я
понимаю, что это в дверь.
- Мистер Орр? Джон?
Встаю с кровати и приглаживаю разлохмаченные волосы. В дверях стоит
Эбберлайн Эррол в длинном темном пальто, ухмыляется, как озорная школьница.
- Эбберлайн? Здравствуй. Проходи, пожалуйста.
- Ну как ты, Джон? - Она властно вторгается в комнату, оглядывается,
приподнимает голову и смотрит на меня. - Все в порядке?
- Да, спасибо. Что если я предложу твой же стул? - Затворяю дверь.
- Можешь мне предложить моего же вина, - говорит она со смехом,
крутнувшись на одной ноге и взметнув полы пальто. Ко мне плывут запахи
каких-то резких духов и крепких напитков. У нее поблескивают глаза. - Вон
там. - Она указывает на полузакрытый белой простыней шкаф. - А я принесу
бокалы. - Она идет на кухню.
- Ты вчера вечером так внезапно меня покинула, - говорю, открывая шкаф.
Там полки, полки, полки. А на полках - бутылки с винами и кое-чем покрепче.
- Что? - возвращается она с двумя бокалами и штопором.
Я выбираю вино, не слишком старое и дорогое на вид.
- Я решил тут осмотреться, а когда вернулся, тебя уже не было.
Она вручает мне штопор. У нее озадаченное выражение лица.
- В самом деле? - спрашивает неуверенно. На лбу пролегает складка. - Ах
да! - Она улыбается, пожимает плечами, садится на застеленную простыней
кушетку. Эбберлайн еще не сняла пальто, но мне видны черные чулки, черные
туфли на высоком каблуке, что-то красное у ворота и краешек красного подола.
- Я была на вечеринке.
- Вот как? - Я откупориваю бутылку.
- Хм. Не веришь - оцени мой наряд.
- Почему бы и нет?
Она встает и отдает мне бокал. Расстегивает длинное черное пальто,
легким движением сбрасывает его с плеч и бросает на стул. Производит пируэт.
На ней обтягивающее платье из алого атласа. Длиной до колена, однако с
разрезами до верха бедер. Когда она кружится, я вижу гладкую полоску белой
кожи между густой чернотой чулок и краем черного же кружева. Высокий ворот
почти скрывает тонкую черную горжетку. Плечи подбиты, лиф - нет.
Эбберлайн Эррол останавливается, упирает ладони в бедра и смотрит на
меня. У нее голые руки; темный пушок на них создает эффект черного контура.
Лицо с искусно наложенным макияжем, ироничный взгляд. Внезапно она
поворачивается и сует руку в карман пальто и достает какие-то вещи. Сперва я
их принимаю за другую пару чулок, но это оказываются черные перчатки. Эррол
их надевает; они почти достают до локтей. Из ее горла вырывается смешок.
Следует еще один балетный пируэт.
- Что скажешь?
- Как я догадываюсь, это была неформальная вечеринка? - Наливаю вино.
- Что-то вроде бала-маскарада. Я изображала женщину легкого поведения,
но так нагрузилась... - Она прикладывает ладонь ко рту и смеется. И, взяв у
меня бокал, делает реверанс.
- Эбберлайн, ты выглядишь просто сногсшибательно, - говорю серьезно и
за это получаю очередной реверанс.
Она глубоко вздыхает и проводит рукой по волосам, поворачивается и идет
неторопливо, постукивая костяшками по старому высокому буфету из темного,
щедро лакированного дерева, проводит по нему длинными пальцами в перчатках.
И пьет вино. Я смотрю, как она огибает зачехленную и незачехленную мебель,
отворяет дверцы, заглядывает в ящики, приподнимает за углы белые полотнища,
стирает ладонью пыль со стекол и инкрустации, неслышно напевая и отхлебывая
вино маленькими глотками. Кажется, я на время забыт. Но я не обижаюсь.
- Ничего, что я пришла? - Она сдувает пыль с торшера.
- Ну что ты! Я очень рад.
Она оборачивается, на лице опять улыбка. Но уже в следующий миг она
хмурится и глядит на серое море и дождевые тучи за окнами и кладет ладони на
свои обнаженные предплечья, не выпуская ножки бокала из пальцев. Делает
маленький глоток. Есть что-то странное и даже трогательное в этом жесте -
быстром, вороватом, почти детском, неосознанно кокетливом.
- Замерзла. - Она поворачивается ко мне, и в серых глазах, кажется,
сквозит печаль. - Не закроешь ставни? Там так холодно... А я огонь разведу.
Хорошо?
- Конечно. - Ставлю бокал и иду к окну. Со стуком отгораживаюсь
высокими деревянными панелями от сумрачного дня.
Эбберлайн убеждает старый газовый камин зажечься и, оставаясь перед ним
на корточках, протягивает руки в перчатках к огню. Я сажусь поблизости на
зачехленное белым кресло. Она смотрит на огонь. Тот шипит.
Через некоторое время она, словно очнувшись от дремы, говорит, глядя в
камин:
- Как спалось?
- Спасибо, прекрасно. Было очень удобно.
Ее бокал стоит на изразцовой каминной полке. Эбберлайн берет его,
прихлебывает вино. На ее чулках рисунок крестиком - маленькие иксы в больших
иксах, более плотные строчки на просвечивающей материи, там натянутые
слабее, тут - сильнее и подсветленные девичьей кожей.
- Вот и хорошо, - тихо говорит она и медленно кивает, все еще
зачарованная огнем; платье, словно рубиновое зеркало, отражает
желто-оранжевые языки пламени. - Хорошо, - повторяет она.
Ее кожа согревается, в воздухе постепенно крепнет аромат духов. Она
делает глубокий вдох, задерживает дыхание, выпускает, не сводя при этом
взгляда с шипящего камина.
Я допиваю вино, беру бутылку, подхожу к девушке, сажусь и наполняю
бокалы. У ее духов сладкий и пряный запах. До этого она сидела на корточках,
а теперь опустилась на пол, согнув ноги в коленях и опираясь на руку. Она
смотрит, как я наливаю вино. Я ставлю бутылку, вглядываюсь в лицо Эбберлайн.
В уголке рта чуть размазалась помада. Эбберлайн замечает, что я смотрю, у
нее медленно изгибается бровь. Я говорю:
- Помада.
Достаю из кармана носовой платок, на котором она вышила монограмму. Она
наклоняется вперед, чтобы я стер ненужный красный мазок. Чувствую пальцами
воздух из ее ноздрей, когда касаюсь пальцами ее губ.
- Все.
- Боюсь, я оставила следы не на одном воротнике. - У нее тихий и низкий
голос, почти мурлыканье.
- Э-э! - Я с притворным, насмешливым неодобрением качаю головой. - Я бы
не стал целовать воротники.
Она тоже качает головой:
- Не стал бы?
- Не стал бы. - Я наклоняюсь, чтобы осторожно коснуться ее полного
бокала своим.
- А что стал бы? - Ее голос звучит не тише, но в нем появляется новый
тон, понимающий, даже ироничный. Намек достаточно прозрачен; я не
набрасывался на нее зверем.
Я целую ее совсем легонько и гляжу в глаза (и она отвечает на поцелуй,
легонько, и смотрит в мои зрачки). У нее слабый вкус вина и еще чего-то
пряного, и немножко чувствуется сигарный дым. Я чуть сильнее прижимаюсь
губами и кладу свободную ладонь ей на талию и ощущаю ее тепло через гладкий
алый атлас. За моей спиной деловито шипит камин, пригревает. Я медленно вожу
губами по ее губам, дразню ее губы, щекочу зубы. Ее язык встречается с моим.
Она шевелится, подается вбок, на лбу возникают складки - неужели
отстраняется? Нет, это она смотрит, куда поставить бокал. Потом она берет
меня за плечи и закрывает глаза. Ее дыхание чуть убыстряется, я это чувствую
щекой. Я целую ее крепче, оставив свой бокал на подлокотнике кресла.
У нее мягкие волосы и пахнут все теми же пряными духами, а талия на
ощупь еще изящней, чем на вид. Груди движутся под красным атласом - там их
поддерживает, не стесняя, какой-то предмет нательного белья. Чулки гладкие
на ощупь, бедра теплые. Она меня тискает, прижимается, затем отталкивается,
кладет ладони мне на виски и смотрит блестящими глазами в упор, зрачки в
зрачки. Ее соски приподняли атлас в двух местах, получились красные холмики.
У нее влажен рот, размазана помада. Она коротко, с дрожью смеется,
сглатывает. По-прежнему тяжело дышит.
- А я и не подозревала, Джон, что ты можешь быть таким... страстным.
- А я не подозревал, что тебе так легко вскружить голову.
Чуть позже:
- Здесь, здесь. Не в постели. Там слишком холодно. Здесь.
- А тебе перед этим ничего не надо?..
- Что? А, нет. Только... Ладно, Орр, давай, снимай пиджак. Можно, я это
на себе оставлю?
- Почему же нельзя?
Тело Эбберлайн Эррол заключено в клетку мглы, обвязано и обрешечено
обсидиановыми шелками. Ее чулки пристегнуты к чему-то похожему на корсет из
шелка, с кружевами впереди, - опять узор из иксов, только этот идет от лобка
почти до нижнего края отдельного лифчика, прозрачного, как и чулки,
вмещающего в свои чаши крепкую, красивую грудь. Расстегивается он спереди -
Эбберлайн показывает где. Женский гарнитур отходит от тела, пуская меня к
черным завиткам. Мы сидим в обнимку, неторопливо целуемся. Я уже вошел, но
мы пока не двигаемся. Она сидит на мне, ноги в чулках сжимают мои ягодицы,
руки в длинных перчатках, пройдя у меня под мышками, вцепились в плечи.
- Синяки, - шепчет она (я совершенно голый) и гладит места, куда
пришлись швейцаровы удары. От этих восхитительно нежных прикосновений у меня
по всему телу волоски дыбом.
- Ерунда. - Целую груди (соски ярко-розовые, толстенькие и длинные, с
продолговатыми впадинками и красными пупырышками на вершинках; круглые и
гладкие ореолы тоже выступают). - Не обращай внимания. - Я клоню ее к себе и
клонюсь сам, чтобы лечь на нашу скомканную одежду.
Медленно двигаюсь под девушкой, гляжу на нее, очерченную огнем шипящего
газового камина. Эбберлайн висит надо мной в воздухе, оседлала меня. Ее
ладони - на моей груди, голова опущена, расстегнутый гарнитур подлетает, как
и ее густые черные волосы.
Все ее тело заключено в дамское белье, в этот абсурдный капкан, - а
ведь ей, чтобы быть соблазнительной, не нужно ничего. Она сама - соблазн,
эта движущая сила, этот разум, что обитают под ее плотью и костью. Вспоминаю
женщин в башне варвара.
Иксы, эти рисунки в рисунках, покрывают ее ноги - еще одна сеть, поверх
той, что дана ей природой. Зигзаги кружев на ее гарнитуре, перекрещенные
ленточки, что удерживают шелк на теле, лямочки и тесемочки, шелк на руках и
ногах - все это язык, все это архитектура. Кронштейны, трубы, раскосы,
темные линии подвесок крест-накрест облегают тугие бедра, идя от трусиков до
плотных черных полосок на верхних краях чулок. Это кессоны и строительные
трубы, только из эластичного материала. Их предназначение - вмещать в себя и
частично прятать, частично показывать женственную мягкость.
Эбберлайн кричит, выгибает спину, запрокидывает голову. Волосы
свешиваются между лопаток, пальцы растопырены, вытянутые, напряженные руки
за спиной образуют букву "V". Я поднимаю девушку, осознавая вдруг свое
присутствие в ней, в этой конструкции из темных материалов, и в тот самый
момент, когда я напрягаю мышцы, когда толкаю вверх ее тяжесть, я вдруг
ощущаю мост над нами, эту громадину, возвышающуюся в сером вечере,
конструкцию со своими узорами, со своими бесчисленными иксами, со своими
опорами и уравновешенными напряжениями, со своим характером, со своим
бытием, со своей жизнью. Он - над нами, надо мной. Он давит. И я
сопротивляюсь, тщусь выдержать эту сокрушительную тяжесть. Эбберлайн еще
сильней выгибается, кричит, хватает меня за лодыжки. Потом опускается со
стоном - как будто рушится здание; я в женском теле (и вправду -
конструктивный элемент, член уравнения) сам содрогаюсь в недолгой
конвульсии. Эбберлайн падает на меня, тяжело дышит, расслабляется,
простирает руки и ноги. Надушенные волосы щекочут мне нос.
Мне больно. Я иссяк. Такое ощущение, будто отымел целый мост.
Пенис обмяк, но я его не вынимаю. Через некоторое время она сжимает
его. Этого достаточно. Мы снова двигаемся, но нежнее, медленней, чем в
прошлый раз.
Потом мы перебираемся в постель. Та и вправду холодная, но быстро
согревается. Я методично снимаю всю черную ткань (мы решаем, что одна из
составляющих ее эффекта - четкое очерчивание зон для уплотненной программы
ласк). Последний заход получается самым долгим и включает, как и положено
лучшим образцам такой работы, множество различных приемов и частую смену
ритма. Впрочем, в кульминационный момент я остываю, отчего-то мне, мягко
говоря, не радостно. Напротив, даже жутко.
На этот раз она подо мной. Руками обнимает меня за бока и спину, под
конец ее стройные, длинные ноги берут меня в замок, давят на ягодицы и
копчик.
Оргазм у меня получается так себе. Машинальная работа желез, слабый
сигнал с периферии. Я кричу, но не от удовольствия. И даже не от боли. Меня
сокрушают эта хватка, этот нажим, этот плен. Как будто мое тело необходимо
нарядить, уложить, обернуть бумагой, перевязать шпагатом и отправить по
какому-то адресу. Все это вызывает у меня воспоминание, одновременно древнее
и свежее, мертвенное и тухлое. Вызывает надежду и боязнь освобождения и
плена, страх перед зверем, машиной, перед ячеистыми сооружениями, перед
началом и концом.
Я в капкане. Я раздавлен. Маленькая смерть, опустошение. Девушка держит
меня, точно клетка.
- Мне надо идти. - Она протягивает руку, возвращаясь от камина с
одеждой. Я беру ее кисть, пожимаю. - Сама бы хотела остаться, - печально
говорит она, прижимая тонкое белье к бледному телу.
- Ничего, все в порядке.
Эбберлайи здесь уже несколько часов. Ее ждет семья. Она одевается,
насвистывает как ни в чем не бывало. Где-то вдали ревет судовая сирена. За
ставнями совершенно темно.
Перед прощанием - заход в ванную. Эбберлайн находит расческу,
торжествующе ею потрясает. Волосы безнадежно спутаны, и ей, уже надевшей
пальто, приходится терпеливо сидеть на краешке кровати, пока я аккуратно
расчесываю локоны. Она сует руку в карман пальто и достает коробочку тонких
сигар и спички. Морщит нос.
- Тут все пропахло сексом, - заявляет она, вынимая сигару.
- Разве?
Она, держа в руке коробочку, поворачивается ко мне.
- Гм... ужасное поведение, - говорит она и закуривает.
Я расчесываю ей волосы, постепенно устраняя путаницу. Она пускает дым
колечками, серые "О" летят к потолку. Она поднимает руку, ведет ей вместе с
расческой по волосам. Глубоко вздыхает.
Поцелуй перед уходом. У нее свежее после умывания лицо, пряное дыхание,
с привкусом табака.
- Осталась бы, да не могу.
- Ничего, свой след ты уже оставила. И пришла, кстати, сама, так что
зачтется. - Я бы еще что-нибудь сказал, но не могу. Во мне по-прежнему сидит
страх, все еще резонирует, словно глухое эхо. Страх перед ловушкой, боязнь
быть раздавленным. Эбберлайн Эррол целует меня.
Когда она уходит, я еще какое-то время лежу в широкой остывающей
постели, слушаю гудки в тумане. Один гудок раздается совсем близко; если
туман не рассеется, эти сирены, чего доброго, глаз мне не дадут сомкнуть. В
воздухе витает сигарный дым, но запах постепенно слабеет. Бесцветные разводы
на потолке кажутся отпечатавшимися дымовыми кольцами. Я глубоко вздыхаю,
пытаясь уловить последние молекулы ее духов. Она права, в этой комнате
пахнет сексом. Я голоден и хочу пить. А ведь еще даже не ночь. Встаю и
принимаю ванну, затем медленно одеваюсь, чувствуя во всем теле приятную
усталость. Включаю лампы. Входная дверь уже отворена, когда я замечаю
свечение из дверного проема на той стороне загроможденной комнаты. Затворяю
дверь и иду на разведку.
Это бывшая библиотека. Книжные полки пусты. В углу - включенный
телевизор. Сердце хочет выпрыгнуть из груди, но тут я соображаю, что ничего
знакомого не вижу. Экран бел. Вернее, на нем краповая пустота. Я иду
выключить телевизор, но не успеваю Что-то темное заслоняет экран, потом
отодвигается. Рука. Изображение дрожит, успокаивается, и я вижу человека на
кровати. Женщина отходит от камеры, останавливается у края кадра, поднимает
щетку и медленно ведет ею по волосам, глядя перед собой. Наверное, там на
стене зеркало. Картина знакома донельзя, изменения минимальные: передвинут
стул и кровать не такая свежая, как прежде.
Вскоре женщина опускает щетку, наклоняется вперед, прислонив ладонь
козырьком ко лбу, выпрямляется. Она берет щетку и отходит, превращается у
самой камеры в темное пятно, а затем и вовсе исчезает из кадра. Я не успеваю
толком разглядеть ее лицо.
У меня пересыхает в горле. Женщина снова появляется возле кровати, на
ней темное пальто. Она стоит, глядя на мужчину, потом наклоняется и целует
его в лоб и при этом откидывает с его лба прядь волос. Поднимает с пола
сумку и уходит. Я выключаю телевизор.
В кухне на стене есть телефон. Когда я снимаю трубку, слышу знакомые
звуки. Гудки. Не совсем ровные и, может быть, чуть почаще, чем прежде.
Я выхожу из квартиры и лифтом спускаюсь на железнодорожный уровень.
Кругом туман, в этом густом паре свет фонарей образует желтые и
оранжевые конусы. С ревом и лязганьем проходят трамваи и поезда. Я иду
подвесной дорожкой вдоль бока моста, веду ладонью по высоким перилам. Через
фермы медленно течет туман, с невидимого моря доносятся голоса корабельных
сирен.
Мимо проходят люди, в основном путейцы. Чувствую запах пара, угольной
гари и дизельных выхлопов. Под навесом депо сидят за круглыми столами люди в
спецовках, читают газеты, играют в карты, пьют из больших кружек. Я прохожу
мимо. Вдруг мост под ногами содрогается, откуда-то спереди доносится
металлический скрежет и треск. Этот шум эхом разносится по мосту, отражается
от вторичной архитектуры, отлетает в насыщенный влагой воздух. Я иду в
плотной тишине, потом один за другим подают голоса туманные горны. Я слышу,
как поблизости тормозят, останавливаются поезда и трамваи. Впереди оживают
сирены и клаксоны.
В мерцающем тумане подхожу к самому краю моста. Опять саднят ноги, в
груди тупая пульсирующая боль, словно ребра сочувствуют ногам. Я думаю об
Эбберлайн. Воспоминания о ней должны бы улучшать мое самочувствие, но этого
не происходит. Ведь то, что было между нами, произошло в доме с
привидениями. Призраки того бессмысленного шума и почти не меняющегося
изображения присутствовали там все время - достаточно было протянуть руку,
щелкнуть выключателем. Все это таилось там еще в момент нашего первого
поцелуя и в тот момент, когда меня сковывали четыре женские конечности и я
кричал от страха.
Поезда теперь молчат, вот уже несколько минут ни один не прошел мимо.
Зато клаксоны и сирены состязаются с воем горнов.
Да, все было очень приятно и мило, и я бы с удовольствием пожил свежими
воспоминаниями, но что-то во мне сидящее не допускает этого. Я пытаюсь
вообразить запах Эбберлайн, ее тепло, но удается вспомнить только женщину,
которая спокойно расчесывает волосы, глядя в невидимое для меня зеркало. Все
расчесывает, расчесывает... Я силюсь представить комнату, но вижу только
черно-белую картинку, причем в неизменном ракурсе, из-под потолка. Вижу лишь
постель, окруженную аппаратурой, и человека на ней.
Мимо в тумане проносится поезд, горят прожектора. Он едет туда, где все
еще надрываются сирены.
И все-таки, что дальше? Да то же, что и раньше, только будет его еще
больше, говорит свеженасытившаяся часть моего разума; дни и ночи все того
же, знакомого, месяцы прежнего, и побольше, побольше. И тем не менее: что
впереди? Очередная тупиковая ветвь наподобие затерянной библиотеки,
таинственных самолетов или вымышленных снов?
В обоих случаях... да во всех случаях я не вижу для себя хороших
перспектив.
Я иду и иду в клубящемся тумане, шагаю в растущую какофонию сирен,
людских криков и дымного зарева на сцене трагедии.
Сначала я замечаю пламя, его языки вздымаются в тумане, точно дрожащие
толстые мачты. Дым раскатывается плотной тенью. Кричат люди, вспыхивают
фонари. Мимо меня проходят, пробегают железнодорожники, все спешат к месту
крушения. Я вижу хвост прошедшего мимо меня несколько минут назад поезда.
Это аварийный состав с кранами, брандспойтами и госпитальными вагонами. Он
медленно идет по рельсам, исчезая за товарными вагонами другого поезда,
стоящего ближе ко мне, через путь. Первые несколько вагонов целы, стоят на
рельсах, но следующие три съехали с рельсов, их колеса угодили в точности в
металлические желоба рядом с путем - как и задумано строителями моста на
случай аварии. Дальше наискось через рельсы лежит вагон, а за ним еще и еще,
и каждый следующий вагон поврежден сильнее предыдущего. По-прежнему впереди
вздымается зарево. Я уже близок к огням, и сквозь туман мне в лицо пышет
жар. Думаю, не отступить ли; я здесь скорее всего не нужен. Трудно
ориентироваться в тумане, но, похоже, я в конце секции, здесь мост сужается,
как невероятно длинные песочные часы, образуя мост на мосту - соединительный
пролет.
Тут по путям рассыпаны вагоны. В этом месте паутина разъездов приводит
поезда из главной секции в бутылочное горло соединительного пролета; через
него лишь несколько путей тянутся в соседнюю секцию. По эту сторону
рухнувшего поезда жар поистине жуток, струи воды из аварийного состава,
остановившегося по ту сторону места катастрофы, падают по дуге на горящие
товарные вагоны, шипят на обугленных досках и раскаленных металлических
каркасах. Мельтешат путейцы с огнетушителями, другие разматывают брезентовые
рукава и присоединяют их к гидрантам. Огни дрожат, корчатся, шипят под
натиском воды. Я иду дальше, прибавляя шаг, спешу миновать жаркий участок.
Вода льется в колесные и сточные желоба, испаряется в борьбе с огнем; пар
смешивается с туманом и черным дымом. Над пожарищем, на своде яруса, что-то
воспламенилось, капли жидкого огня падают на разбитые вагоны.
Я вынужден зажать уши ладонями, когда прохожу мимо сирены. Укрепленная
на столбе, она оглашает надрывным воем туман. Меня с криками обгоняют
железнодорожники. Огонь теперь за моей спиной, ревет в тесном пространстве
между фермами. Впереди разбитый поезд, длинная ломаная линия на путях - как
сброшенная откуда-то сверху дохлая змея. А каркасы горящих вагонов - ее
сокрушенные кости.
А впереди еще один поезд, подлиннее, и вагоны у него длинные, с окнами,
- пассажирские вагоны. В них зияющие пробоины - пассажирский состав
столкнулся с товарным. Тяжелое рыло локомотива так и утонуло в пробитом им
вагоне. Здесь кишат люди. Я вижу, как из обломков вытаскивают пострадавших.
Возле поезда лежат носилки, звучат клаксоны и рожки; в их шуме теряются
голоса далеких судовых сирен. Безумная энергия этой трагической сцены
заставляет меня остановиться, и я наблюдаю за работой спасателей. Все новые
и новые люди, окровавленные, стенающие, появляются из пассажирского состава.
Позади меня в обломках что-то взрывается, и люди бегут к этому новому очагу
катастрофы. Уносят раненых на носилках.
- Эй, ты! - кричит мне кто-то. Он стоит на коленях у носилок, держит
залитую кровью руку женщины, а другой человек накладывает жгут. - Помоги-ка
нам. Берись за носилки. Осилишь?
Возле поезда с этой стороны десять или двенадцать носилок. Подбегают
спасатели и уносят их, но многие раненые остаются ждать своей очереди. Я
переступаю через рельс, по железнодорожному пути подхожу к носилкам, берусь
за одни вместе с каким-то парнем в спецовке. Мы доставляем их на аварийный
поезд, там их забирают санитары.
Среди обломков товарняка раздается новый взрыв. Когда мы возвращаемся
за очередной жертвой, оказывается, что аварийный поезд уже передвинут на
пути, подальше от взрывов. Нам приходится нести носилки со стонущим,
истекающим кровью мужчиной двести ярдов, к голове товарного состава, и там
нас сменяют фельдшеры. Мы снова бежим к пассажирскому поезду.
Следующая жертва, возможно, уже мертва. Из этого человека кровь так и
хлещет. Железнодорожный чиновник велит нам нести его не к аварийному поезду,
а к соседнему, встречному.
Это экспресс, он тут застрял из-за аварии и возьмет часть пострадавших,
чтобы подвезти их к ближайшей больнице. Мы ставим носилки на пол вагона.
Похоже на ресторан класса "люкс"; в нем врач ходит от раненого к раненому.
Мы перекладываем свою ношу на белую скатерть, полотно тотчас пропитывается
кровью. К нам приближается врач, прижимает к шее изувеченного пальцы,
держит. Я еще не понял, откуда бьет кровь. Врач смотрит на меня. Он довольно
молод, у него испуганное лицо.
- Прижмите здесь, - говорит он мне, и я вынужден держать ладонь на шее
раненого, пока доктор куда-то ходит. Мой напарник убегает. Я ощущаю слабый
пульс лежащего на обеденном столе мужчины. Его кровь течет по моим рукам,
когда я расслабляюсь или стараюсь получше прижать полуоторванный клок кожи к
его шее. Я держу, я прижимаю, я делаю, что мне велено, и гляжу на лицо этого
человека, бледное от потери крови. Он без чувств, но страдает. С него
сорвана маска, которую он всегда надевал перед встречей с миром, и без этой
маски он смахивает на какую-то маленькую жалкую зверушку.
- Хорошо, спасибо. - Это вернулись врач с медсестрой. У них бинты,
капельница, пузырьки и шприцы. Я больше не нужен.
Я осторожно пробираюсь между скулящими ранеными. Останавливаюсь в
пассажирском вагоне, безлюдном и неосвещенном. Мне нехорошо. Присаживаюсь на
минутку, а когда встаю, мне удается доплестись лишь до туалета в конце
вагона. Там я сажусь. В голове глухо стучит кровь, в глазах пляшут огоньки.
Я мою руки и жду, когда сердце придет в согласие с остальными органами.
Наконец чувствую, что готов встать, и тут поезд трогается.
Когда он замедляет ход, я возвращаюсь в вагон-ресторан. Там суетятся
сестры и нянечки из больницы, принимают носилки. Мне велят не путаться под
ногами. Три медсестры и два фельдшера столпились вокруг носилок, которые
заносят через ближайшую дверь. На них рожает раненая. Я вынужден вернуться в
туалет.
Там я сижу и думаю.
Никто меня не беспокоит. Во всем поезде вдруг становится очень тихо.
Раза два его дергает и встряхивает, и я слышу через матовое оконное стекло
крики, но в вагоне ни звука. Я иду в ресторан. Его уже не узнать - свежо,
чисто, пахнет полиролью. Лампы погашены, в проникающем через окна сиянии
моста призрачной белизной отсвечивают столы. А сам мост по-прежнему окутан
туманом.
Может, следует сойти? Этого от меня хотели бы и добрый доктор, и Брук,
и, надеюсь, Эбберлайн Эррол.
Но зачем? Ведь я способен только дурака валять и притворяться - и с
доктором, и с Бруком, и с мостом, и с Эбберлайн. Все это очень мило, а с ней
было просто бесподобно, если не считать того крика ужаса...
Так что, сойти? Я ведь могу. А почему нет?
Вот он я, в вещи, которая становится местом, в пути, который становится
пунктом прибытия, в процессе, который становится результатом... Я в этом
длинном недвусмысленном фаллическом символе, нацеленном к броску из
средоточия нашего грандиозного чугунного идола. Как велик соблазн взять да и
остаться, то есть уехать. Смело бросить дома женщину и - отправиться в
путешествие. Место и вещь, вещь и место... Неужели это действительно так
просто? Неужели женщина - это место, а мужчина всего лишь вещь?
Ну конечно же нет, дорогой ты мой друг-приятель. Ха-ха-ха, что за
бредовая идея? Все гораздо цивилизованней, чем ты себе возомнил...
И все же (лишь потому, что это мне кажется столь отталкивающим) я
подозреваю: в этом что-то есть. В таком случае что же я здесь означаю, сидя
в этом поезде, в этом символе? Хороший вопрос, говорю я себе. Хороший
вопрос. И тут поезд снова трогается.
Я сижу за столом, гляжу, как мимо несется поток вагонов. Мы медленно
набираем скорость, оставляем другой поезд позади. Снова притормаживаем -
проезжаем место крушения. Рядом с путями громоздятся товарные вагоны,
исковерканные рельсы вздымаются с опаленного настила, как скрученные
провода, и дым головешек растворяется в тумане под яркими дуговыми лампами.
Аварийный состав стоит чуть дальше, его прожектора светятся. Наш поезд
набирает скорость, и вагон, в котором я сижу, тихо подрагивает.
Туман пронизан лучами прожекторов. Мы проскакиваем главную станцию
секции, несемся мимо других поездов, мимо трамваев, мимо уличных фонарей,
транспортных магистралей и зданий. Мы все еще разгоняемся. Огни редеют, мы
почти проехали секцию. Я еще секунду-другую гляжу на огни, затем иду в конец
вагона, где находится дверь. Опускаю оконное стекло и выглядываю в туман, с
ревом проносящийся мимо меня, с ревом, модулированным неразличимыми фермами
моста, и эхом отзывающийся на стремительное продвижение поезда, а характер
эха зависит от плотности окружающих ферм и зданий. Позади остаются огни
последних домов; я расстегиваю больничный браслет, медленно, болезненно
стягиваю его с запястья, лижу там, где застревает, наконец решительно
срываю, при этом порезавшись.
Мы пересекаем соединительный пролет. Невидимая граница, до которой меня
пускает идентификационный браслет, еще, конечно, далеко. Маленький
пластиковый обруч с моим именем. Странное это ощущение, когда его нет на
запястье. Оказывается, я уже успел к нему привыкнуть. И теперь словно голый.
Я бросаю его за окно, в туман. Браслет исчезает мгновенно.
Закрываю окно, возвращаюсь в купе. Надо отдохнуть, а там посмотрим,
далеко ли я уеду.
...Так что, включен микрофон?
А, вот вы где? Что ж, хорошо... Беспокоиться не о чем, никакой тут не
бардак, ей-богу. Наоборот, полный порядок. Все под контролем, на мази и
работает как часики. Лучше просто не бывает. "Мы знали все время, что хрень
включена". Это цитата из бессмертного... Что-что? Виноват, виноват, цитата
из смертного Джими Хендрикса. Ну, так на чем я остановился? Ах да.
Так вот, состояние пациента стабильное: он мертв. Стабильнее, блин, не
бывает, правильно я говорю? Конечно, конечно, гниение и все такое.
Я просто шучу, такой уж у меня юмор. Господи боже, некоторые люди
совершенно шуток не понимают. Эй, вы там, на галерке! Угомонитесь.
Ну что ж, ребята, двинули дальше (оказывается). Откуда и куда? Вопрос
не в бровь, а в глаз.
Рад, что вы его задали. А знает ли кто-нибудь ответ? Нет?
Черт. Ну да ладно.
Куда меня тащат? И главное, за что? Да кто меня спрашивал? Вы, уроды!
Кому-нибудь пришло в голову поинтересоваться: "Ты, как там тебя... не
возражаешь, если мы тебя переведем?" А? Фигушки! А может, там, откуда я
взялся, мне совсем не плохо жилось. Кто-нибудь из вас об этом подумал?
Ну так вот, можно полосовать меня вдоль и поперек, можно отрезать кишки
и вшивать новые, можно латать меня и накачивать всем, чем угодно, можно на
меня давить и можно меня щипать, а вот чего нельзя, так это меня поймать,
так это меня найти, так это до меня добраться. А я - вот он: на недосягаемой
высоте, неуязвим, непобедим, командую парадом.
Но злая королева-то какова! Как она могла дойти до такой подлости, до
такой низости, до такой пакости, мерзости и гнусности, до недоразумения
столь вопиющего? Как она могла опуститься столь низко? (Эка фигня, берешь и
сгинаешься, вот так...) Подговорила чертовых варваров восстать против меня!
Ха! Неужели ничего поумнее не способна была придумать?
Наверное, не способна. Никогда не отличалась сильным воображением,
бедняжка. Может, разве что в койке или еще где-нибудь. Нет, это неправда.
Просто во мне живет обида; начистоту так начистоту (обычно с легким, слабым,
еле заметным оттенком алого, как мне довелось выяснить... впрочем, не стоит
об этом).
И все-таки какое это хамство - поднимать против меня мятеж! Ведь
совершенно же без толку, и тем не менее... А сейчас-то что не так? Черт
возьми, нельзя уже человеку немного самому с собой поговорить? Обязательно
надо его... Опять! Блядь! Да что тут происходит, вашу мать?! Уроды безрукие,
за кого вы меня тут держите, а? Это часть...
Ну хватит же, наконец! Ухаб на ухабе! Больно же! Это часть терапии, что
ли? Если уж очень захочется, я как встану да как настучу кое-кому по Кумполу
- на всю жизнь запомните! Хрясь!!! И хрен зашьешь, Джимми.
Ну, слава Богу, прекратилось наконец. Только небольшая боковая качка,
но это пустяки. Как на лодке или еще на чем-то вроде. Трудно сказать.
Нет, это не лодка. Качает помягче. Это что-то на подвеске, с
амортизаторами. Скрипит? Слышатся ли мне голоса? (Все время, док. Это они
меня подучили. Так что моей вины тут нет. Идеальное алиби, непробиваемая
защита.)
Изнасиловал? Какая наглость! В суд подам! (И хрен пришьешь, Джемима. Да
я сам тебя пришью. Нет, простите, это не смешно, но в натуре! Что вы себе,
распронахер, позволяете, а?)
Для меня это никогда ничего не значило. Наверное, и для нее. Она,
знаете ли, несмотря на всю свою ученость, была женщиной прямой, если не
сказать буквальной. Да-да. И не только буквальной, но еще и знаковой. Как-то
раз я ей об этом сказал, и она смеялась. И мы в этом разобрались. Сейчас
покажу.
За каждым коленом есть буква Н. Перекрестие межъягодичной щели со
складкой под ягодицами - чем не +? Ее ноздри - это , (надеюсь, я вас еще не
совсем запутал), талия - ) (, а самое интересное место смахивает на V (вид
спереди) и ! (вид снизу). Тут она, понятное дело, все это переварила и
добавила, что еще у нее есть : и регулярные . (но это, впрочем, не знаки, а
каламбуры; я уже говорил, что она буквальная женщина). Не суть; но, завидев
!, я сделал I (а она - О).
Ну да ладно, хватит об этом. Поехали дальше. Вр-р-р, вр-р-р... Снова -
часть машины; загрузились, удолбались и полетели (Ми-и-мя-а-у,
ми-и-мя-а-у?.. Джимми, никогда не торгуй мороженым на такой скорости. Мне
бутерброд с джемом, пожалуйста. И чтоб малины побольше). Вот смеху-то будет,
если навернемся! Надеюсь, не через мост (ой, Харон, ты уж извини, но на
дорогах сейчас такие пробки...). Не знаю, может, я уже покойник, а может,
это просто они так думают. Трудно сказать (ничего трудного), я тут, типа,
потерял ориентацию. Все маленько травматично (травм... травма? Опять - буквы
и ни во что не складываются. Ре... волю... поллю... ция... Ля-ля-ля,
бля-бля-бля...
(что он городит?
"бля-бля-бля"
да? похоже, на поправку идет).
Вы б на меня, типа, раньше позырили. Впечатляющий был чувак. Ну так мне
казалось. Пламенный реполлюционер. Стойкий как ! (да ладно вам если можно
иметь римский нос почему нельзя иметь римский хрен и не надо меня доставать
учтите я нездоров). Вот так-то.
Как она пищит, зараза! Мог бы и догадаться. Рассказ о моей долбаной
жизни. Нет на свете ни хера справедливости (вообще-то есть, да как обрушится
градом с земного нимбосвода; хаотично, с эпизодическими то наводнениями, то
засухами на десятилетия кряду).
Ну так где я на этот раз остановился? Ага, мы в машине, прекрасно в нее
вмонтированы и шпарим по трассе. Будем надеяться, шпарим не через сами
знаете что. Это мне напоминает одну историю... Совершенно заурядную историю,
без каких-нибудь там наворотов, без стрельбы и сумасшедших погонь (извините,
коли разочаровал). Если вас интересует мое честное мнение, то и не история
это, скорее уж биография с географией... И тем не менее...
Она получила
да погоди, сынок, дай вступленье-то закончу; угомонись, а? Господи
Исусе, уж и договорить не дадут...
Она получила
и ты козел щас получишь если не заткнешь Джимми свое
Она получила степень
с микрофоном проблемы? да? Не слыхать меня ни хрена, что ли?
Она
ну получила она степень, получила. Валяй, вперед и с песней; не стоит
благодарности. Блин, нельзя же быть таким впечат...
Она получила вожделенную степень и буквы после своей фамилии, а он
немножко постебался над ее новой профессией и отыскал в ее облике новые
символы. Из комнаты на Сайеннес-роуд он переселился в квартирку в
Кэнонмиллзе. Андреа подолгу жила у него, но оставила за собой квартиру на
Камли-бэнк. Там поселилась Шона, кузина из Инвернесса, пока училась на
преподавательницу физкультуры в Крамоне, городе, откуда вышел род Андреа.
На каникулах ему приходилось по-прежнему работать, а она отдыхала за
границей с семьей и друзьями, чем будила в нем и ревность, и зависть. Но
потом они снова встречались, и все шло как раньше. И однажды (он так и не
сумел вспомнить, когда именно) ему начало казаться, что их отношения
способны перерасти в нечто посерьезнее череды коротких встреч. Родилась даже
мыслишка, не предложить ли Андреа оформить брак. Но какая-то гордость не
позволила ему пойти на такую уступку государству, уже не говоря о Церкви. Да
и кому вообще нужен этот официоз? Главное то, что у них в сердцах или,
скорее, в мозгах, а не в какой-нибудь книге актов гражданского состояния. Да
к тому же Андреа, вероятнее всего, ответила бы отказом. Он понимал, что не
стоит питать иллюзий.
По его мнению, они были уже экс-хиппи. Хотя являлись ли они
когда-нибудь настоящими хиппи, это еще вопрос. Поколение цветов... что ж,
люди выбирают афоризмы на свой вкус - завяло, пошло в семена, отцвело... Он
как-то высказался, что проблема в усталости лепестков.
Она усердно училась, ради хороших выпускных отметок, а он получил
диплом лишь спустя год после того, как она закончила аспирантуру. На
праздниках она гостила у знакомых в других краях Шотландии, в Англии и
Париже, а каникулы проводила в Штатах, странах Европы и Советском Союзе. Она
восстановила связи с давними эдинбургскими приятелями. Она стряпала ему,
когда он учился, навещала мать, иногда играла в гольф со своим отцом -
вполне здравомыслящим и легким в общении человеком, как выяснилось, - и
читала романы на французском.
Из СССР она вернулась с твердым намерением изучать Россию. Приезжая на
квартиру, он иногда заставал ее за чтением беллетристики и учебников с
курьезным кириллическим алфавитом, половина букв которого казались
знакомыми. Она хмурила лоб, карандаш застывал над блокнотом. Затем она
недоверчиво смотрела на часы и долго извинялась, что ничего ему не
приготовила. А он отвечал: "Не говори ерунды" - и сам шел к кухонной плите.
День торжественного вручения дипломов он пропустил, так как отлеживался
в "Ройал инфермэри" - ему вырезали аппендицит. Однако его мать и отец
отправились на церемонию - услышать, как прозвучит его фамилия. С ним рядом
была Андреа, и они отлично провели время. Когда пришли родители, он
поразился тому, что с Андреа они разговаривают как старые друзья, - и
покраснел при мысли о том, что раньше краснел за них.
Стюарт Маки познакомился с Шоной, кузиной из Инвернесса, и они
поженились в первый год учебы Стюарта в аспирантуре. Он был шафером Стюарта,
Андреа - подружкой жениха. Оба произносили тосты. Он лучше подготовился, но
у нее лучше получилось. Он сидел и глядел, а она стояла и говорила. И тогда
он понял, как сильно любит ее, как восхищается ею. Он даже смутно
чувствовал, что гордится ею, хоть это, наверное, было неправильно. Она села
под бурные аплодисменты, он поднял в ее честь бокал. Она подмигнула.
Через несколько месяцев она сказала, что собирается в Париж - изучать
русский. Он подумал, что это шутка. Он тогда все еще искал работу. Были
туманные идеи поехать вместе с ней, пройти ускоренный курс французского и
подыскать какое-нибудь поприще, но тут ему предложили неплохое местечко в
фирме, проектировавшей электростанции, так что пришлось согласиться. "Три
года, - сказала она ему. - Всего-то навсего три года". "Всего-то навсего?" -
спросил он. Она пыталась его соблазнить, мол, будем вместе проводить в
Париже выходные и праздники, но он решил, что это вряд ли осуществимо.
Он был беспомощен, а она ясно видела свои цели.
Провожать ее в аэропорт он не поехал, зато вечером накануне отлета они
побывали за мостом, в Файфе; доехали до Куросса и посидели в прибрежном
ресторанчике. Ездили на его машине - он купил в кредит маленький новый
"БМВ". Ужин прошел не слишком гладко. Он перебрал вина, она же к спиртному
не притронулась - завтра предстояло лететь. Путешествовать воздухом она
любила, всегда брала место у иллюминатора. Поэтому обратно машину вела она.
Он по пути уснул.
Проснувшись, он сначала решил, что они вернулись в Кэнонмиллз или к ее
старому дому на Камли-бэнк. Но огни мерцали слишком далеко, до огней была
миля темной воды. Прежде чем она выключила фары, он мельком увидел что-то
огромное, нависающее над ними. И массивное, и эфемерное одновременно.
- Блин... куда нас черти занесли? - спросил он, протирая глаза и
озираясь. Она вышла из машины.
- Норт-Куинсферри. Выходи, посмотришь на мост, - сказала, оправляя
жакет.
Он недовольно оглядывался. К ночи похолодало, да и дождик накрапывал.
- Давай, - позвала она. - Мозги проветришь.
- Так это и шпалер долбаный может сделать, - пробормотал он, выходя из
машины.
Они прошли мимо знаков, предупреждающих о том, что с моста могут падать
предметы, и мимо других, гласивших, что далее проход воспрещен - частная
территория, и добрались до щебенчатого разворотного кольца, до каких-то
старых домов, до низких, скользких, заросших травой и утесником скал. До
круглого гранитного быка железнодорожного моста. Ветер принес водяную пыль,
и его пробрала дрожь. Он поднял взгляд на гигантское сооружение, в чьем
железном костяке завывал ветер. У ближайших скал на берегу залива
Ферт-оф-Форт негромко плескались волны, и в темноте неторопливо мигали
справа и слева огни бакенов. Андреа взяла его за руку. Выше по течению был
автомобильный мост - высокая паутина света и далекий фоновый рокот.
- Мне здесь нравится, - обняла его Андреа.
Она вся дрожала. Он прижимал ее к себе, но глядел вверх, на стальные
тенета, завороженный их черной мощью.
"Три года, - подумал он. - Три года в чужом городе".
- Рухнул мост Таллахатчи, - проговорил он буднично, обращаясь не
столько к ней, сколько к пронизывающему ветру.
Она снова посмотрела на него, уткнулась холодным носом в
презентабельный остаток бороды, которую он растил два года, и спросила:
- Что?
- Мост Таллахатчи. Бобби Джентри, "Ода Билли Джо". Короче, навернулась
хреновина. - Из его горла вырвался тоскливый смешок.
- А жертвы были? - прикоснулась она холодными губами к его кадыку.
- Не знаю. - Ему было очень грустно. - Я дальше и не думал читать.
Только заголовок.
По мосту прошел поезд, ночной воздух наполнился грохотом и гулом.
Вагоны везли людей куда-то в другие края. Интересно, вспомнил ли кто-нибудь
из пассажиров старый обычай, бросил ли монетку из окна уютного, теплого
купе? Послал ли свою маленькую тщетную надежду кувыркаться в безразличных
водах холодного Ферта?
Он не сказал ей об этом, но он помнил, что уже здесь был, в этом самом
месте, много лет назад. Однажды летом. У его дяди была машина, и дядя взял
его и его родителей в поездку через Троссахс, с последующим заездом в Перт.
Обратный путь лежал через эти места. Это было еще до открытия автомобильного
моста в шестьдесят четвертом, - наверное, даже еще до начала его
строительства. Случилось это в праздничный день, и перед паромной переправой
вырос хвост машин длиной в добрую милю. Чем торчать в очереди, дядя привез
их сюда, чтобы показать родственникам (и самому полюбоваться) "один из самых
гордых шотландских монументов".
Сколько же было тогда ему лет? Вроде бы всего-то пять или шесть. Отец
посадил его на плечи, а он касался холодного гранита быка и изо всех сил
тянул ручонки к выкрашенным в красный цвет металлическим фермам,
К их возвращению вереница машин нисколько не сократилась. И пришлось им
ехатъ через Кинкардин-бридж.
Поцелуй Андреа заставил его очнуться от воспоминаний. Она очень крепко
обняла его, необыкновенно крепко, у него аж дыхание сперло. Потом они
вернулись в машину.
Они переехали через реку по автомобильному мосту. Он глядел сверху на
темные воды, на тусклый ночной силуэт железнодорожного моста, под которым
они стояли, и увидел длинную цепочку огней идущего к югу пассажирского
поезда. Огни как многоточие в конце предложения, подумалось ему. Или в
начале... Три года. Точки - как бессмысленный сигнал морзянки, составленный
лишь из Е, И, С и X. В переплетении ферм вспыхивали огни; тросы на ближайшем
боку автомобильного моста проносились мимо так быстро, что их невозможно
было различить.
Глядя на поезд, он подумал: неромантично. А ведь я еще паровозы помню.
Я заявлялся на соседнюю станцию и ждал на деревянном переходе над путями,
пока не появится состав, пыхтя дымом и паром. Когда локомотив проходил под
деревянным мостом, то дым отражался от листов металла, которыми мост был
обшит снизу, чтобы защитить древесину от возгорания. Меня вдруг окутывало
дымом и паром, и наступали долгие мгновения восхитительной неопределенности,
я словно оказывался в ином мире, где все зыбко, аморфно и таинственно.
Но ветку закрыли, паровозы демонтировали, переход над путями снесли и
построили на этом месте красивый, очень уникальный и просторный особняк с
фасадом на южную сторону и обширным парком. Очень уникальный. Лучше и не
скажешь. Даже если все у них там вышло как задумано, ничего на самом деле не
вышло.
Поезд пронесся по длинному виадуку и исчез в земле. Вот и все. Никакой
романтики. Никаких фейерверков при выбросе золы и пепла, и ни тебе кометного
хвоста оранжевых искр над дымовой трубой, ни даже облаков пара. Он решил
завтра написать об этом стихотворение (но ничего не получилось, и черновики
он выбросил).
Он отвернулся от окна и зевнул. Андреа снизила скорость - приближался
турникет...
- А знаешь, сколько времени его красят? Она отрицательно покачала
головой, опустила боковое окно, затормозила возле будки.
- Что? Железнодорожный мост? - Она полезла в карман за деньгами. - Ну
не знаю... Год?
- А вот фигу. - Он сложил руки на груди и устремил взгляд вперед, на
красный огонь светофора за кабинкой сборщиков. - Три долбаных года.
Она ничего на это не сказала. Заплатила за проезд, и зажегся зеленый
свет.
Он много работал, и не без успеха. Мама и папа гордились им. Под
ипотечную ссуду он взял квартирку в том же Кэнонмиллзе. Поскольку он достиг
таких высот буржуазного упадка, то компания, в которой он работал,
обеспечила ему кредит на представительский автомобиль, и он сменил "кортину"
на другую модель "БМВ", побольше и получше. Андреа писала ему, и он, где бы
ни вспоминал эти письма, произносил одну и ту же старую хохму.
По "Радио-1" в ночном эфире Джон Пил крутил реггей. Он купил "Past,
Present and Future"<"Прошлое, настоящее и будущее" (англ.)> Эла
Стюарта. "Post World War Two Blues"<"Блюз после Второй мировой войны"
(англ.)> он слушал чуть ли не со слезами на глазах. А однажды, когда
крутил "Roads to Moscow"<"Пути на Москву" (англ.)>, и впрямь заплакал.
А вот "Nostradamus" ему резко не понравился. Он много раз ставил "The
Confessions of Doctor Dream"<"Признания доктора Сна" (англ.)>, надевал
наушники, ложился в темноте на пол; он круто торчал и улетал под музыку.
Первая часть заглавной темы, занимавшей всю вторую сторону диска, называлась
"Irreversible Neural Damage"<"Необратимое неврологическое расстройство"
(англ.)>.
"Ничто не бывает случайно", - заметил он как-то раз Стюарту Маки.
Стюарт и Шона переехали за реку, в Данфермлин. Шона окончила Данфермлинский
институт физкультуры (что забавно, находящийся не в Данфермлине, а на другом
берегу, под Эдинбургом), и теперь ей казалась вполне закономерной
перспектива стать физруком именно что в данфермлинской школе. Так сказать,
из одной бывшей столицы в другую. Стюарт остался в университете, заканчивал
аспирантуру, и все шло к тому, что он получит должность доцента. Стюарт и
Шона первенца назвали в честь него. Для него это значило больше, чем он мог
выразить словами.
Он путешествовал. Объездил Европу по железной дороге (пока еще не
поздно, говорил он себе, пока еще не стар), побывал в Канаде и США,
автостопом, автобусами и поездами добрался до Марокко. Туризм особой радости
не приносил. Ему было всего лишь двадцать пять, но он казался себе стариком.
Даже начал лысеть. Однако в конце получилось удачно, просто классно. Он
сутки ехал через всю Испанию, от Альхесираса до Ируна, в компании молодых
американцев, у которых оказалась превосходнейшая дурь. Он любовался восходом
солнца над равнинами Ла-Манчи, он внимал симфонии стальных колес.
Он всегда находил предлоги, чтобы не бывать в Париже. Не хотел
встречаться с Андреа там. Она периодически приезжала, но бывала каждый раз
другой, изменившейся, более степенной и насмешливой, более уверенной в себе.
Теперь она носила короткую прическу, - наверное, последний крик моды. Они
ездили отдыхать на западное побережье и острова, когда ему удавалось
выкроить время, и однажды побывали в Советском Союзе, он в первый раз, она -
в третий. Он запомнил поезда и дорогу, а еще людей, архитектуру и памятники
войны. Но это было все же не то. Он, к своему разочарованию, двух слов не
мог связать в разговорах с русскими и с завистью слушал, как увлеченно она
болтает с ними, и ревновал ее к чужим языкам (в обоих значениях этого слова:
он знал, что в Париже у нее кто-то есть).
Он проектировал нефтеперегонное оборудование и буровые вышки, получал
много денег и посылал их домой, матери, ведь отец вышел на пенсию. Он купил
"мерседес" и вскоре поменял его на подержанный "феррари", у которого все
время засорялись свечи. Наконец он остановился на красном трехлетнем
"порше", хотя, конечно, предпочел бы новый.
Он стал встречаться с молоденькой медсестрой по имени Николя
(познакомился с ней еще в "Ройал инфермэри", где расстался с аппендиксом).
Знакомые шутили насчет их имен, называли их империалистами, спрашивали,
когда они потребуют вернуть им Россию. Она была маленькой блондинкой с
любвеобильным, щедрым телом, ей не нравилось, что он покуривает травку, а
когда он как-то расщедрился на кокаин, сказала, что только форменный псих
додумается запихивать себе в нос такие деньжищи. Он испытывал к ней большую
нежность, о чем и сказал однажды, заподозрив, что от него ждут признания в
любви. "Скотина, у меня там от твоей нежности все загрубело!" - хохотнула
она и прижалась к нему. Он тоже посмеялся, но вдруг сообразил, что это
единственная ее шутка за все время их знакомства. Она знала об Андреа, но
никогда не заводила о ней речь. Через полгода они тихо-мирно расстались.
Потом, если у него спрашивали, он отвечал, что вполне доволен статусом
полевого игрока.
Однажды в три часа ночи раздался звонок, как раз в тот момент, когда он
драил школьную подружку Андреа. Телефон стоял возле кровати. "Давай, -
хихикнула девица, - ответь". Она цеплялась за него, когда он полз по кровати
к трезвонящему аппарату. Это была Мораг, его сестра. Она сказала, что час
назад в больнице "Саутерн дженерал" в Глазго его мать скончалась от удара.
Миссис Маклин все равно надо было возвращаться домой. А он остался в
глубоком раздумье сидеть на кровати, подперев голову руками. "Хорошо хоть не
отец", - мелькнула мыслишка и он тотчас возненавидел себя за нее.
Он не знал, кому звонить. Подумал о Стюарте, но не хотелось будить
младшенького - он знал, что ребенок плохо засыпает. Позвонил в Париж Андреа.
Ответил мужчина, а когда из трубки зазвучал ее сонный голос, она с трудом
узнала его. Он сказал, что у него плохие новости... Она положила трубку.
Он не мог в это поверить. Снова звонил, но линия была занята. Не сумел
пробиться и оператор международной сети. Аппарат со снятой трубкой он
оставил на кровати. Тот бессмысленно пищал, пока он одевался. Он сел в
"порше" и долго гнал на морозе под звездами, гнал на север, почти до
Кейрнгормса. Из кассет в машине был преимущественно Пит Эткин, но для
быстрой безмозглой езды задумчивые, подчас даже меланхоличные тексты Клайва
Джеймса не годились, а пленки с реггеем (большей частью Боб Марли) были
слишком расслабляющими. А хуже всего, что ни одного альбома "стоунзов". Он
нашел старую полузабытую кассету и врубил "моторолу" почти на максимальную
громкость; он гонял "Rock and Roll Animal"<Рок-н-ролльное животное"
(англ.)> всю дорогу до Бремара и обратно, и с его лица не сходила
всепонимающая усмешка.
- Алло? - произносил он в нос, обращаясь к фарам редких встречных
машин. - Алло? Са va?<Сa va? (фр.) - Как дела?> Алло?
Он заехал туда на обратном пути. Он стоял под громадным красным мостом,
который когда-то показался ему того же цвета, что и ее волосы. Изо рта шел
пар, а "порше" остался на щебенчатом разворотном кольце, праздно рокотал
мотором. Первые рассветные лучи обрисовывали мост - силуэт надменности,
грации, мощи на фоне разгорающегося в зимнем утреннем небе бледного пламени.
Через два дня были похороны, он остался с отцом в родительском доме. А
перед этим торопливо собирал чемодан у себя в квартире и шарахнул об пол
трезвонящий телефон. Почту он даже не смотрел. На похороны приехал Стюарт
Маки.
Глядя на гроб с телом матери, он напрасно ждал слез. Обняв отца рукой
за плечи, обнаружил, что тот похудел и убавился в росте и легонько, но
непрерывно дрожит, как рельс после удара кувалды.
Когда они собрались домой, к воротам кладбища подъехало такси с
эмблемой аэропорта. Из машины выбралась Андреа, в черном костюме, с
маленьким чемоданчиком. Он не мог произнести ни слова.
Она его обняла, потом поговорила с его отцом, вернулась и объяснила,
что, после того как их разъединили, она два дня пыталась до него
дозвониться. И телеграммы слала, и звонила знакомым, чтобы зашли к нему. В
конце концов решила сама прилететь. Как только сошла с трапа в аэропорту,
позвонила Мораг в Данфермлин, узнала, что случилось и где состоятся
похороны.
Ему удалось выдавить лишь слова благодарности. Он повернулся к отцу и
пролил столько слез на воротник его пальто, что даже сам изумился. Он
оплакивал мать, отца и себя.
Андреа могла остаться лишь на ночь. Ей надо было возвращаться,
предстояли какие-то экзамены. Три года превратились в четыре. Почему бы ему
не приехать в Париж? Они спали в разных комнатах в доме его родителей. Отца
мучили кошмары и лунатизм, и он решил лечь на соседней кровати, чтобы
разбудить, если отцу приснится кошмар, и уберечь от травм, если будет ходить
во сне.
Он отвез Андреа в Эдинбург. Позавтракали у ее родителей, после чего он
доставил ее в аэропорт. Кто ее друг? Тот, кто снял трубку в Париже? Задав
этот вопрос, он прикусил язык. "Густав, - довольно беспечно ответила она. -
Он бы тебе понравился".
- "Приятного полета", - сказал он.
Студеным и ясным зимним днем он смотрел, как самолет уплывает в
аквамариновые небеса. Даже проехал вслед по дороге, когда стальная птица
повернула на юг. Он сгибался над баранкой "порша", наблюдал через ветровое
стекло, как самолет поднимается в безоблачную синеву. Он ехал вдогонку,
будто на что-то надеясь.
Он потерял ее из виду над Пентленд-Хиллз, когда в небе уже начал
вырисовываться инверсионный след.
Он чувствовал бремя своих лет. Какое-то время выписывал "Тайме",
уравновешивая ее "Морнинг стар". Иногда глядел на логотип "Тайме", и ему
казалось, что он способен уловить стремительно переворачивающиеся страницы
Настоящего Времени; казалось, он слышит шелест сухих листов. Будущее
становилось Настоящим, Настоящее - Прошедшим. Правда так банальна, так
очевидна, так доступна, а он как-то ухитрялся ее до сих пор не замечать. Он
зачесывал волосы, чтобы лысина была не так заметна. Да и лысина-то была -
пустяк, с двухпенсовую монету. Он перешел на "Гардиан".
Теперь он больше времени проводил с отцом. Иногда ездил на выходные в
маленькую новую муниципальную квартиру и живописал старику чудеса техники
семидесятых: трубопроводы, крекинг-установки, углеволокно, лазеры,
радиографию, побочные продукты космической программы. Он описывал
умопомрачительное буйство электростанций при их продувке паром: как
нагреваются новые котлы, в них подается вода, перегретый пар наполняет трубы
и весь мусор - окалина от сварки, потерянные монтажниками перчатки,
инструменты, окурки, гайки, гниющие яблочные огрызки и все такое прочее - с
ревом выбрасывается через широкие трубы в небо; так система очищается
целиком, прежде чем последними звеньями трубопровода подключат котлы к
турбинам с их тысячами дорогостоящих и хрупких деталей. Однажды у него на
глазах паром на четверть мили выбросило кувалду, и она пробила борт
микроавтобуса на стоянке. А шум какой! Да по сравнению с этим рев "конкорда"
на взлете - мышиный писк. Отец сидел в кресле, задумчиво кивал и улыбался.
Он по-прежнему встречался с Крамонами. Очень часто они с адвокатом
засиживались допоздна, как два старика, и обсуждали события в мире. Мистер
Крамон верил в закон, религию и страх и считал, что диктатура всегда лучше
анархии. Они спорили до хрипоты, но никогда не ссорились, и ему самому было
невдомек, почему они ладят. Возможно, потому, что каждый не воспринимал
всерьез любые слова другого; возможно, они и любые свои слова не
воспринимали всерьез; возможно, они не воспринимали всерьез ничего на свете.
Соглашались лишь в главном, в том, что все это - игра.
Ушел из жизни Элвис Пресли, но его больше тронула случившаяся на той же
неделе кончина Гручо Маркса. Он покупал альбомы Clash, Sex Pistols и Damned
и радовался, что наконец-то появилось нечто новое, анархическое, но больше
слушал Jam, Элвиса Костелло и Брюса Спрингстина. Он поддерживал знакомство с
однокашниками из университета, не только со Стюартом; он имел связи с
парочкой "диванных" революционных партий. Они оставили попытки затянуть его
к себе, после того как он растолковал, что абсолютно не способен
придерживаться партийной линии. Когда китайцы вторглись во Вьетнам и
приятели-революционеры принялись доказывать, что по крайней мере одна из
враждующих сторон не имеет ничего общего с социализмом, он счел этот
теологический диспут в высшей степени забавным. Он знал кое-кого в
университетском кружке молодых поэтов и время от времени появлялся на их
семинарах. Встречался с отдельными избранными из старой тусовки Андреа и
дружил с парочкой славных парней из его фирмы. Он был молод и благополучен,
и, хотя предпочел бы иметь рост повыше, а шевелюру погуще (лысина уже
увеличилась до размеров пятидесятипенсовика - инфляция) и без легкого
каштанового оттенка, он был довольно привлекателен. Уже сбивался со счета,
вспоминая женщин, с которыми переспал. Он обнаружил у себя привычку через
каждые два-три дня покупать бутылочку "Лафроайга" или "Макаллана". Раз в два
месяца он запасался травкой и обычно выкуривал косячок перед сном.
Месяц-другой он воздерживался от виски, просто хотел убедиться, что не стал
алкоголиком, а потом разрешил себе бутылку в неделю.
Парни из фирмы, с которыми он дружил, предлагали вступить в долю,
открыть собственное предприятие. Но он не был уверен, что стоит за это
браться. Поговорил с мистером Крамоном и со Стюартом. Адвокат сказал: в
принципе идея неплохая, но придется круто вкалывать, а то нынешние
бездельники ждут, что все им подадут на блюдечке с голубой каемочкой. Стюарт
рассмеялся: почему бы и нет? Пахать на себя можно точно так же, как и на
дядю. Только плати налоги лейбористам и найми ушлого бухгалтера, когда
придут тори. Впрочем, у Стюарта были собственные проблемы, и очень
серьезные: ему уже несколько лет нездоровилось и недавно врачи обнаружили
диабет. Теперь Стюарт при встречах пил только лагер и с завистью поглядывал,
как другие хлещут портер.
Насчет партнерства он все еще колебался. Написал Андреа, та ответила:
не робей, действуй. Обещала скоро вернуться. Учеба закончена, русский освоен
вполне прилично. Он решил: когда ее увижу, тогда и поверю в ее возвращение.
Он занялся гольфом (Стюарт убедил). В противовес этому вступил после
многолетних колебаний в "Международную амнистию" и отправил чек на крупную
сумму Африканскому национальному конгрессу, когда его фирма отработала
южноафриканский контракт. Он продал "порше" и купил новый "сааб турбо".
Однажды в погожую июньскую субботу поехал в Галлан - сыграть с адвокатом в
гольф, слушал пленку, на которой были записаны только "Because the
Night"<"Поскольку ночь" (англ.)> и "Shot by Both Sides"<"Застрелен
обеими сторонами" (англ)>, поочередно и многократно, и вдруг увидел, как
разбитый синий "бристоль-409" адвоката поднимают на эвакуационный грузовик.
Он проехал еще немного, снизив скорость, но все же направляясь в Галлан; он
убеждал себя, что машина со смятым передком и растресканным ветровым стек
лом принадлежит не мистеру Крамону. Потом развернулся на ближайшем
перекрестке и возвратился. На месте аварии два очень молодых полицейских
ходили с рулеткой, измеряли ширину полотна, распаханную обочину,
выщербленную каменную ограду.
Мистер Крамон умер за рулем - сердечный приступ. Он подумал, что это не
такой уж и страшный конец - если никого при том не угробить.
Одного я, размышлял он, не должен говорить Андреа: "Мы больше не можем
вот так встречаться". Его покалывала совесть, когда он покупал черный костюм
на похороны мистера Крамона. Ведь мать он провожал в последний путь всего
лишь с траурной повязкой на рукаве.
Когда он ехал в крематорий, в желудке жужжали мухи. Изводило похмелье -
вечером он выпил почти целую бутылку виски. Начиналась простуда, он это
чувствовал. По какой-то причине, въезжая через серые массивные ворота, он
думал, что она не приедет. Его уже всерьез тошнило, и он был готов
развернуться и ехать куда глаза глядят. Попытался контролировать дыхание и
сердцебиение, унять потливость ладоней. Завел "сааб" на обширную безупречно
выметенную площадку, припарковал рядом со скоплением машин перед низким
зданием крематория.
Ничего из того, что он переживал в те минуты, не было на похоронах
матери, а ведь они с адвокатом даже не дружили, а были всего лишь
приятелями. Может быть, все кругом решили, что он еще не протрезвел? Утром
он принял душ и почистил зубы, но запах виски, наверное, исходит из пор.
Даже в новом костюме он казался себе грязным бродягой. Надо было, наверное,
купить венок. Почему он раньше об этом не подумал?
Он оглядел стоянку. Андреа, конечно же, здесь быть не может, это
противоречило бы здравому (упокойному?) смыслу. Если он ее ждет, значит, она
не появится, ей что-то помешает. Ведь ничто не помешало ей как с неба
свалиться на похороны его матери. "Очередной фрагмент бесконечного
многообразия жизни, - говорил он себе, подходя к отворенным дверям и
поправляя галстук. - Не забывай, сынок: это страна летучих мышей".
Конечно же, она оказалась здесь. Выглядела старше, но еще красивее. Под
глазами - маленькие складочки, которых он раньше никогда не замечал.
Крошечные бугорки кожи, наводящие на мысль, что она привыкла щуриться под
ветром пустыни. Она взяла его за руку, поцеловала в губы, подержала секунду
в объятиях и отпустила. Он хотел сказать, что она прекрасна, что ей
потрясающе идет черное, но (хоть и думал он при этом: "Какой же я кретин!")
рот его бормотал что-то столь же банальное, пусть и более общепринятое. В ее
идеально накрашенных глазах он не увидел ни слезинки.
Панихида была краткой, однако провели ее с удивительным вкусом.
Священник был старым другом адвоката, и от его короткой, но явно искренней
надгробной речи у него защипало глаза. "Старею, похоже, - подумал он. - А
может, слишком много пью, вот и раскис. Будь рядом тот, кем я был лет десять
назад, он бы сейчас надо мной насмехался. Надо же, со слезами слушаю, как
священник читает панегирик преуспевающему адвокату".
И все же... После панихиды он поговорил с миссис Крамон. Если бы не
знал ее так хорошо, подумал бы, что она чем-то закинулась. Она будто сияла,
глаза были широко раскрыты, кожа так и лучилась энергией, рожденной смертью.
Вдова не проливала слез. Она была в шоке - потеряла человека, который больше
чем половину ее жизни был половиной ее жизни. Такое горе не каждый сумеет
быстро постичь, а быстро избыть его не дано никому. Похоже на то, когда
видишь, как молоток бьет по пальцу или соскользнувшее лезвие рассекает кожу
и кровь выступает раньше, чем нервы сигнализируют мозгу о боли. Он подумал,
что сейчас миссис Крамон в зоне затишья, плавает на спокойной маслянистой
поверхности в глазу бури. На следующий день она уезжала с сестрой в
Вашингтон.
- Ты позаботишься об Андреа? - спросила она у него на прощание. - Она
так любила отца, а лететь со мной сейчас не может. Позаботишься?
- Если она позволит, - сказал он. - В Париже у нее кто-то есть, и она
может...
- Нет, - решительно качнула головой миссис Крамон (привычку к этому
жесту он замечал и у ее дочери). - Нет, у нее есть только ты. - И она сжала
его руку, прежде чем сесть в "бентли" своего сына, и прошептала: - Ты теперь
у нее самый близкий человек.
Он какое-то время озадаченно стоял, потом пошел искать Андреа. Нашел за
воротами, в парке; она, прислонясь к лимузину "даймлер" от похоронного бюро,
закуривала ментоловый "Мор". "Не надо бы тебе курить, - сказал он,
нахмурившись, - о легких подумай".
- Это я из солидарности, - с горечью ответила она, поглядев на него. -
Мой старик тоже курил до последнего дня. - У нее дрожал маленький мускул на
челюсти.
- Андреа, Андреа... - Он протянул к ней руку, внезапно охваченный
жалостью, но Андреа отвернулась и плотней запахнула черное пальто. Он
неподвижно стоял секунду-другую, думая о том, что несколько лет назад его бы
уязвила такая реакция и он бы, наверное, сейчас же ушел. Наконец она бросила
окурок на гравий и растерла подошвой черной туфли.
- Увези меня отсюда, малыш, - сказала она. - Подхвати меня лучом,
Скотта. Где тут твой "порш"? Никак его не найду.
Они поехали на "саабе" в Галлан. Она хотела увидеть, где погиб отец,
поэтому они остановились у еще не разглаженных рытвин на обочине, у еще не
отремонтированной ограды. Он следил за ней в зеркальце заднего вида, а она
стояла и глядела вниз, на изуродованный дерн, словно ожидала, что новая
трава вырастет у нее на глазах. Она дотронулась до раненой земли, до
каменной кладки и вернулась к машине, отряхивая пыль и землю с бледных
наманикюренных пальцев. Она сказала, что брат за желание приехать сюда
назвал ее некрофилкой. "А ты как думаешь?" "Ну что ты, - сказал он, - какая
ерунда!" Они приехали в пустой выстуженный дом среди дюн, с окнами на залив.
Она повернулась и обняла его, едва они вошли в дверь. Когда он
попытался ее мягко, нежно поцеловать, она с силой прижала свой рот к его
рту, ее ногти впивались в его затылок, в спину через пиджак, в ягодицы через
черные брюки. Он услышал всхлип и вспомнил, что еще ни разу не слышал, как
она плачет. Она и сейчас не плакала - на глазах не было слез.
Она стянула пиджак с его плеч. Он решил ответить на этот эротический
призыв, рожденный отчаянием и горем, и очень быстро отказался от мысли
увести ее в какую-нибудь комнату поуютнее прихожей с ее сквозняком,
холодными керамическими плитками пола и колючей циновкой. В этом уже не было
необходимости, его тело как будто проснулось и осознало, что же происходит.
Как будто он заразился от Андреа мгновенно передающейся лихорадкой. Слепая,
нерассуждающая страсть охватила и его, он умирал от желания, никогда еще он
не хотел ее так сильно. Они упали на коврик для ног, она притянула его к
себе, не снимая пальто и платья. Для них обоих все закончилось в считаные
секунды, и только после этого она заплакала.
Адвокат оставил ему свои клюшки для гольфа - красивый жест. Вдова, у
которой были собственные сбережения, получила дом на Морэй-плейс. Сын
унаследовал все книги по юриспруденции и две наиболее ценные картины.
Остальное досталось Андреа, за исключением нескольких тысяч фунтов для детей
сына, племянников и племянниц и взносов в парочку благотворительных
учреждений.
У сына хватало хлопот с оформлением наследства, поэтому он и Андреа
отвезли миссис Крамон в Прествик - ей предстояло ночью лететь в США. Он
обнимал Андреа за худые плечи и смотрел, как самолет поднимается,
разворачивается над темным Клайдом, направляется в Америку. Он не соглашался
уезжать, пока самолет не исчезнет из виду, поэтому они стояли и глядели, как
слабее и слабее мигают в последних лучах дня его бортовые огни. Где-то над
Малл-оф-Кинтайром, уже почти скрывшись из глаз, самолет вдруг вынырнул из
тени Земли в лучи закатного солнца, и засверкал его инверсионный след,
восхитительно розовый на густосинем фоне. У Андреа даже захватило дух, и она
хихикнула - в первый раз с тех пор, как услышала новость о смерти отца.
Он и не подозревал, что инверсионный след может проявиться так
внезапно. О чем и сказал ей, когда машина катила по берегу глубокой темной
реки. А еще, после недолгих колебаний, признался, как год назад пытался
ехать по следу улетающего в Париж борта. Она его назвала сентиментальным
дурачком и поцеловала.
Они съездили навестить его отца, а потом несколько дней колесили по
стране. Возвращаться в Париж ей предстояло только через две недели, да и его
не ждала никакая неотложная работа Поэтому они просто ехали куда глаза
глядят, ночевали в маленьких гостиницах с полупансионом и понятия не имели,
куда их черти понесут завтра. Повидали острова Малл и Скай, мыс Кейп-Рат,
Инвернесс, Абердин, Данфермлин (там отдохнули вместе со Стюартом и Шоной),
потом обогнули Мосты и город и двинули через Куросс и Стерлинг, мост
Блайт-бридж и Пиблс к границам. В дороге отпраздновали ее день рождения, он
подарил браслет из белого золота. В последний день они ехали из Джедбурга в
Эдинбург, и она вдалеке увидела башню.
- Давай свернем, - предложила Андреа.
На "саабе" от трассы удалось проехать только полмили. Припарковались на
узком пустом проселке, она надела кроссовки, он взял фотоаппарат. Предстояло
идти через поле, а затем подниматься через кустарник и густые заросли орляка
к основанию башни - широкой, поросшей травой скале. С дороги башня виделась
маленькой, вблизи же оказалась громадной, массивной, - вероятно, памятник
тому, как местный лэрд решил в начале прошлого столетия проблему
безработицы. А заодно, возможно, монумент, посвященный какому-то конкретному
человеку и какой-то конкретной битве.
Казалось, эта темная каменная кладка уходит в бесконечность, тонет в
бездонном ветреном небе. Тяжелая серая деревянная надстройка была похожа на
открытую обзорную площадку, венчал ее смешной деревянный шпиль. Странно,
подумал он, что здесь нет ни подъездной дороги, ни автостоянки, ни лавки
сувениров, ни турникетов, ни администрации, ни билетов, ни толп народа.
Тропинки и той нет. Они стояли, задрав головы, и смотрели вверх. Уже при
взгляде со склона холма башня внушала трепет. Он снял несколько кадров.
Андреа повернулась к нему с ухмылкой:
- Как, говоришь, она называется? Он заглянул в захваченную с собой
карту автодорог, пожал плечами:
- Пенилго вроде...
- Пенис - ого! - рассмеялась она. - Интересно, а войти можно?
Она пошла к низкой узкой дверке. Та была завалена большими камнями.
Андреа попыталась их откатить.
- Ну-ну, флаг тебе в руки, - ухмыльнулся он, а затем пришел на помощь.
Часть камней откатил, часть отбросил.
Дверь отворилась. Андреа похлопала в ладоши и шагнула в проем.
- Оба-на! - воскликнула, когда он прошел следом.
Башня оказалась полой - огромная каменная труба. В ней было темно,
земляной пол усыпан голубиным пометом и крошечными мягкими перышками, и в
сумраке разносилось слабое эхо воркования потревоженных птиц. Словно робкие,
жидковатые аплодисменты, раздались вдруг хлопки крыльев. Несколько голубей в
вышине пролетели через пыльные снопы солнечных лучей, проникавших через
деревянный купол. Остро пахло птицами. Узкая винтовая лестница - каменные
блоки торчат из стены - поднималась сквозь увенчанный светом сумрак.
- Потрясающе! - выдохнул он.
- Сколь нежен звук... Прямо толкиновщина. - Запрокинув голову, она
глядела вверх, рот был приоткрыт.
Он подошел к нижней ступеньке лестницы, снабженной узкими
металлическими перилами на хилых, очень ржавых прутьях. "Века полтора, если
это оригинал, - подумал он. - А то и больше". Он с сомнением покачал
головой.
- По-твоему, это не опасно? - хрипло спросила она.
Он снова посмотрел вверх. Похоже, до вершины путь не близок. Футов
полтораста? Двести? Он вспомнил о камнях, которые только что откатил от
двери. Она тоже подняла голову, поймала голубиное перо, поглядела на него.
Он пожал плечами:
- А хрен ли? - И стал подниматься по каменным ступеням.
Она немедленно пошла следом. Он остановился:
- Дай я немного вперед пройду, я потяжелее. - Он поднялся еще ступенек
на двадцать, держась поближе к стене и не опираясь на перила. Она тоже шла,
но не приближалась. - Кажись, все в порядке, - сказал он на полпути,
поглядев вниз, на кружок пятнистой мглы в основании башни. - Не удивлюсь,
если окажется, что здесь тренируется местная команда регбистов - носятся
каждый день вверх-вниз.
- Ну да. - Больше она ничего не сказала.
Они поднялись наверх. Там их ждала широкая восьмиугольная платформа из
дерева, покрашенного серой краской: толстые бревна, солидные доски и
крепкие, надежные перила. Оба тяжело дышали, у него сильно билось сердце.
Был ясный день. Они стояли, переводя дух, и ветер теребил им волосы.
Вдыхая свежий, прохладный воздух, он прошелся вдоль перил по площадке; он
впитывал все, на что падал взор, и сделал несколько фотоснимков.
- Как думаешь, можно отсюда Англию увидеть? - подойдя к нему, спросила
она.
Он глядел на север и гадал, что это за пятно на горизонте, за грядой
покатых холмов. Может, уже над Эдинбургом? Он мысленно наказал себе купить
туристский бинокль и держать его в машине. Огляделся и проговорил:
- А то! Да в ясный день ты отсюда свою матушку увидишь.
Она обняла его за талию и прижалась, положила голову ему на грудь. Он
гладил ее волосы.
- Как насчет Парижа? - спросила она.
Он глубоко вздохнул, посмотрел мимо нее, на красивый пейзаж: холмы,
леса, поля и зеленые изгороди.
- Да, можно и Париж. - Он заглянул в ее зеленые глаза: - Париж ты
небось откуда угодно разглядишь.
Она ничего на это не сказала, только крепче прижалась. Он поцеловал ее
в макушку:
- Ты и правда возвращаешься?
- Да. - (Он почувствовал, как она кивнула, щека потерлась о его грудь.)
- Да, я возвращаюсь.
Он еще какое-то время разглядывал далекий ландшафт, следил, как ветер
шевелит верхушки сомкнутых елей. Рассмеялся, но звук не вырвался из горла,
остался в груди. Лишь передернулись плечи.
- Ты чего? - спросила она, не поднимая головы.
- Да так, ничего, - ответил он. - Вряд ли ведь ты скажешь "да", если
предложу выйти за меня замуж.
Он гладил ее волосы. Она медленно подняла голову, и ему ничего не
удалось прочитать на ее безмятежном лице.
- Вряд ли, - медленно кивнула она, и в глазах появилась блестка. Андреа
внимательно всмотрелась сперва в один его зрачок, потом в другой, и
крошечная складка прочертилась меж круто изогнутых темных бровей.
Он пожал плечами и отвел взгляд:
- Ладно, проехали.
Она снова прильнула к нему, положила голову ему на грудь.
- Не сердись, малыш. Если б замуж, то только за тебя. Просто это не
мое.
- И ладно, и к черту. Видно, и не мое. Просто жутко не в кайф снова так
надолго с тобой расставаться.
- А зачем расставаться? - (Ветер бросил ему в лицо ее глянцевитые рыжие
волосы, защекотал ими нос.) - Понимаешь, это ведь не только из-за Эдинбурга,
это еще и из-за тебя, - тихо сказала она ему. - Мне нужно найти свое место в
жизни, а ведь я так легко схожу с прямой дорожки, стоит услышать ласковые
слова или увидеть красивую задницу... Ладно, мы ведь о тебе говорим. Ты
уверен, что не хочешь себе подыскать милую женушку-хлопотунью?
- О-о, - протянул он. - Еще как уверен.
Она его поцеловала. Сначала легонько, но он прислонился спиной к серому
вертикальному брусу, сжал ее ягодицы и засунул язык ей в рот. При этом
думал: "Сломается чертов брус - и хрен с ним. Может, я больше никогда в
жизни не буду так счастлив, как сейчас. Есть способы угробиться и похуже".
- Ах ты, шельмец сладкоречивый! - Она отстранилась от него, на лице
появилась знакомая усмешка. - Все-таки уболтал меня.
Он рассмеялся и прижал ее к себе.
- Самка ненасытная!
- Ты умеешь разбудить во мне самое лучшее. - Она ласково ухватила его
за промежность, ощутила сквозь джинсы растущую эрекцию.
- А я вообще-то думал, у тебя критические дни начались.
- А даже если и так? Ты что, вампир, кровушки боишься?
- Конечно не боюсь, только я не прихватил бумажных салфеток или...
- Ну что вы, мужики, такие брезгливые, - прорычала она и укусила его за
грудь через рубашку и вытянула из кармана своей куртки тонкий белый шарф,
как фокусник извлекает кролика. - Держи. Это если надо будет почиститься. -
И закрыла ему рот своими губами.
Он вытянул из ее брюк рубашку, посмотрел на шарф, который держал в
другой руке.
- Это ведь шелк, - сказал он. Она потянула вниз замок его молнии:
- Ты уж мне поверь, малыш: я достойна самого лучшего.
Потом они лежали, чуть дрожа на холодном идольском ветру, который
продувал крашеное деревянное сооружение. Он ей сказал, что кружки вокруг ее
сосков похожи на розовые шайбы, соски - на болты цвета лекарственного алтея,
а узкие щелочки на них - на пазы для отвертки. Ее рассмешили эти сравнения.
Она смотрела на него, и на ее лице было ироничное, плутоватое выражение.
- Ты и правда меня любишь? - недоверчиво спросила Андреа.
- Боюсь, что да.
- Ну и дурачок, - ласково упрекнула она и подняла руку, чтобы поиграть
с прядью его волос. И улыбнулась.
- Это ты так считаешь. - Он на секунду сдвинулся ниже, чтобы поцеловать
ее в кончик носа.
- Да, - согласилась она, - я ветреная и себялюбивая.
- Ты щедрая и независимая. - Он откинул с ее лба сдвинутый ветром
локон. Она рассмеялась и потрясла головой.
- Любовь слепа, - сказала она.
- Да, мне все это твердят, - с притворной грустью вздохнул он. -
Самому-то не видно.
В юные годы я любил наблюдать, как эти крапинки проплывают сверху вниз
перед моим взором, но я понимал, что они находятся на моих глазах и движутся
точно так же, как фальшивые снежинки в сувенирных стеклянных шарах с
пейзажиками. Я много раз пытался выяснить, что это за чертовщина, и однажды
описал ее врачу, сравнив потоки крупинок с дорогами на карте, и до сих пор
это сравнение мне кажется удачным, но сейчас на ум чаще идут тонюсенькие
гнутые стеклянные трубочки с пылинками черного вещества внутри. А поскольку
никаких проблем, в сущности, это не доставляло, я особо и не волновался.
Лишь спустя много лет узнал, что это совершенно нормальное явление: просто
отмершие клетки смываются с роговицы глаза. В какой-то момент я
обеспокоился, не может ли при этом случаться своего рода заиливание, однако
решил, что какой-нибудь физиологический процесс наверняка следит за тем,
чтобы этого не происходило. Обидно, с таким воображением из меня мог бы
выйти великолепный ипохондрик.
Кто-то что-то мне говорил об иле. Да, тот темноволосый коротышка с
тросточкой. Сказал, что все кругом тонет: слишком много берут воды из
артезианских скважин, слишком много выкачивают нефти и газа, и поэтому весь
мир просто погружается в воду. По сей причине он пребывал в глубоком
расстройстве. Есть, конечно, способ исправить ситуацию - надо заливать в
отработанные скважины морскую воду. Понятное дело, это гораздо дороже, чем
просто выкачивать, что тебе нужно, но ведь нельзя получать все, не платя за
это ничего. Существует предел безответственности, и мы к этому пределу уже
очень близки.
Мы - камень, деталь машины. (Какой машины? Да вот этой. Вот же она!
Возьми ее, встряхни. Видишь, как образуются красивые узоры? Снегопад, дождь,
ветер, ясное солнышко.) И мы живем, как живут камни: сначала вулканическое
детство, потом метаморфическое отрочество, и наконец, осадочное старческое
слабоумие (возвращение в зону субдукции). Вообще-то истинная правда еще
более фантастична: все мы звезды. И мы, и наша планета, и Солнечная система
не что иное, как накопившийся ил древних взрывов; ил звезд, которые умирают
со дня своего перворождения, взрываются в тишине, меча шрапнель газовых
облаков, и эти облака кружатся, роятся, аккретируют и образуют плотные
небесные тела (придумайте что-нибудь покруче, мерзкие (у)мышленные монахи).
Так что мы - ил, мы - осадки, мы - отстой (сливки и сыворотка), и что
это меняет? Вы - то, что уже было и прошло, всего лишь очередные точки на
конце (выходящих за пределы) линий, всего лишь волновой фронт.
Качает и потряхивает. Машина внутри машины внутри машины внутри...
Можно не продолжать?
Потряхивает, качает. И приходят сны о чем-то давнем, утонувшем где-то в
глубинах памяти и сейчас робко движущемся к поверхности. (Снова - шрапнель,
снова - щепки.)
Тряхнет - качнет, тряхнет - качнет. Полусон - полуявь.
Города, Королевства, Мосты, Башни... Я уверен, что движусь к ним, ко
всем. Нельзя же ехать и ехать и в конце концов никуда не приехать.
Где же был этот темный мост, черт возьми? До сих пор ищу.
В тишине разгоняющегося поезда я вижу, как проносятся мимо элементы его
конструкции. На такой скорости вторичная архитектура исчезает почти
полностью. Виден только сам мост, исходное сооружение; мелькают красные
кресты, освещенные солнцем или мостовыми же светильниками. А дальше -
блестит в лучах нового дня синее речное устье.
Косые фермы кажутся бесконечным забором из рубящих клинков. Они
закрывают обзор, дробят его, кромсают. И в лучах, и в дымке нового дня я,
кажется, вижу другой мост, "выше по течению", - слабое эхо, блеклую тень.
Призрак моста выступает из тумана над рекой, его контуры одновременно и
прямей, и кривей, чем у моего моста. Призрак. Когда-то я знал его, а теперь
не знаю. Когда-то меня с ним что-то связывало...
С другой стороны, "ниже по течению", сквозь мелькающие перекрестья ферм
я вижу аэростаты воздушного заграждения. Черные, они висят в солнечных
лучах, похожие на раздувшиеся субмарины, на мертвых морских тварей,
распертых гнилостным газом.
Тут появляются самолеты. Они летят на одном уровне со мной - вдоль
моего пути - и медленно обгоняют поезд. Они окружены черными облачками;
впереди, позади, выше и ниже рождаются все новые клубы дыма. Дробные сигналы
смешиваются с черными пятнами разрывов. Это ведет огонь расконсервированная
противовоздушная оборона моста. И без того ни о чем не говорившее мне письмо
самолетов сейчас уже абсолютно неразборчиво.
Неуязвимые, невозмутимые серебристые птицы пролетают сквозь бешеный
ураган разрывов. Строй самолетов безупречен, дымовые буквы исправно
отделяются от хвостов, и солнце блестит на гладких выпуклых боках. Все три
машины кажутся совершенно невредимыми, от кока до хвостового костыля. Ни
единого пятнышка копоти или масла на клепаных пластинах фюзеляжей.
Но вдруг, когда машины уже так далеко впереди, что я с трудом различаю
их в сузившиеся проемы между фермами, когда я уже уверовал, что загадочные
летательные аппараты и вправду неуязвимы или хотя бы что артиллерия моста
стреляет дымовыми шашками, а не шрапнелью или фугасами, - подбивают средний
самолет. Попадание в хвост. Аппарат сразу теряет скорость и отстает от
товарищей, из хвоста бьет серый дым. Черные буквы сигнала еще появляются
какое-то время, потом истончаются; машина опускается все ниже, и вот уже она
на одном уровне с поездом. Летчик не пытается отвалить в сторону или как-то
иначе выйти из-под огня. Машина движется прежним прямым курсом, но теперь
значительно медленнее.
Хвост исчезает, он съеден дымом. Постепенно уничтожается и фюзеляж.
Самолет движется вровень с поездом и не отклоняется от своего курса, хотя
черные разрывы так и роятся вокруг. Самолет уже лишился половины фюзеляжа, а
хвоста нет и в помине. Серый дым добрался до крыльев и фонаря кабины. Этот
самолет не может лететь, он должен был потерять управление еще в тот миг,
когда лишился хвостовых плоскостей. Но он держится в воздухе, он не отстает
от несущегося поезда, он больше не теряет высоту. Густое облако серого дыма
съедает фюзеляж, крылья, кабину, а потом, когда они исчезают, дым редеет.
Остались только обтекатель капота двигателя и блестящая черточка пропеллера.
Летающий двигатель! Ни пилота, ни топлива, ни крыльев, ни руля высоты.
Обтекатель тает, выхлоп за выхлопом. Буквально считаные черные клубы берут
за труд ползти дальше. Вот и капот исчез, и пропеллер сгинул в выбросе
плотного серого дыма. Остается лишь кок, но и он тает на глазах, пропадает.
И снова за мелькающими, размытыми скоростью поезда вертикалями и укосинами
лишь синее небо и аэростаты.
Поезд меня качает и потряхивает. Я в полусне.
Ложусь досыпать.
В пути я видел странный повторяющийся сон о чьей-то прежней, сухопутной
жизни. Мне снился один и тот же мужчина, сначала ребенком, потом юношей. Но
на любом из возрастных этапов мне никак не удавалось его разглядеть толком.
Как будто я смотрю на него сквозь туман и вижу только в черно-белом
изображении, и картинка вдобавок загромождена вещами, не вполне реальными,
но это и не просто визуальные образы. Как будто экран, на котором
воспроизводят чужую жизнь, дает искаженное изображение, но при этом я
способен видеть еще и то, что происходит в голове этого человека, видеть,
как его мысли, связи и ассоциации, догадки и намерения фонтанируют и
попадают на экран. Все казалось серым, нереальным, но мне иногда удавалось
заметить черты сходства между происходящим в этом странном навязчивом сне и
тем, что творилось в действительности, когда я жил на мосту.
А может быть, это и есть реальность? Может быть, частично
восстановилась моя поврежденная память и теперь выдает беспорядочные
фрагменты - то ли развлечь меня пытается, то ли что-то сообщить. Помнится, в
одном из снов я видел что-то наподобие моста, только издали, кажется, с
пустынного берега, и к тому же сооружение было недостаточно велико. Позже
вроде бы снилось, что я стою под мостом, но снова он был слишком мал и
темен. Слабый отголосок, не более того.
Безлюдный поезд, на котором я укрылся, сутки за сутками катил по мосту,
порой замедлял ход, но никогда не останавливался. Раза два у меня имелась
возможность спрыгнуть, но я не спрыгнул из боязни разбиться насмерть. К тому
же я решил доехать до конца сооружения. Я прошелся через состав и выяснил,
что в нем всего три вагона: два пассажирских с сиденьями, столиками и
спальными купе и ресторан. Ни кухонного вагона, ни складского, и двери в
торцах первого и третьего вагонов заперты.
Почти все время я прятался, вжавшись в откидное сиденье, чтобы не
увидели снаружи, или лежал в спальном купе на верхней полке и смотрел через
щель между занавесками на мост. Дремал или мечтал о еде, пил в туалете воду.
По ночам лампы не включались, лишь установленные вдоль путей
желто-оранжевые прожектора шарили призрачными лучами по бегущим вагонам.
День ото дня становилось теплее, солнце за окнами - ярче. Облик моста
нисколько не менялся, чего нельзя было сказать о людях, которых мне иногда
удавалось разглядеть возле путей. Кожа у них была других оттенков, смуглее,
- наверное, я уже в южных краях.
Но через несколько дней снова потемнело. Я ослаб от голода, почти не
вставал, елозил от качки туда-сюда на откидном сиденье, словно
незакрепленный предмет по палубе судна. Начинал верить, что свет нисколько
не изменился, просто меня подводит зрение и люди от этого похожи на тени.
Глаза все равно болели.
Однажды ночью я вскинулся: мне снилось, как мы с Эбберлайн Эррол
ужинали в ресторане. Кругом была тьма - и в вагоне, и снаружи.
Ни единого лучика не падало с моста, не блестела отраженным светом
хромированная фурнитура. Я поднес к глазам руку - не видать. Закрыл глаза,
надавил на них пальцами и увидел только фосфены - реакция глазных нервов на
нажим. Ощупью добрался до ближайшей двери, опустил окно и выглянул наружу. В
вагон ворвался теплый воздух с незнакомым, очень густым и тяжелым, запахом.
Сначала я встревожился, не учуяв запаха соли, водорослей, краски и машинного
масла, даже дыма и пара.
Но тут наверху я заметил полоску света; она двигалась, но очень
медленно. Поезд по-прежнему шел почти на максимальной скорости, ветер
врывался в окно и теребил на мне одежду. Но я видел, как в вышине еле-еле
ползет свет. Наверное, он очень далеко. Я предположил, что это край облака,
освещенный звездами. Тут я сообразил, что вижу эту бледную кромку целиком,
мне не мешают фермы и перекладины, не рубят картину на мелкие фрагменты.
Может быть, на этом участке моста несущие основную нагрузку элементы
конструкции расположены ниже рельсов? Меня снова начало мутить.
Поезд сбросил ход на каких-то стрелках, шум уменьшился, и, прежде чем
состав опять набрал скорость, я успел расслышать далекие ночные голоса
дикого темного леса и понять, что световая полоска, ошибочно принятая мной
за край облака, - это неровно поросшая лесом горная гряда в паре миль от
меня. Я рассмеялся, безумно и восторженно, сел у окна и сидел до рассвета,
когда начало пригревать солнце и в зарослях появились очаги тумана.
В этот день поезд замедлил движение и въехал в пределы довольно
крупного города. Неторопливо петляя, состав миновал сортировочную и
приблизился к длинному, приземистому зданию вокзала. Я спрятался в кладовке
для постельного белья. Поезд остановился. Послышались голоса, урчание
каких-то машин внутри вагонов, затем наступила тишина. Хотел выбраться из
шкафа, но тот, оказывается, заперли снаружи. Я задумался, что делать дальше.
Снова через металлическую дверь шкафа проникли голоса, и у меня возникло
впечатление, что поезд наполняется людьми. Через несколько часов он
тронулся. Ночь я провел в запертом шкафу, а утром меня обнаружил проводник.
Поезд и впрямь был полон пассажиров. Хорошо одетые дамы и господа не
отличались от тех, рядом с кем я жил на мосту. Я видел летние костюмы и
платья. Пассажиры сидели за столиками в застекленных вагонах для туристов и
потягивали коктейли со льдом. Кажется, в их взглядах было легкое отвращение,
когда меня вели по составу. На мне мятая и грязная одежда; железнодорожный
полицейский больно заломил мне руку за спину. Снаружи мелькала гористая
местность, уйма туннелей и высоких виадуков над бурными потоками.
Меня допрашивал кто-то из начальства поездной пожарной бригады. Он был
молод и одет в снежно-белый мундир, без единого пятнышка. Меня это удивило -
по идее форма пожарника не должна бояться сажи и копоти. Его интересовало,
как я оказался в поезде. Отвечал я правдиво. Меня снова провели через весь
состав и заперли в пустом отсеке багажного вагона. Кормили меня хорошо,
остатками еды с кухни. Одежду мою забрали, потом вернули выстиранной.
Платок, на котором Эбберлайн Эррол приказала вышить монограмму, а потом
оставила красный след своих губ, я получил назад идеально чистым.
Поезд катил среди гор, потом по травянистой равнине на возвышенности;
вдали мелькали стада каких-то пугливых животных, и непрестанно дул сильный
ветер. За равниной - подножие другого кряжа. Поезд добрался и до него и
снова принялся петлять, и опять виадук следовал за виадуком, туннель - за
туннелем. Теперь мы ехали вниз, делая остановки в тихих городках, среди
лесов, возле зеленых озер и каменных шпилей на постаментах из щебня. В моей
грохочущей одиночке не было никакой мебели, а единственное оконце имело
размеры два фута на шесть дюймов, но видимость была вполне
удовлетворительная, а из конца вагона, через большую дверь для погрузки
багажа, текли свежие, разреженные запахи скал и альпийских лугов, и
окутывали меня, и дразнили ложными надеждами на возвращение памяти.
Мне и здесь снились сны, другие, не только о жизни человека в красивом
строгой красотой городе. Однажды ночью мне привиделось, что я проснулся, и
подошел к оконцу, и гляжу на усеянную валунами равнину, и вижу две пары
слабых огней, приближающихся друг к другу по озаренной луной пустоши. Но
едва они сошлись и остановились, поезд с ревом влетел в туннель. Потом был
сон, как я выглядываю из окна днем, когда поезд шел над высоким обрывом и
искрящимся синим морем. Край обрыва унизан пушистыми белыми облачками. Мы
врываемся в них и тут же выскакиваем в участки чистого, лишь слегка
тронутого знойной дымкой пространства, и в такие минуты далеко внизу
виднеется лакированное солнцем море. И однажды я как будто углядел два судна
под парусами, борт о борт, и между ними клубился серый дым и выстреливали
языки пламени. Но это была греза.
В конце концов меня высадили - за горами, холмами, тундрой и еще одной,
низко лежащей над уровнем моря, холодной равниной. Здесь находится
Республика, студеная концентрическая территория, называвшаяся раньше, как
мне сказали, Оком Господним. С голой равнины туда можно было попасть по
длинной дамбе, которая разделяла воды громадного серого внутреннего моря. В
плане море имеет почти идеально круглую форму, и большой остров посреди него
тоже очень напоминает эту геометрическую фигуру. Для меня знакомство с
Республикой началось со стены, грандиозного сооружения, окаймленного
пенистым прибоем и увенчанного низкими башнями. Стена изгибалась и казалась
бесконечной, исчезала в далеких завесах ливня. Поезд с грохотом одолел
длинный туннель, глубокий ров с водой и еще одну стену. Дальше лежал остров,
Республика, страна пшеничных нив и ветров, низких холмов и серых зданий. Она
казалась одновременно изнуренной и полной энергии; серые дома часто
чередовались с ухоженными дворцами и храмами, явно принадлежащими прежней
эпохе; их тщательно восстановили, но, похоже, применения им не нашли. Еще я
увидел кладбище, очень большое, в несколько миль протяженностью. Над морем
зеленой травы высились идеально ровными шеренгами миллионы одинаковых белых
столбиков.
Меня поселили в бараке, где живут сотни людей. Я сметаю палую листву с
широких тропинок парка. По его сторонам - высокие серые дома, квадратные
громады на фоне зернистого, пыльно-голубого неба. Крыши зданий увенчаны
шпилями с развевающимися флажками, но рисунков на этих флажках мне не
разобрать.
Я подметаю, даже когда листьев нет. Правила есть правила. Как только я
здесь очутился, возникло впечатление, что это тюрьма. Но я ошибался. То
есть, может, это действительно тюрьма, только не в привычном смысле слова.
Каждый встречный мне казался либо заключенным, либо охранником, и, даже
когда меня взвесили, измерили, осмотрели, и выдали мне робу, и привезли на
автобусе в этот огромный безымянный город, почти ничего не изменилось. У
меня была возможность поговорить с очень немногими людьми. В этом, конечно,
нет ничего удивительного. Те, к кому я обращался, с живым интересом
прислушивались к моему выговору, но сами о своих делах рассказывали очень
осторожно. Я спрашивал, слышали ли они что-нибудь о мосте. Некоторые
слышали, но восприняли как шутку мои слова, что я сам оттуда. А может быть,
приняли меня за психа.
Потом мои сны изменились, были захвачены, порабощены.
Однажды ночью я проснулся в бараке. Сладко до тошноты пахло смертью, со
всех сторон раздавались крики и стоны. Я выглянул в разбитое окно и увидел
сполохи далеких разрывов, ровное свечение больших пожаров. Услышал
приглушенный грохот снарядов и бомб. В бараке я был один, звуки и запахи
проникали снаружи.
Я чувствовал слабость и жуткий голод - хуже, чем в поезде, что увез
меня с моста. Оказывается, за эту ночь я потерял половину своего веса. Я
ущипнул себя, укусил за внутреннюю сторону щеки, но не проснулся. Оглядел
безлюдный барак: оконные стекла укреплены липкой лентой, на каждой
прямоугольной пластине черный или белый икс. За окнами пылал город.
Там, где раньше хранилась моя роба стандартного образца, я нашел чьи-то
неудобные ботинки и старый костюм. Оделся, обулся и вышел в город. Увидел
парк, который мне полагалось подметать, только сейчас в нем повсюду стояли
палатки, а здания вокруг превратились в руины.
В небе то и дело появлялись самолеты - одни ровно гудели, пролетая,
другие с воем падали из ночных облаков. Земля и воздух сотрясались от
взрывов, пламя взлетало ввысь; кругом - руины и запах смерти. Я увидел тощую
клячу, убитую прямо в упряжке; повозка была наполовину погребена под
обломками здания. Тощие мужчины и женщины с безумными глазами аккуратно
разделывали конягу.
Облака казались оранжевыми островами в чернильном небе; пожары
отражались в летучем паре и посылали навстречу колонны своей собственной
мглы. Над пылающим городом кружили самолеты, как вороны над падалью. Иногда
какой-нибудь из них попадался в луч прожектора, и небо вокруг еще сильнее
затмевалось комками черного дыма. В остальном же город казался беззащитным.
Несколько раз над моей головой свистели шальные снаряды, два легли
поблизости, вынуждая меня бежать в укрытие; вокруг дождем сыпались пыльные
осколки кирпича и камня.
Несколько часов я блуждал в этом бесконечном кошмаре. К рассвету решил
вернуться в барак и увидел впереди старика со старухой. Они шли по улице,
поддерживая друг друга; внезапно мужчина скорчился и упал, и женщина тоже не
удержалась на ногах. Я поспешил к ним на помощь, но старик был уже мертв.
Несколько минут не падало ни бомб, ни снарядов, и хотя я слышал треск
стрелкового оружия, доносился тот издалека. Женщина, почти такая же седая и
тощая, как покойник, кричала, рыдала и стонала, уткнувшись лицом в
потрепанный ворот его пальто, и медленно качала головой, и повторяла
какие-то непонятные мне слова.
Я и не подозревал, что в иссохшей старухе может быть так много слез.
Я вернулся в барак и увидел, что там полным-полно убитых солдат в серых
мундирах. Одна койка была не занята. Я лег на нее и проснулся.
Никакой войны; я по-прежнему в мирном, невредимом городе. Все те же
деревья, дорожки и высокие серые дома. Оглядевшись, я убедился, что вокруг
те самые здания, которые только что лежали в руинах. Присмотрелся и
обнаружил, что не все их блоки должным образом отреставрированы - некоторые
хранят различимые, хоть и подтертые выветриванием следы шрапнели и пуль.
Такие сны преследовали меня неделями кряду, похожие, но никогда не
повторяющиеся точь-в-точь. Почему-то я не очень удивился, когда узнал, что
подобное тут снится всем. Удивлялись они - тому, что со мной такое
происходит впервые. Непонятно, почему они так боятся этих видений. Ведь это
в прошлом, говорил я им, а будущее может быть лучше, зачем же обязательно
должно повториться прошлое?
Однако они считают, что угроза есть. Я им говорю, что нет, но к моим
доводам не прислушиваются. Некоторые даже стали меня избегать. Тем, кто
слушает, я говорю, что они в тюрьме, только это не простая тюрьма, она - у
них в головах.
Этой ночью я пил спирт с товарищами по бараку. Я им рассказывал про
мост и про то, что ничего опасного для них по пути сюда не увидел.
Большинство работяг обозвали меня чокнутым и разошлись спать. А я засиделся
допоздна и слишком много выпил.
Утром я страдаю похмельем, а ведь рабочая неделя только началась. Беру
на складе метлу и выхожу в прохладу парка, где лежат листья, мерзлые или
оттаявшие - в зависимости от того, куда падают снопы солнечных лучей. В
парке меня уже поджидают четверо в большом черном автомобиле.
В машине двое бьют меня, а двое других болтают о том, как на этих
выходных пялили своих баб. Мне больно, хотя истязатели не усердствуют, -
похоже, им просто скучно. Один рассадил о мой зуб костяшку пальца и как
будто осерчал, но, когда он вынимает кастет, другой что-то говорит ему, и
первый прячет железку и потом только сидит, посасывая ранку. С воем сирены
машина несется по широким улицам.
На лице сидевшего за столом худого седого человека я вижу почти
виноватое выражение. Лупить меня не полагалось, но это стандартная
процедура. Он говорит, что я просто счастливчик. Я вытираю кровь под носом и
подбитые глаза платком с монограммой (каким-то чудом он до сих пор не
украден) и пытаюсь соглашаться с незнакомцем. "Вот если б вы были из
наших..." - говорит он и загадочно качает головой. И постукивает ключом по
поверхности серого металлического стола.
Я где-то в большом подземном здании. В машине, по пути к большому
городу (даже не представляю, где он находится), мне надели повязку на глаза.
О том, что мы въезжаем в город, я догадался по транспортному шуму, среди
которого автомобиль ехал больше часа, пока наконец не нырнул в гулкое
подземелье и не покатил по спирали вниз. Когда наконец остановился, меня
высадили и бесчисленными кривыми коридорами привели в эту комнату, где сидел
худой и седой человек, постукивал по металлическому столу ключом и пил чай.
Я спрашиваю, как со мной собираются поступить. Вместо ответа он
рассказывает мне о здании, куда меня привезли, - тюрьме, совмещенной с
управлением полиции. Как я и догадывался, сооружение располагается большей
частью под землей. С неподдельным энтузиазмом (и постепенно входя в раж) он
объясняет, по каким принципам оно построено и как действует. Тюрьма-полиция
представляет собой несколько высоких цилиндров, врытых в землю. Этакие
трубчатые перевернутые небоскребы, составленные вплотную друг к другу в
городских недрах. Точное число цилиндров он не разглашает, но у меня
складывается впечатление, что их от трех до шести. Каждый содержит множество
помещений: камеры, туалеты, кабинеты, столовые, спальни и тому подобное, и
каждый цилиндр способен вращаться независимо от других. Так что можно почти
непрерывно менять пространственную ориентацию коридоров и наружных дверей.
Допустим, сегодня дверь ведет к лифту, или к подземной стоянке автомобилей,
или к железнодорожной станции; завтра она откроет путь в другой цилиндр или
за ней окажется глухая скала. Каждый день, а в условиях чрезвычайного
положения даже каждый час эти циклопические цилиндры дружно проворачиваются
- либо наугад, либо по сложному секретному алгоритму; поэтому заранее
планировать побег из тюрьмы совершенно бессмысленно. А информация, потребная
для расшифровки этого сложнейшего алгоритма, поступает к рядовым полицейским
и тюремщикам по крупицам, ровно в том объеме, какой необходим для выполнения
их непосредственных служебных обязанностей, так что посторонний нипочем не
догадается и не разнюхает, какую конфигурацию примет в следующий раз
мудреный подземный комплекс. К машинам, которые регулируют и контролируют
это вращение, имеют доступ лишь самые честные и проверенные сотрудники, а
механические и электронные мускулы и нервы машин сконструированы таким
образом, чтобы никакой инженер или рабочий, привлеченный к устранению той
или иной неполадки, не получил возможности увидеть систему целиком.
Обо всем этом поведал мне седой собеседник, обладатель ясного и
открытого взгляда. У меня болит голова, перед глазами все плывет, и неплохо
бы посетить туалет, но я вполне искренне соглашаюсь: да, мол, в инженерном
деле вы достигли немалых успехов. "Но разве вы еще не догадались, -
спрашивает он с лукавой улыбкой, - разве вы еще не поняли, что послужило
прототипом?" "Нет, не понял", - сознаюсь я. В ушах звенит.
"Замок! - выпаливает он торжествующе, с блеском в глазах. - Это же
песня, симфония металла и камня, абсолютная реализация идеи замка,
надежнейшее хранилище, из которого ни за что не вырваться злу".
Я понимаю, что он имеет в виду. В голове пульсирует боль, и я валюсь
без чувств.
А просыпаюсь уже в другом поезде. Во сне я обмочился.
"Сеются по свету разные правды Роем пластиковой шрапнели, Многим они
проникают под кожу, Кое-кому задевают нервы. Лишний симптом застарелой
хвори, Лишний стигмат миропорядка; Расцвет и тленье вашей системы,
Диабетического материализма. Давайте просите у нас прощенья. Ответьте, ради
чего вся подлость. Скажите: "Хотели сделать как лучше, Боль причиняли для
вашей же пользы". Мы улыбнемся в ответ притворно, Припомнив Кровавые
Воскресенья Вместе с Черными Сентябрями, - Время, что вы растратили зряшно.
Нам это - повод считать патроны, Думать, где выстроим баррикады,
Выбрать решительных командиров, Смазать винтовки и ждать сигнала. А до тех
пор бормотать согласно: "Да, ну конечно, все так и было. Мы не в претензии -
понимаем: Вы же всегда хотели, как лучше...""
- Очень, очень радикально, - кивнул Стюарт. - Сплошь уличные лозунги. Я
всегда говорил, что хороший стих заменяет десяток "Калашниковых". - Он еще
раз кивнул и поднес к губам стакан.
- Слышь, ты, жопа с ручкой, а как тебе "диабетический материализм"? Не
возражаешь?
Стюарт пожал плечами, потянулся за новой бутылкой "Пильза".
- Ни в коем разе. Валяй дальше, чувак. Это новые стихи?
- Старье. Хотя подумываю, не рискнуть ли что-нибудь напечатать. Просто
боялся, ты обидишься.
Стюарт рассмеялся:
- Ну и мудила же ты иногда! Сам-то хоть об этом знаешь?
- Догадываюсь.
Это было в Данфермлине, в доме Стюарта. Шона с детьми отправилась на
выходные в Инвернесс. Он приехал оставить рождественские подарки и
пообщаться со Стюартом. Хотелось с кем-нибудь поговорить. Он откупорил новую
банку "экспортного" и добавил пробку с колечком к растущей в пепельнице
груде.
Стюарт налил себе в стакан "Пильза" и перебрался к вертушке. Последняя
пластинка доиграла несколько минут назад.
- Как насчет тряхнуть стариной?
- А чего? Давай поностальгируем. - Откинувшись на спинку кресла, он
глядел, как Стюарт ворошит большим пальцем коллекцию дисков, и жалел, что не
придумал ничего оригинальнее, чем дарить детям пластинки. Впрочем, они
именно пластинки и просили всегда. Одному было десять, другому - двенадцать.
Он вспомнил, что первый сингл купил себе на шестнадцатилетие. А у детей
Стюарта уже свои коллекции альбомов. Что тут скажешь?
- О господи, - пробормотал Стюарт, вытягивая и удивленно разглядывая
голубой с серым конверт. - "Deep Purple in Rock".
Неужели это я покупал?
- Обкурился, наверное, в дупель, шандарахнуло в голову, как булыжником,
- сказал он.
Стюарт повернулся к нему и подмигнул, доставая диск из конверта:
- Что это с тобой? Проблеск остроумия?
- Крошечная искорка. Да ставь же диск, япона мать!
- Погоди, сейчас почищу, давно не слушал. - Стюарт протер диск и
опустил иглу: "Can't Stand the Rezillos"<"Терпеть не могу Rezillos"
(англ.)>.
"Так это аж семьдесят восьмого! - подумал он. - Ни хрена себе! Вот уж
правда, трясем стариной".
Стюарт покивал под музыку, потом сел в кресло.
- Люблю я эти нежные, мелодичные песни, - прокричал он.
Проигрыватель оглашал комнату грохотом "Somebody's Gonna Get Their Head
Kicked In Tonight"<"Кому-то сегодня проломят башку" (англ.)>.
Он отсалютовал Стюарту пивной банкой:
- Семь лет! Боже Всемогущий! Стюарт наклонился вперед, приставил к уху
согнутую ладонь.
- Семь лет, говорю. - Он кивнул на хайфай: - Семьдесят восьмой...
Стюарт откинулся в кресле, выразительно покачал головой:
- Не-а. Тридцать три и одна треть.
Я понижен в должности, и теперь моя работа - рассказывать истории из
прежней жизни. Копаюсь в своих снах, выискиваю там лакомые кусочки для
привередливого фельдмаршала и его пестрого воинства - банды отъявленных
душегубов. Мы сидим на корточках вокруг костра; горят музейные знамена и
драгоценные книги, пламя сверкает на патронташах и штыках. Мы едим
человечину и пьем дрянное виски. Фельдмаршал хвастает выигранными им
битвами, трахнутыми им женщинами, а когда запас его фантазии иссякает,
наступает моя очередь. Я рассказываю про мальчика, у которого отец держал на
пустыре голубятню. Мальчик вырос, и самым счастливым в его жизни был тот
день, когда он предложил своей девушке руку и сердце и получил отказ, а
случилось это на вершине громадного архитектурного памятника, и там тоже
жили голуби.
Однако на фельдмаршала моя история, похоже, не производит впечатления,
поэтому я возвращаюсь к самому началу.
Когда в кабинете худого седоволосого человека, барабанившего ключом по
серому столу, со мной по законам мелодрамы приключился обморок, меня
перенесли на поезд. Пока я лежал без сознания, тот доехал до границы
Республики, по гребню плотины промчался на тот берег почти идеально круглого
моря и углубился в стылую тундру.
Придя в себя на узкой койке, я обнаружил, что описался. Самочувствие
было ужасным: голова раскалывалась, туловище ныло в нескольких местах и
проснулась застарелая круглая боль в груди. Вокруг меня погромыхивал поезд.
Мне дали новый комплект одежды - форму официанта. В поезде ехали
престарелые чиновники из Республики, их отправили с миротворческой миссией,
но мне так и не привелось узнать, в каких таких должностях состояли эти люди
и какого такого мира они намеревались добиться. И я вместе с опытным старшим
официантом должен был обслуживать их в вагоне-ресторане, подавать напитки,
принимать заказы, носить с кухни еду. К счастью, эти дряхлеющие бюрократы
почти беспробудно пьянствовали и первые мои оплошности остались
незамеченными, а вскоре меня поднатаскал старший официант. Иногда
приходилось стелить койки, подметать, стирать пыль и надраивать блестящую
фурнитуру в мягких купе и сидячих вагонах.
Если это наказание, то очень мягкое, думалось мне. Позже я узнал, что
лишь чудом избежал гораздо худшей судьбы. Дело в том, что для обслуги и
пассажиров этого поезда я был неграмотным, немым и глухим. Ведь я ни слова
не понимал в речах окружающих или в газетах, которые лежали в вагонах.
Поэтому мне можно было доверять и можно было меня использовать. Естественно,
я кое-чему все же научился, но мой словарь представлял собой горстку
ресторанных терминов, и меня хватало от силы на расшифровку табличек, таких
как "Просьба не беспокоить". Но от официанта большего и не требовалось.
Поезд мчался по продуваемой всеми ветрами тундре, минуя низкорослые городки,
лагеря для заключенных и военные базы.
Чем дальше мы отъезжали от Республики, тем быстрее чиновники переходили
от пьяного расслабления к пьяному напряжению. На горизонте медленно
поднимались столбы черного дыма, над поездом с ревом проносились боевые
самолеты. В такие моменты пассажиры инстинктивно пригибались к столикам,
потом смеялись, расстегивали воротники и одобрительно кивали вслед быстро
исчезающим в небе пятнышкам. Затем ловили мой взгляд и властно щелкали
пальцами: еще по одной!
В составе нашего поезда были две платформы с двумя четырехствольными
зенитными установками: одна перед локомотивом, другая - за вагоном с
охраной; позже перед ней вставили теплушку для артиллеристов и бронированный
вагон с дополнительными боеприпасами. Военные жили обособленно, в
пассажирские вагоны почти не заходили, и меня не посылали их обслуживать.
Позже в городке, где вдали ревели сирены и клаксоны, а рядом с вокзалом
бушевал громадный пожар, было отцеплено два пассажирских вагона. Вместо них
поставили обшитые бронеплитами, с пехотой. Офицеры заняли один или два
спальных вагона. Но все же среди пассажиров еще преобладали чиновники.
Офицеры вели себя прилично.
Переменилась погода, выпал снег. Мы ехали вдоль щебенчатой дороги; под
разными углами к ней в кюветах валялись сожженные грузовики, а проезжая
часть и обочины были испещрены воронками. Уже появлялись воинские колонны и
толпы бедно одетых гражданских с детскими колясками, груженными домашней
утварью. Войска двигались в обоих направлениях, беженцы - в одном,
противоположном нашему. Несколько раз поезд без видимой причины
останавливался, и часто я видел проходящие мимо товарняки со щебенкой, а
также с разобранными грузовиками, бульдозерами и подъемными кранами. Многие
мосты над заснеженной тундрой были совсем недавно построены из обломков
прежних мостов; обслуживали их саперы. Такие участки поезд преодолевал с
черепашьей скоростью, я даже выходил и шагал рядом, разминал ноги, дрожа от
холода в тонкой тужурке официанта.
Прежде чем я понял, что происходит, в вагонах не осталось штатских,
только офицеры и поездная обслуга. И все вагоны теперь были бронированные. У
нас было три обшитых стальными плитами дизельных локомотива впереди и еще
два позади. Через каждые три-четыре вагона - платформа с зенитными орудиями,
в крытых вагонах прятались полевые пушки и гаубицы; и еще был вагон с
радиостанцией и автономным электрогенератором, несколько платформ с танками,
джипами и артиллерийскими тягачами, а также теплушки, набитые новобранцами,
и с десяток вагонов, груженных бочками с горючим.
Я теперь прислуживал только офицерам. Они много пили, еще больше, чем
бюрократы, и имели склонность к вандализму, но зато не бросались в меня
столовым серебром, когда я ронял грязные тарелки.
Солнце грело меньше, ветры студили сильнее, а тучи были здесь особенно
темны и плотны. Беженцы нам больше не встречались, только развалины городов
и деревень, похожие на рисунки углем: чернота покрытых сажей камней и пустая
белизна лепящегося ко всему и вся снега. Попадались опустевшие военные
лагеря, разъезды, забитые бронепоездами вроде нашего или поездами с сотнями
танков на платформах, с гигантскими орудиями на многоосных платформах длиной
с полдюжины обычных.
Мы подверглись атаке с воздуха. Наша зенитная артиллерия открыла
сумасшедшую пальбу, вдоль поезда поплыли облака едкого порохового дыма.
Самолеты били из пушек, вышибали нам окна; бомбы падали в сотнях футов от
железнодорожного пути. Мы со старшим официантом лежали на полу кухни, он
прижимал к животу коробку тончайших хрустальных бокалов, а над нами свистели
осколки оконного стекла. Оба мы ужаснулись при виде волны красной жидкости,
хлынувшей из-под кухонной двери; подумали, что убило кого-то из поваров. Но
это было всего лишь вино.
Повреждения были устранены, и поезд двинулся дальше между низкими
холмами, под темными тучами. Местами ветром сдуло с холмов снег, и, хотя
солнце уже не поднималось высоко в небо, стало теплее. Я как будто даже
чувствовал дыхание океана. Иногда попахивало серой. Нам попадались военные
лагеря, каждый крупнее предыдущего. Холмы постепенно сменились горами, и я
однажды вечером, работая в ресторане, увидел первый вулкан. По ошибке я
принял его за разгорающийся вдали грандиозный ночной бой. Военные лишь
косились за окно и предостерегали, чтобы я не пролил суп.
Вдали теперь непрестанно грохотали взрывы - частью вулканические,
частью рукотворные. Поезд с грохотом катил по только что отремонтированному
пути, полз мимо серолицых людей с кувалдами и совковыми лопатами.
Мы бежали от неприятельских самолетов: разгонялись на прямых участках
пути, опасно кренились на поворотах, ныряли в туннели, тормозили с неистовым
визгом, грохотом и треском. Искры из наших тормозных букс освещали стены
туннелей.
Мы выгружали танки и автомобили, принимали раненых. Окрестные холмы и
долины были усеяны следами войны, как запущенный сад - гнилыми фруктами.
Однажды вечером я увидел остовы танков, охваченные рубиново-красным огнем.
Под нами по долине текла лава, словно пылающая грязь; у попавшихся в эту
западню танков расплавились гусеницы, нелепо задрались к небу стволы пушек.
Беспомощные стальные махины, несомые раскаленным потоком, казались
мертворожденными детищами самой земли или антителами в адской кровеносной
артерии.
Я все еще прислуживал военным в вагоне-ресторане, хотя у нас не
осталось вина, а продовольствие ухудшилось и качественно, и количественно.
Многие офицеры, севшие на наш поезд после того, как он въехал в прифронтовую
зону, могли тупо глядеть в свои тарелки по нескольку минут кряду, как будто
вместо еды мы предложили им гайки с болтами.
Наши прожектора не гасли ни днем, ни ночью. Темные тучи, громадные
расползающиеся клубы вулканического дыма, низкое солнце, которого мы порой
не видели целыми днями, - все они словно сговорились превратить
обезображенные разрухой горы и долины в страну вечной ночи. Мы ни в чем не
были уверены. Сгустившаяся на горизонте тьма могла быть дождевой тучей, а
могла быть дымом пожара. Слой чего-то белого на холме или равнине мог быть
как снегом, так и пеплом. Сполохи над нами - как пожарами в горных
крепостях, так и выбросами проснувшегося вулкана.
Наш поезд, в брызгах застывшей лавы, в корке спекшейся пыли, во
вмятинах и заплатах, двигался через сумрак, пыль и смерть, и какое-то время
спустя мне это стало казаться совершенно нормальным. Скоро на крышах и
стенах вагонов накопится столько остывшего вулканического материала, что мы
будем в конце концов неотличимы от скал - по крайней мере, при взгляде
сверху. Естественная защитная оболочка, камуфляж как продукт эволюции -
словно бы металлы, составляющие корпус поезда, спонтанно вернулись в свое
природное состояние.
Нападение застигло нас в гуще огня и пара.
Поезд спускался по горному перевалу. В неглубокой долине сбоку от нас
бежал лавовый поток, почти не отставая от поезда. Когда мы по вырубленной в
скале выемке приблизились к туннелю, перед нами вырос громадный паровой
занавес, и звуки, похожие на шум исполинского водопада, медленно поглотили
стук колес поезда. Проехав через заполненный туманом туннель, мы обнаружили,
что путь лаве прегражден глетчером; ледяной щит выступал из ответвления
ущелья, его грязные талые воды питали широкое озеро. Поток лавы достиг
ледяной воды, гнал перед собой необъятную стену пара.
Поезд опасливо крался вперед через облако густого тумана. Я заправлял
койки в спальном вагоне. Когда начался камнепад, я отошел к противоположной
стене вагона и через открытую дверь смотрел, как по окутанному паром склону
летят булыжники, все крупнее и крупнее, как они скачут и врезаются в поезд.
Одни камни влетали в окна, другие бились о бока вагонов. Вдруг огромный
валун понесся прямиком на меня, и я побежал по коридору. В шуме камнепада и
далекой пушечной пальбы я чувствовал содрогание поезда, затем ужасающий
грохот стер все прочие звуки. Лава испарила озеро, канонаду, мелкий камнепад
по бокам и крышам вагонов. Мой вагон резко накренился, швырнув меня на окно.
Мигнули и погасли лампы; душераздирающий треск, звон бьющегося стекла
исходил, казалось, со всех сторон; выпуклая крыша и стены пасовали меня друг
другу, как футбольный мяч.
Позже я узнал, что вагон оторвался от состава и покатился по каменной
осыпи к кипящим водам озера. Бандиты фельдмаршала, явившиеся грабить поезд и
добить уцелевших, наткнулись на меня. Я сидел среди обломков, бормотал
что-то невразумительное и, как они мне сказали (хотя эти соврут - недорого
возьмут), все прикладывал голову старшего официанта к тому, что осталось от
его туловища. Я даже засунул яблоко ему в рот.
Меня снова спас мой язык. На нем говорят и эти люди, и они отвели меня
к фельдмаршалу. Он находился в небольшом поезде, стоявшем чуть дальше по
железнодорожному пути.
Фельдмаршал очень высок и плотен, с непропорционально длинными ногами и
безразмерным задом, с широким круглым лицом и покрашенными в черный цвет
волосами. Он любит пышные мундиры с высоким альбедо<Альбедо - коэффициент
отражения света (астроном.)>. Он сидел в своем вагоне за столом, слушал
музыку по радио и ел засахаренную айву с десертной тарелки. Когда меня,
полуживого, притащили к нему, он спросил, откуда я такой взялся. Смутно
помню, что я рассказал правду, которая ему показалась крайне забавной.
"Будешь моим слугой, - сказал он. - Люблю за обедом слушать интересные
байки". Меня заперли в тесном отсеке багажного вагона, и там я ждал, когда
банда фельдмаршала дограбит наш поезд и добьет последних пассажиров. Меня
обыскали, забрали носовой платок. Через несколько дней я увидел, как в него
сморкается фельдмаршал.
Наконец вернулись перепачканные кровью боевики, принесли добытое оружие
и ценные вещи. Налетел ветер, принялся гонять пар в долине. Озеро уже почти
высохло, но лава все текла. И вот ее поток встретился с глетчером, это
вызвало серию ужасающих взрывов, обломки льда и камня взлетели на сотни
футов. Наш маленький состав успел улизнуть, лязгая и громыхая, от этого
стихийного бедствия. Поезд фельдмаршала был короче, чем попавший к нему в
засаду, да и оснащен хуже. Ехали мы ночами, а днем только под прикрытием
густого тумана; когда его не было, прятались в туннелях или растягивали
камуфляжные сети. Первые несколько дней в вагонах царила напряженная
атмосфера, но мало-помалу пестрое воинство расслабилось, и этому не помешал
даже налет пикирующего бомбардировщика, от которого мы едва успели сбежать,
и страшный проезд через длиннейший извилистый виадук под артиллерийским
обстрелом.
Вулканическая активность снизилась, и теперь только фумаролы, гейзеры и
озерца кипящей грязи намекали на могучий огонь, что крылся под остывающей
коркой земли.
Фельдмаршал вез с собой десяток-другой свиней. Они ехали в красивых
купейных вагонах, а пленных людей мы везли в хвосте, в двух полных навоза
теплушках для скота. Свиней каждый день мыли в личной ванне-джакузи
фельдмаршала, занимавшей большую часть его вагона. За хрюшками постоянно
ухаживали два солдата, им вменялось в обязанность содержать в порядке
постели, которые животные норовили превратить в хлев, носить им пищу (свиньи
ели то же, что и мы) и вообще следить за их благополучием.
Пленных солдат бросали в озера кипящей грязи. Это случалось довольно
часто и делалось просто так, развлечения ради. Фельдмаршал заметил, что на
меня это действует угнетающе.
- Огр, - так он произносил мое имя, - Огр, тебе что, не по душе наши
невинные забавы?
И я притворно улыбался.
Дни удлинялись, на смену дремлющим вулканам пришли низкие холмы и
саванны. Фельдмаршал остался без кипящей грязи и придумал новое развлечение
- привязывать к шее пленника короткую веревку и гнать его перед поездом. В
таких случаях сам фельдмаршал управлял паровозом, хихикал, наращивая
скорость и догоняя свою жертву. Обычно сил у несчастного хватало примерно на
полмили. Потом его размазывало по шпалам, или он отпрыгивал в сторону, но
тогда поезд прибавлял ходу и тащил его вдоль рельсов.
У последнего грязевого озера фельдмаршал приказал обвязать человека
веревкой вокруг пояса и столкнуть с берега, а когда бедняга сварился,
солдаты вытащили его, покрытого слоем быстро подсыхающей глины. Они взяли
лопаты и забросали скорченное тело глиной. Она высохла, и на пепельном
берегу соленого зловонного внутреннего моря появилась уродливая статуя.
Мы пересекали высохшее море по дну, приближались к городу,
воздвигнутому на громадном круглом утесе, и тут появились бомбардировщики.
Поезд разгонялся, рвался к туннелю под разрушенным городом; несколько
зенитных пушек - наша противовоздушная оборона - открыли ураганный огонь.
Три средних бомбардировщика шли прямо на нас на бреющем полете - от
силы пятьсот футов над рельсами. Первым сбросил бомбы ведущий, еще в
четверти мили от поезда. Я за этим наблюдал из плексигласовой башенки на
крыше вагона фельдмаршала, куда явился откупорить бутылку айсвайна. Машинист
резко дал по тормозам, нас бросило вперед. Фельдмаршал промчался мимо меня,
пинком распахнул дверь аварийного выхода и спрыгнул. Я кинулся вслед,
ударился о пыльную насыпь, а состав погиб под бомбами, как гибнет игрушечный
поезд под солдатскими подметками. Насыпь подбрасывала меня, точно батут, с
неба сыпались камни и обломки вагонов. Я свернулся в клубок и заткнул
пальцами уши.
Мы в покинутом людьми городе: фельдмаршал, я и еще десять человек.
Больше никто не спасся. В отряде есть кое-какое оружие и одна свинья. В
разрушенном городе много просторных, гулких, увешанных флагами залов и
каменных башен. Мы разбили лагерь в библиотеке, потому что только в ней
удалось найти топливо. Город построен частью из камня, частью из тяжелого
темного дерева, которое еле тлеет в очаге, даже если разжигать с помощью
пороха. Мы берем воду из ржавой цистерны, стоящей на крыше библиотеки, ловим
и едим бледнокожих жителей, которые ночью шмыгают по развалинам, точно
призраки в поисках того, что им уже вовек не найти. Солдаты ворчат: мол, эти
робкие, но доверчивые существа будто специально созданы для нерадивого
охотника. После еды бойцы ковыряются в зубах штыками. Один подходит к
библиотечным стеллажам и сбрасывает несколько старинных томов. Возвращается
с ними к огню, мнет, корежит их, ворошит страницы, чтобы лучше горели.
Я рассказываю фельдмаршалу про варвара и заколдованную башню, про
говорящую зверушку и волшебника, про ведьму-королеву и увечных женщин. Ему
нравится.
Позже фельдмаршал с двумя солдатами и последней свиньей уходит в свою
комнату. Я мою тарелки и слушаю жалобы на скуку и однообразную диету.
Наверное, солдаты скоро взбунтуются: их командир имеет крайне смутное
представление, что делать дальше.
Меня зовут к фельдмаршалу. Похоже, раньше здесь был рабочий кабинет или
мастерская - несколько столов, одна кровать. Оба солдата уходят, ухмыляясь и
подмигивая мне. Запирают дверь. "Надень-ка", - улыбается фельдмаршал.
Это платье. Черное платье. Он встряхивает его передо мной, вытирает нос
моим платком. "Надень", - повторяет он.
Свинья лежит в его постели на животе, хрюкает и повизгивает; она
привязана веревками за копыта к четырем стойкам кровати. Слышен запах духов.
"Надень", - требует фельдмаршал. Я смотрю, как он прячет носовой платок.
Надеваю платье. Свинья хрюкает.
Фельдмаршал раздевается, бросает свой мундир в старый сундук. На столе
лежат книги и тяжелый пулемет, фельдмаршал берет его и сует мне в руки. Он
держит длинную пулеметную ленту, словно это массивное золотое ожерелье,
которое должно подойти к черному платью. "Ты глянь на патроны. - (Я гляжу на
патроны.) - Они боевые; видишь, Огр, как я тебе доверяю, - говорит
фельдмаршал, - делай, что я скажу". Его широкое лицо все в поту, изо рта
гадко пахнет.
Я должен засунуть ему ствол пулемета между ягодицами, когда он залезет
на свинью, вот чего он хочет. Он уже возбужден - от одной этой мысли. Он
намазывает руку ружейным маслом и карабкается на кровать, на визжащую
свинью, и хлопает ее меж задних ног намасленной ладонью. Я стою в изножье
кровати с пулеметом наперевес.
Мне не нравится этот человек, но мы оба не дураки. На плечиках медных
гильз заметны царапины - патроны побывали в челюстях тисков, порох извлечен.
А может, и капсюли выжжены.
Рядом с головой свиньи лежит подушка. Фельдмаршал вытягивается на
животном, оба хрюкают. Одна ладонь все время рядом с подушкой. Там тоже
ствол, думаю я.
- Давай, - командует он и хрюкает.
Я обеими руками берусь за ствол пулемета, одним движением вскидываю и
опускаю, как кувалду, на голову фельдмаршала. Мои кисти, предплечья и уши
раньше глаз сообщают мозгу, что фельдмаршал мертв. Я ни разу до сих пор не
слышал и не чувствовал, как раскалывается череп, но сигнал, проходящий через
металл пулемета и надушенный воздух, совершенно четок.
Тело фельдмаршала еще движется, но лишь потому, что дергается свинья. Я
заглядываю под подушку, перепачканную человеческой кровью и слюной
животного, и вижу длинный, очень острый нож. С его помощью взламываю сундук,
в который фельдмаршал запихал свою форму, там нахожу револьвер с
перламутровой рукоятью и патроны. Убеждаюсь, что дверь заперта, и
переодеваюсь в привычную форму официанта. Прихватываю и одну из шинелей
фельдмаршала, иду к окну.
Ржавая рама визжит, но не громче, чем свинья. Я уже стою обеими ногами
на подоконнике, как вдруг вспоминаю о носовом платке. Вынимаю его из кармана
на мундире убитого.
Город темен, а обитающие в нем робкие, неприкаянные души спешат
укрыться, когда я тихо бегу по развалинам.
Она вернулась. Так же поступила и миссис Крамон, заметно постаревшая и
как будто даже потерявшая в росте. Вопреки его ожиданиям миссис Крамон не
стала расставаться с домом. Андреа переехала к ней, а квартиру на
Камли-бэнк, которая все это время сдавалась студентам, продала. Мать с
дочерью ладили прекрасно, места в особняке хватало обеим. Большой цокольный
этаж они продали со скидкой как отдельную квартиру.
Для него после ее возвращения наступили счастливые дни. Он перестал
беспокоиться из-за лысины, и работа пошла на лад, он еще не оставил мысли о
партнерстве со своими двумя приятелями, и отец, живший на западном
побережье, был как будто вполне доволен судьбой, проводя досуг в клубе для
пенсионеров, где уже успел приглянуться нескольким вдовушкам (старик очень
плохо поддавался на уговоры провести выходные в Эдинбурге, а потом сидел
сиднем, глядел на часы и брюзжал - то ему не хватало игры в карты с дамами,
то бинго, то старых танцев; он куксился даже в ресторанах, где, подавали
лучшие яства лучших эдинбургских поваров, и громогласно тосковал по
привычным тефтелям с картошкой).
А Эдинбург, возможно, снова превращался в столицу, хоть и не в полном
значении этого слова. В воздухе витала идея дележа административных функций.
Он заметил, что полнеет: когда взбегал по лестницам, колыхались грудные
мышцы, и на талии появился жирок. Разумеется, пустяки, но все же пора было
что-то предпринять. Он решил играть в сквош. Впрочем, спорт этот ему не
нравился - он говорил партнерам, что предпочел бы иметь на поле собственную
территорию. К тому же Андреа всегда его обыгрывала. Он переключился на
бадминтон и два-три раза в неделю плавал в бассейне. Впрочем, от бега
трусцой он категорически отказался - должны же быть какие-то рамки.
Бывал он и на концертах. В Париже Андреа приобрела самые широкие вкусы
и теперь тащила его в Ашер-холл слушать Баха и Моцарта, в доме на
Морэй-плейс она ставила ему пластинки Жака Бреля, а в праздники дарила
альбомы Бесси Смит. Он же предпочитал Moteh и Pretenders, ему нравилось, как
Марта Дэвис поет "Total Control"<"Абсолютная власть" (англ.)>, а
Крисси Хайнд говорит "пшшелнахххуй". Считал, что классика не для него, пока
однажды не поймал себя на том, что насвистывает увертюру к "Женитьбе
Фигаро". Понемногу пристрастился к сложным пьесам для клавесина - самое то
за рулем, особенно если погромче. Впервые услышав "Warren Zevon", пожалел,
что слушает альбом с таким опозданием. А на вечеринках он, точно мальчишка,
прыгал и слэмовал под Rezillos.
- Чем, чем ты решил заняться? - спросила Андреа.
- Дельтапланом.
- Шею свернешь.
- А и хрен-то с ней. Зато как кайфово!
- Что "кайфово"? В койке на растяжке валяться?
Дельтаплан он не купил, решив, что это и вправду пока небезопасно. Но
зато записался в клуб парашютистов.
Андреа пару месяцев переделывала дом на Морэй-плейс, следила за
малярами и плотниками, да и сама много работала кистью. Приятно было,
нарядившись в перепачканное краской старье, помогать ей, работать иногда
допоздна, слушать, как она насвистывает в соседней комнате, или
разговаривать, если она была рядом. Однажды он здорово перепугался, нащупав
плотный комочек у нее на груди, но оказалось, ничего страшного. Порой у него
от чертежей и эскизов уставали глаза, но визит к офтальмологу он упорно
откладывал - боялся, что врач пропишет очки.
У Стюарта случилась интрижка со студенткой университета. Об этом
прознала Шона. Говорила, что собирается развестись, фактически выгнала его
из дому. Полный тревоги и раскаяния, Стюарт приехал к нему. Он сел в машину
и отправился в Данфермлин к Шоне - мирить; готовился пустить в ход все свое
красноречие, - мол, Стюарт глубоко переживает, места себе не находит, а сам
я вас обоих всегда любил и завидовал вашей спокойной и верной привязанности
друг к другу. Странноватое это было чувство, почти нереальное, подчас даже
комическое, когда он сидел у Шоны и уговаривал не бросать мужа из-за
мимолетного романа "на стороне". Да, ему это казалось смехотворным. В те
выходные Андреа была в Париже, как пить дать с Густавом, а сам он
намеревался вечером в Эдинбурге затащить в постель долговязую
блондинку-парашютистку. Неужели все дело в какой-то бумажонке? Неужели
только свидетельство о браке все определяет: совместное житье, детей? Или
главное - вера в клятвы, обычай, религию?
Супруги в конце концов помирились, и вряд ли тут сыграла роль его
миротворческая миссия. Шона вспоминала о размолвке лишь изредка, когда
напивалась, и мало-помалу из ее воспоминаний выветрилась горечь. Но ему это
послужило уроком: даже самые прочные на вид отношения между людьми способны
порваться вмиг, если идти против правил, которые сами установили.
"Ну а правда, какого черта?" - подумал он наконец и решился на
партнерство с двумя своими друзьями. Они нашли в Пильриге помещение для
офиса, а ему выпала задача нанять бухгалтера. Он вступил в партию
лейбористов; принимал участие в кампаниях по сбору подписей, организуемых
"Международной амнистией". "Сааб" он продал и купил годовалый "гольф Gti".
Полностью расплатился по ипотечному кредиту.
Он помыл "сааб", прежде чем отогнать его к дилеру, и обнаружил в салоне
белый шелковый шарф - тот самый, который пригодился тогда на башне. Жалко
было оставлять шарфик неизвестно кому, поэтому он, когда спустился,
прополоскал его в ручье. И потерял - думал, он выпал из машины.
А шарф - вот он, все это время пролежал, мятый и грязный, под
пассажирским сиденьем. Он его постирал - удалось избавиться от следов ног, а
кровь, засохшая неровным кругом, точно чей-то неумелый рисунок, исчезать
упорно не желала. Но все равно он решил отдать шарф Андреа. Она сначала
отказалась, - дескать, сохрани на память, но затем вроде передумала и взяла.
А через неделю вернула - без единого пятнышка, почти как новенький, и даже с
ее вышитыми инициалами. Это было эффектно. Как ей с матерью удалось
вычистить шарф, она не призналась. Фамильная тайна. Он бережно хранил
подарок, не надевал, если знал, что может возвращаться домой в крутом
подпитии, - боялся потерять вещицу в каком-нибудь кабаке.
- Фетишист, - упрекнула его Андреа.
Знаменитый референдум под лозунгом "Думай своей головой" был, в
сущности, фальсифицирован. Столько оформительского труда в Сент-Эндрюс-Хаус
- и все псу под хвост.
Андреа переводила с русского и печатала в журналах статьи о русской
литературе. Об этом он не ведал ни сном ни духом, пока ему в руки не попал
номер "Эдинбург-ревью" с длинным очерком о Софье Толстой и Надежде
Мандельштам. У него даже голова пошла кругом. В авторстве - никаких
сомнений, та самая Андреа Крамон: она пишет, как говорит, и он, вчитываясь в
печатные слова, будто улавливал ритм ее речи. "Почему мне ничего не
сказала?" - уязвленно спросил он. Андреа улыбнулась, пожала плечами,
ответила, что хвастать тут особо нечем. В парижских журналах у нее тоже
выходило несколько статей. Так, побочное занятие. Она теперь снова брала
уроки игры на пианино (когда-то занималась музыкой в средней школе, но
бросила), а еще училась рисовать.
Андреа тоже стала партнером в предприятии, если можно так назвать
книжный магазин с феминистским уклоном. Лавочку открыли ее давние подруги, а
она позднее внесла денежный пай. Присоединились и другие женщины, и число
учредителей достигло семи. Брат Андреа назвал это финансовым безумием.
Иногда она помогала в магазине товаркам. Он туда заходил, когда возникала
нужда в какой-нибудь книге из тамошнего ассортимента, но задерживался редко,
так как всякий раз чувствовал себя не в своей тарелке. После того как Андреа
его поцеловала на прощание, одна из подруг выступила на собрании с резкой
критикой. Андреа подняла ее на смех, но потом раскаивалась - очень уж не
по-сестрински получилось. За смех она попросила прощения - но не за поцелуй.
А впоследствии рассказала об этом ему, и с тех пор он, приходя в магазин, не
целовал ее и даже не прикасался к ней.
- О-о-о, су-уки, что ж вы творите-то?! - простонал он однажды чуть
позже полуночи, сидя на постели перед телевизором и следя за ходом
голосования.
Андреа укоризненно покачала головой и потянулась к прикроватной
тумбочке за бутылкой "Блэк лейбл".
- Малыш, не бери в голову. Хлопни-ка лучше виски и не думай о грустном.
Думай лучше о максимальной налоговой ставке для твоего предприятия.
- На хрен! Лучше чистая совесть, чем крепкий банковский баланс.
- Цыц! Твой бухгалтер, услышь такое, в каталожном шкафу перевернется.
Глава очередного избиркома сообщил об очередной победе тори. Поклонники
консерваторов ликовали. Он возмущенно мотал головой и горько вопрошал:
- Куда страна катится, а? Какому псу под хвост?
- Тогда уж какой суке, - поправила Андреа, круговым движением руки
всколыхнув виски в стакане. Она тоже смотрела на экран. На лбу пролегли
складки.
- Ладно.... По крайней мере, она хоть женщина, - проговорил он мрачно.
- Может, она и женщина, - отбрила Андреа, - но не сестра наша. Значит,
сука.
Шотландия проголосовала за лейбористов, на второе место вышла НПШ. Но в
эту бочку меда замешалась ложка ядреного дегтя - премьер-министр,
достопочтенная Маргарет Тэтчер.
Бизнес процветал, от некоторых контрактов приходилось даже
отказываться. Через год бухгалтер посоветовал ему купить дом побольше и
сменить машину. "Но мне же нравится квартирка-то, привык", - жаловался он
Андреа. "Так кто ж тебя вынуждает с ней расставаться, - спросила она. -
Пусть и квартира будет, и дом". - "Не могу же я одновременно жить и там, и
там! И вообще, я всегда считал, что два дома иметь безнравственно, когда
столько народу без крыши над головой". Андреа это в конце концов достало:
- Ну так пусти кого-нибудь в квартиру или в дом, когда его купишь.
Только сначала подумай, кому достанутся все твои лишние налоги, если не
сделаешь, что бухгалтер советует.
- А-а... - смущенно сказал он на это.
Квартиру он продал и купил дом в Лейте, рядом с Линксом. С верхнего
этажа открывался вид на Ферт-оф-Форт. В доме было пять спален и гараж на две
машины. Он купил новый "Gti" и "рейнджровер", чем убил двух зайцев:
осчастливил бухгалтера и заполнил гараж. Полноприводной автомобиль оказался
весьма кстати для поездок на строящиеся объекты. В том году они плодотворно
сотрудничали с некоторыми абердинскими фирмами, и он навещал родителей
Стюарта. В последний визит он даже переспал с сестрой Стюарта, разведенкой,
школьной учительницей. Ее брату он ничего не сказал, поскольку не знал, как
бы тот отреагировал. Зато сообщил Андреа. "Школьная училка? - ухмыльнулась
та. - Это ты что, в общеобразовательных целях?" Он сказал, что не хочет
ничего говорить Стюарту. "Малыш, - взяла его Андреа за подбородок и очень
серьезно посмотрела в глаза, - ты просто идиот".
Она ему помогла украсить дом - при этом от его первоначального плана
оформления остались рожки да ножки.
Однажды вечером он стоял на стремянке, красил вычурную потолочную
розетку и вдруг испытал головокружительный приступ дежа вю. Он даже кисть
опустил. Андреа работала в соседней комнате, что-то насвистывала. Он узнал
мотив: "The River"<"Река" (англ.)>. Он стоял на лестнице в пустой,
гулкой комнате и вспоминал, как в прошлом году работал в просторном зале на
Морэй-плейс, среди зачехленной белыми полотнищами мебели. На нем тогда была
такая же старая, вся в краске, одежда, и он слушал, как Андреа насвистывала
в соседней комнате, и ощущал невероятное, неизмеримое счастье. "До чего ж я
везучий сукин сын! - подумал он. - У меня так много хорошего, и вокруг меня
так много хорошего! Да, я имею не все, я хочу большего, наверное, даже
больше, чем способен удержать. Быть может, я хочу того, что способно сделать
меня только несчастным. Но и это неплохо, без этого какое же удовольствие".
"Если бы мою жизнь экранизировали, - размышлял он, - я б вот сейчас, в
этот самый миг, и закончил картину. Вот на этой блаженной улыбке в пустой
комнате. Человек на стремянке. Улучшение, украшение, обновление. Снято.
Конец фильма".
"Но это не кино, приятель", - сказал он себе и пережил прилив хмельной
радости, наивного, детского восторга при мысли, что он - тот, кто он есть, и
знаком с теми, с кем знаком. Он запустил кистью в угол, спрыгнул с лестницы
и побежал к Андреа. Она водила по стене малярным валиком.
- Господи боже! Я уж думала, ты со стремянки навернулся. А почему рот
до ушей?
- Да просто я спохватился, что мы еще эту комнату не обновляли. - Он
забрал у нее валик, бросил за спину.
- А ведь правда. Надо запомнить, как на тебя действует запах краски.
Разнообразия ради они занялись любовью стоя у стенки. Рубашка Андреа
пропиталась краской и прилипла, и она так смеялась, что по щекам побежали
слезы.
Он всерьез увлекся кино. В течение последнего фестиваля они чаще ходили
на фильмы, чем на пьесы или концерты, и он вдруг осознал, что до сих пор не
удосужился посмотреть сотни лент, о которых так давно слышал. Он записался в
Общество синефилов, приобрел видик и зачастил в магазины видеокассет. А
когда дела приводили его в Лондон, он в свободное время кочевал из кинозала
в кинозал. Ему нравилось почти все, а больше всего нравилось просто ходить в
кино.
К этому времени приобрела некоторую популярность шотландская группа
Tourists; потом их покинула вокалистка и сделалась половиной Eurythmics. Его
часто спрашивали, не в родстве ли он с ней. Он картинно закатывал глаза и
вздыхал: эх, если бы.
Появлялись и другие нежные голоса, и другие изящные попки. Андреа
временами бросало то к одному, то к другому мужчине, и он старался не
ревновать. "Это не ревность, - твердил он себе, - это больше похоже на
зависть. И на страх. Кто-нибудь из них окажется красивей, добрей, лучше меня
и будет сильнее ее любить".
Однажды она запропастилась почти на две недели, у нее был
головокружительный роман с молодым лектором из Хериот-Уатта. Любовь с
первого взгляда сменилась хлопаньем дверьми, битьем посуды, высаженными
оконными стеклами, и все за двенадцать дней. А он тем временем жутко по ней
скучал. Устроил себе недельный отпуск и отправился на северо-запад. К
"рейнджроверу" и "Gti" добавился "дукатти". У него была одноместная палатка,
альпинистский спальный мешок и отличное горное снаряжение. Он усвистал на
мотоцикле на западное нагорье и целыми днями бродил в одиночестве по холмам.
Когда вернулся, с лектором у нее было кончено. Он ей позвонил, но она
почему-то не выразила желания немедленно встретиться. Он встревожился, плохо
спал ночами. Через неделю они все-таки увиделись: ее левый глаз окружала
желтизна. Он бы и не заметил, но в пивнушке Андреа забылась и сняла темные
очки.
- А, фигня, - сказала она.
- Ты из-за этого не хотела со мной встречаться? - спросил он.
- Не надо ничего делать, - попросила она - Я тебя умоляю. Все кончено,
я бы с радостью его придушила, но если ты его хоть пальцем тронешь -
перестану с тобой разговаривать.
- Ну зачем же сразу махать кулаками, - холодно проговорил он, - не всем
это свойственно. Могла бы, между прочим, и довериться мне. Я всю эту неделю
места себе не находил.
Сказал и сразу пожалел об этом. Она сломалась. Обняла его и
расплакалась. И он представил, через что она, вероятно, прошла, и устыдился:
мелко и эгоистично добавлять к ее проблемам свои. Он гладил Андреа по
голове, пока она всхлипывала у него на груди.
- Девочка, пошли-ка домой, - сказал он.
Он еще несколько раз пользовался ее отлучками в Париж, чтобы самому
выбраться из Эдинбурга и развеяться на островах или в горах, а по пути туда
или обратно повидать отца. Однажды на закате он сделал стоянку на склоне
горы Бен-а-Шесгин-Мор. Поблизости стояла хибарка, но в хорошую погоду он
предпочитал ставить палатку. Он глядел на Лох-Фион и небольшую дамбу, по
которой завтра ему предстояло добраться до гор на той стороне озера. И тут
он вдруг подумал: сам никогда не бывал в Париже, но ведь и Густав за все эти
годы ни разу не посетил Эдинбург.
О-хо-хо... Может, так на него подействовал последний косяк, но в этот
миг, хотя они с Густавом были отделены друг от друга тысячами миль и многими
годами заочного соперничества, он ощутил некую душевную связь с таинственным
французом. Он рассмеялся навстречу холодному ветру нагорья, шевелившему
борта палатки, словно дыхание великана.
Одно из его ранних воспоминаний было связано с горами и островом. Мама
и папа, самая младшая из его сестер и он, трехлетний малыш, отправились на
Арран отдыхать. Пароход неторопливо шлепал колесами по течению блистающей
реки к далекой синеватой глыбе острова, папа показывал им Спящего Воина -
горный кряж на северном мысу напоминал громадного павшего солдата в шлеме.
Мальчик навсегда запомнил эту картину, не забыл и попурри сопровождающих
звуков: крики чаек, плеск лопастей, игру аккордеонов где-то на палубе, смех
пассажиров. Тогда же у него приключился и первый кошмар, маме даже пришлось
его разбудить. В гостинице их с сестренкой положили спать на одну койку.
Ночью он вскрикивал и хныкал. Ему приснилось, что громадный каменный воин
пробудился, грозно поднялся и медленно, но неотвратимо приближается, чтобы
раздавить его родителей.
Миссис и мисс Крамон пользовались своим особняком на всю катушку -
устраивали общественные приемы, всячески развлекали гостей; в определенных
кругах дом их пользовался широкой известностью. У них размещались на ночлег
поэты, которых университет пригласил на чтения, иногородний художник,
пытающийся втюхать свои работы картинной галерее, писатели, которых книжный
магазин вытребовал на презентацию нового романа, с раздачей автографов.
Иногда там собирались совершенно незнакомые ему люди. Обычно они выглядели
не такими преуспевающими, как приятели Андреа, и старались побольше съесть и
выпить. Перед каждым приемом миссис Крамон полдня готовила печенье, заварные
пирожные и бутерброды. Его беспокоило, что миссис Крамон даже во вдовстве
тратит время на стряпню для посторонних, но Андреа посоветовала не брать в
голову - мама любит смотреть, как другие пользуются плодами ее труда. Он
спорить не стал, но его здорово коробило, когда записные тусовщики
распихивали по карманам пирожные или бутылки редких вин.
- Эти люди - интеллектуалы, - сказал он однажды Андреа, - а ты открыла
для них салон. В синий чулок превращаешься, черт побери.
Она лишь улыбнулась на это.
Андреа купила у подруги целый выводок сиамских котят, четыре штуки.
Один подох. "Мальчиков" она назвала Франклином и Финеасом, а изящная кошечка
получила имя Фредди-толстушка. "Будь проклята ностальгия", - сказал на это
он. Кто-то подарил миссис Крамон английского кокер-спаниеля, и она дала ему
кличку Кромвель.
Он часто бывал на Морэй-плейс, и у него улучшалось настроение от одних
сборов в дорогу. Езда вызывала в душе чуть ли не детский трепет. Особняк был
для него почти родным домом, теплым, гостеприимным. Порой, особенно под
хмельком, он задумывался о связи между матерью и дочерью, и ему приходилось
бороться с абсурдным сентиментальным чувством.
Он обзавелся "ситроеном-СХ", затем продал все три машины и купил
"ауди-кваттро". Съездил в командировку в Йемен и даже постоял на развалинах
Мохи на берегу Красного моря. Он смотрел, как теплый африканский ветер
шевелит песчинки вокруг его ступней, и ощущал суровое, неколебимое
равнодушие пустыни, ее спокойную вечность, дух этих древних земель. Он водил
ладонью по источенным столетиями, изъязвленным ветрами камням и наблюдал
разрывы белых кулаков шелкового грома, обрушиваемых синим морем на раскрытую
золотистую ладонь берега.
Он работал в Йемене, когда израильтяне вторглись в Южный Ливан из-за
того, что в Лондоне кого-то застрелили, и когда аргентинцы высадились в
Порт-Стэнли. Он не знал, что его брат Сэмми был в составе экспедиционного
корпуса. По возвращении в Эдинбург он жарко спорил с друзьями. "Конечно,
аргентинцы имеют право на эти чертовы острова, - говорил он. - Но как могут
революционные партии поддерживать империалистические демарши фашистской
хунты? Почему всегда кто-то должен быть прав, а кто-то нет? Почему нельзя
сказать: "Чума на оба ваши дома"?"
Брат вернулся целым и невредимым. Но он все еще спорил из-за войны: с
Сэмми, с отцом, с радикально настроенными приятелями. К началу следующих
выборов он уже думал: а может, ребята все-таки были правы?
- А-а, блин, япона мать! - воскликнул в отчаянии он.
У лейбористов были все шансы, но опять социал-демократы оттянули на
себя часть их голосов и обеспечили новую "удивительную" победу
консерваторам. Ученые мужи предсказывали, что тори получат меньше голосов,
чем в прошлый раз, а в итоге число их мест в парламенте увеличилось на сотню
с лишним.
- Что ж вы делаете, суки!
- Это становится навязчивым. - Андреа потянулась за виски. На
телеэкране появилась сияющая торжеством Маргарет Тэтчер.
- Выруби! - завопил он, прячась под одеялом.
Андреа стукнула по кнопке на пульте, и экран потемнел.
- Господи боже ты мой, - простонал он из-под одеяла. - Только не говори
о высшей налоговой ставке.
- Малыш, да я хоть словечко проронила?
- Скажи, что это всего лишь плохой сон.
- Это всего лишь плохой сон.
- В самом деле? Правда?
- Ни фига не правда. Я просто говорю то, что ты хочешь услышать.
- Идиоты! - бушевал он перед Стюартом. - Еще четыре года под этими
полудурками! Господи боже, етить твою мать! Клоун-маразматик и шайка
реакционеров-ксенофобов!
- Причем дорвавшихся до власти на безальтернативной основе, -
подчеркнул Стюарт.
Рональд Рейган только что переизбрался на следующий срок. В Америке
половина электората просто не явилась на участки.
- Почему я не могу голосовать? - ярился он. - От нашего дома рукой
подать до Коул-порта, Фаслейна и Лох-Холи. Если этот мудила перепутает
ядерный чемоданчик со своей задницей и мазнет пальцем по кнопке, хана моему
старику. А может, и всем нам: тебе, мне, Андреа, Шоне, малышам, всем, кого я
люблю! Так какого же хера лысого не могу голосовать против этих долбаных
рейганов?
- Без волеизъявления нет истребления, - задумчиво изрек Стюарт. И
добавил: - А что касается реакционеров на безальтернативной основе...
Политбюро - что такое, по-твоему?
- Политбюро ведет себя куда ответственней, чем эта свора вшивых
ура-патриотов.
- Ну да, пожалуй. Так, твоя очередь - за пивом.
Особняк на Морэй-плейс, резиденция миссис и мисс Крамон, был у всех на
слуху, особенно во время фестивалей. В нем шагу нельзя было ступить, чтобы
не наткнуться на подающего надежды художника, или восходящую звезду
шотландской литературы, или хмурого угреватого юнца, таскающего из комнаты в
комнату синтезатор с колонками и узурпирующего "ревокс" на долгие дни кряду.
Он придумал название: салон "Последний шанс". Андреа превосходно устраивал
ее нынешний образ жизни. Она работала в магазине, переводила с русского,
писала статьи, играла на пианино, рисовала, устраивала приемы, шаталась по
гостям, наведывалась в Париж, ходила в кино, на концерты и спектакли вместе
с ним, а с матерью - на оперы и балеты.
Однажды он встречал ее в аэропорту после очередных "парижских каникул".
Она выходила из таможни с высоко поднятой головой, твердым шагом. На ней
была широкая ярко-красная шляпка, синяя блестящая курточка, красная юбка,
синие колготки и сверкающие лаком красные кожаные сапожки. У нее и глаза
сверкали, а кожа светилась. При виде его Андреа широко улыбнулась. Ей было
тридцать три, и она еще никогда не выглядела такой красивой, как сейчас. В
тот миг он испытал очень странную смесь чувств. Любовь - безусловно, но еще
восхищение пополам с завистью. Да, он завидовал ее удачливости, уверенности,
спокойствию перед лицом жизненных проблем и неурядиц. Ко всему на свете она
относилась будто к малышу-фантазеру, искренне верящему в свои выдумки, - не
снисходительно, а с той же лукаво-серьезной усмешкой, с той же ироничной
отрешенностью вкупе с теплой привязанностью, даже с любовью. Он припомнил
свои разговоры с адвокатом и понял, что Андреа унаследовала некоторые черты
его характера.
"Андреа Крамон, ты счастливая женщина, - подумал он, когда в вестибюле
аэропорта она взяла его под руку. - Ты счастлива не из-за меня и в одном
даже меньше, чем я, - мне повезло претендовать на твое время больше других,
- в остальном же..."
"Пусть бы это не кончалось никогда, - подумал он. - Не дадим идиотам
взорвать мир, не дадим случиться чему-нибудь еще более ужасному. Спокойно,
малыш; с кем это мы тут разговариваем?" Вскоре он продал мотоцикл. Жизнь шла
своим чередом: застрелили Леннона, Дилан ударился в религию. Что из этого
больше его удручило, он бы не взялся ответить.
В ту зиму отец упал и сломал бедро. В больнице он казался очень
маленьким и хрупким, здорово постаревшим. Весной ему потребовалось удалить
грыжу, а потом, вскоре после выписки из больницы, он снова упал, сломал ногу
и ключицу. "Не хрен пить не разбавляя", - сказал он сыну и отказался
переехать в Эдинбург: не может же он расстаться с друзьями. Мораг с мужем
тоже предлагали забрать отца к себе, и Джимми из Австралии прислал письмецо
- отчего бы старику не погостить там несколько месяцев. Но отец не желал
покидать родные места. На этот раз он долго пролежал в больнице, а вышел
худым как щепка и потом так и не сумел восстановить прежний вес. Каждое утро
к нему приезжала сиделка. Однажды обнаружила его у камина, он казался спящим
- на лице застыла улыбочка. У него и с сердцем были нелады. Врач сказал, что
он, наверное, ничего не почувствовал.
Как-то так получилось, что организацию похорон он взял на себя.
Впрочем, это оказалось не слишком хлопотным делом. Приехали все братья и
сестры, даже Сэмми получил увольнение, а Джимми прибыл аж из Дарвина. Он
спросил Андреа, не обидится ли она, если он попросит ее не приезжать; она
все поняла и сказала, что нет, не обидится. А когда все закончилось, хорошо
было вернуться в Эдинбург, к ней и к работе. Потом всякий раз при мысли о
старике на него нападало оцепенение, и, хотя глаза оставались сухими, он
знал, что любил отца, и не чувствовал за собой вины в том, что скорбит без
слез.
- Бедный мой сиротка, - утешала его Андреа.
Компания расширялась, увеличивался штат. Учредители купили большой
новый офис в Нью-Тауне. Он спорил с партнерами насчет заработной платы
персонала. Всем надо дать долю, говорил он. Пусть все будут партнерами.
- Что-что? - переспрашивали друзья. - Коллективная собственность? - И
снисходительно улыбались.
- Черт возьми, а почему бы и нет? - упорствовал он.
Оба партнера поддерживали социал-демократов, а у Альянса идея участия
рабочих в управлении производством была весьма в чести. На коллективную
собственность партнеры не согласились, но ввели систему премиальных.
Однажды Андреа возвратилась из Парижа как в воду опущенная, и у него
внутри болезненно екнуло. "О нет, - подумал он. - Что случилось? В чем
дело?"
Но что бы там ни случилось, она предпочла это хранить в тайне. Сказала,
что все в порядке, но была очень хмурой и задумчивой, смеялась редко, в
компании часто глядела рассеянно, просила извинить ее и повторить последнюю
фразу. Его это тревожило. Он даже собирался позвонить в Париж и спросить
Густава, что за чертовщина с ней творится и что там вообще стряслось.
Но не позвонил. Мучился, пытался ее развлечь, водил в рестораны и кино,
возил в гости к Стюарту и Шоне. Устроил ностальгический вечер с ужином в
"Лун-Фуне", рядом с его старой квартирой на Кэнонмиллз, но ничто не
помогало. Он терялся в догадках на пару с миссис Крамон, и они порознь
пытались добиться от Андреа правды. Удалось матери, но только через три
месяца и еще два полета в Париж. Андреа открыла ей тайну и снова отправилась
во Францию. Миссис Крамон позвонила ему.
- Эр-эс, - произнесла она. - У Густава рассеянный склероз.
- Почему же ты мне не сказала? - спросил он потом Андреа.
- Не знаю, - ответила она пустым голосом. - Не знаю. И что теперь
делать, не знаю. За ним некому смотреть, ухаживать...
Когда он услышал эти слова, в душе поселился холод. "Бедняга", -
подумал он искренне. Но однажды поймал себя на мысли: это же так долго!
почему он не может умереть пораньше? И возненавидел себя за это.
В восемьдесят четвертом, во время забастовки, он отказался пройти через
шахтерский пикет. Компания потеряла выгодный контракт.
Андреа летала в Париж чаще и чаще, задерживалась все дольше. Гости на
Морэй-плейс бывали все реже. Из Франции она возвращалась усталой, и, хотя не
утратила спокойного нрава и легкости в общении с людьми, она выглядела
подавленной, и ее очень редко удавалось развеселить. Андреа словно
остерегалась принимать любые радости за чистую монету. Когда они занимались
любовью, ему казалось, будто Андреа стала как-то особенно нежна, будто бы
острее стала осознавать драгоценность, неповторимость этих мгновений. Теперь
им в постели было не так весело, как раньше, но зато секс приобрел новое,
более насыщенное звучание, превратился в своего рода язык общения.
Во время ее отлучек он одиноко сидел в большом доме, читал, или смотрел
телевизор, или работал за кульманом. Если выпивал спиртное в разрешенных
законом пределах, то забирался за руль "кваттро" и ехал к Норт-Куинсферри и
там сидел перед громадным темным мостом, слушал, как бьется вода о камни и
грохочут наверху поезда, курил травку или просто дышал свежим воздухом.
Подчас возникала жалость к себе, но ее испытывала лишь одна часть разума -
робкая, застенчивая. Другая же часть смахивала на ястреба или орла -
голодная, жестокая, фанатично зоркая. Жалость к себе долго не задерживалась:
стоило ей высунуть нос, хищная птица была тут как тут, рвала ее и терзала.
Птица - это реальный мир, наемник, подосланный его мятущейся совестью;
это гневный голос всех людей на свете, подавляющего большинства, которому
живется хуже, чем ему; это всего лишь здравый смысл.
К своему глубокому, почти праведному разочарованию он узнал, что
покраска моста заняла не три года непрерывного труда. Работа велась с
перерывами и продлилась, согласно разным источникам, от четырех до шести
лет. "Вот еще один миф развеялся", - подумал он невесело.
В Париже Андреа теперь проводила почти столько же времени, сколько и в
Шотландии. Там у нее была другая жизнь, другой круг друзей. Кое с кем из них
он познакомился, когда они побывали в Эдинбурге. Редактор журнала,
сотрудница ЮНЕСКО, преподаватель из Сорбонны, - в общем, неплохой народ. Все
они дружили и с Густавом. "Давно надо было поехать в Париж, - думал он, -
встретиться, подружиться. А теперь поздно. Почему я такой дурак? Могу не
хуже любого другого инженера спроектировать сооружение, которое тридцать
лет, а то и больше будет выдерживать удары стофутовых волн. В моих силах
сделать его крепким и надежным, насколько позволят его вес и бюджет стройки.
Но я не вижу дальше собственного носа, когда дело касается чего-то важного в
моей личной жизни. Проектировать собственное существование - выше моих сил.
Как там называлась эта старая вещь у Family? A, „Weaver's
Answer"<"Ответ ткача" (англ.)>. Ну да; а мой-то ответ где?"
Он купил "тойоту MR2" и "кваттро" последней модели, записался на
авиакурсы, собрал музыкальную систему из аудиокомпонентов шотландского
производства, приобрел камеру "минолта-7000", как только она появилась в
продаже, добавил к "хай-фаю" CD-вертушку и собрался обзавестись моторной
лодкой. Он ходил на яхте кое с кем из старых друзей Андреа от марины у
Порт-Эдгара вдоль южного берега Форта, между двумя исполинскими мостами.
Ни "кваттро", ни "MR2" его не удовлетворили. Престижные автофирмы
регулярно выпускали новые машины, все лучше и лучше. "Феррари", "астон",
"ламбо" или какая-нибудь эксклюзивная модель "порше" - просто глаза
разбегаются. Хватит гоняться за модой, хочется чего-нибудь доброго и
вечного, решил он и взял через местного дилера хорошо сохранившийся "Mk II
ягуар 3.8", а "тойоту" и "ауди" продал.
Он сменил чехлы в салоне на красные кожаные - от "Коннелли". Опытнейший
автомеханик разобрал движок, скопировал схему, заменил распредвал, поршни,
клапаны, карбюратор и встроил электронное зажигание. Подвеску полностью
переделали, установили тормоза помощнее, новые колеса с асимметричными
покрышками и вдобавок - новую коробку передач. Еще он заказал четыре ремня
безопасности, ламинированное ветровое стекло, фары поярче, электрические
подъемники боковых стекол, люк, тонированные стекла и противоугонные
устройства, которым он бы доверил даже танк "чифтен" (и о которых постоянно
забывал). Три дня машина провела в другой фирме, где ее оснастили новыми
музыкальными агрегатами, в том числе CD-плейером. "Моща такая, что кровь из
ушей потечет, - говорил он знакомым. - Я ведь еще даже не все динамики
нашел. Усилитель - на полбагажника. Даже не знаю, что раньше не выдержит
вибрацию - мои барабанные перепонки или краска на корпусе". (Он покрыл
машину антикоррозийной грунтовкой и краской - двенадцать слоев, ручная
работа.)
- Святые угодники! - пришел в ужас Стюарт, услышав, во что обошлась
установка противоугонных систем. - Ты же за эти деньги мог новую машину
взять!
- Ага, - согласился он. - Можно было за цену годовой страховки купить
новую машину, а заодно и комплект покрышек. Больше денег, чем смысла.
На деле техника оставляла желать лучшего. В машине что-то все время
неприятно дребезжало, то и дело сбоил сидюк, камеру пришлось заменить, а
большинство купленных дисков оказались с царапинами. Посудомоечная машина то
и дело заливала кухню. Он стал раздражителен в общении с людьми,
транспортные пробки приводили его в бешенство. Им овладела глубокая
неудовлетворенность, а душа обрела черствость, избавиться от которой не
получалось. Он давал деньги "Live Aid", но, услышав о выходе пластинки "Band
Aid", вспомнил старую революционную поговорку: заниматься
благотворительностью при капитализме - все равно что заклеивать
лейкопластырем раковую опухоль.
Даже фестиваль 1985 года не развеял его хандры. В то время Андреа была
в Эдинбурге, но, даже когда она находилась вместе с ним, в соседнем кресле
концертного зала, или кинотеатра, или на пассажирском сиденье автомобиля,
или под боком в постели, мысли ее были где-то далеко, и говорить о причинах
своей отчужденности она по-прежнему не желала. До него доходили слухи, что
это из-за осложнения болезни Густава. Он пробовал вызвать ее на
откровенность, но она отмалчивалась. Его огорчало, что между ними могут быть
какие-то недомолвки. Впрочем, он и сам был в этом виноват - раньше не желал
говорить с ней о Густаве, а теперь менять правила игры было поздно.
Ему снился умирающий в другом городе человек, а порой и наяву казалось,
будто он видит его лежащим на больничной койке, в окружении медицинской
аппаратуры.
С середины фестиваля Андреа сбежала в Париж. В одиночку выдержать этот
"бархатный" эквивалент налета тысячи бомбардировщиков было ему не по силам,
поэтому он одолжил у друга "бонневиль" и отправился на Скай.
Шел дождь.
Компания уверенно набирала размах, но он уже терял интерес к работе.
Часто задавался вопросом: чем же я на самом деле занимаюсь?
Я всего лишь один из долбаных кирпичей в стене, рядовой винтик в
машине, пусть даже смазан чуть получше большинства прочих винтиков. Я делаю
деньги для нефтяных компаний, для их акционеров, для правительств, а те их
тратят на оружие, способное убить нас не пятьсот раз, а тысячу. И
функционирую-то я не как обыкновенный работяга вроде моего отца. Я гребаный
босс, работодатель. У меня в руках реальные бразды правления, я обладаю
предпринимательской инициативой (по крайней мере обладал), и при моем
участии вся гребаная машина вертится чуть резвее, чем если бы не было меня.
Он снова завязал с виски и одно время пил только минералку. Да и
травкой почти не баловался, с тех пор как обнаружил, что больше не получает
от нее кайфа. Разве что в гостях у Стюарта иногда выкуривал косячок-другой.
И тогда это было как в добрые старые времена.
Зато кокаин он теперь употреблял регулярно. Точнее, каждый понедельник
поутру или перед любым тусовочным вечером. Но как-то, готовясь к выходу и
уже проложив щедрой рукой на зеркале две дорожки, он включил телевизор, и в
теленовостях показали голод где-то в Африке, и ему запал в душу ребенок с
мертвым взором и кожей, как у летучей мыши. Он глянул в зеркало на столе,
перед которым сидел на корточках, и увидел в стекле, чуть припорошенном
белыми блестками, собственное лицо. За минувшую неделю он "запихнул себе в
нос" триста фунтов. Отшвырнув бритвенное лезвие, он сказал: "Блядь!"
Просто этот год выдался неважным, решил он. Очередной неудачный год. Он
перешел на обычные сигареты. Смирился в конце концов с необходимостью носить
очки. Лысина на макушке достигла диаметра водосливного отверстия в ванне. И
в его душе как-то уживались юношеская неуемность и старческое стремление
выполнить самое важное, пока еще есть шанс. Ему было тридцать шесть, но он
себе казался то вдвое моложе, то вдвое старше.
В ноябре Андреа сообщила, что, видимо, задержится в Париже. Густаву
требовался постоянный уход. И если будет настаивать его семья, то придется
оформить брак. Она надеется, что он поймет и простит.
- Мне очень жаль, малыш, - сказала она пустым голосом.
- Ага, - сказал он. - И мне.
Нет у меня, блин, никакого морального права жаловаться на судьбу, она
давно меня балует, но будь я проклят, если сейчас готов так вот все бросить.
Рубака - он до конца своих дней рубака, но мало кто из этого племени, скажу
я вам, дожил до моего возраста. Я - исключение, и это факт. Может, я бы тоже
не дожил, кабы не сидел у меня на плече зверек-талисман, но хрен он от меня
такое услышит. У него и так всегда задран нос, а тут совсем от важности
малыш раздуется, как бы не лопнул. Тем более что он так и не сумел найти
решения нашей проблемы - проблемы старения. Не такой-то он и умный, этот
ублюдочек.
Как бы то ни было, вот он я, сижу на койке, смотрю на экраны
телемониторов и думаю всякие грязные думы, пытаюсь себе стояк нашептать.
Вспоминаю Ангарьен и то, как мы с ней развлекались. Чего только не
вытворяли! Вы и не поверите небось но в молодости норовишь испробовать все
на свете. Да и молодость, говорят, дается только раз (мой приятель-зверек с
этим не согласен, но пускай докажет). Конечно, триста лет, да еще с
прицепом, - результат нехеровый, но все-таки я пока не готов дать дуба. Куда
ж я, с другой стороны, на хрен денусь. Зверек испробовал кое-какие средства
(и ему куда деваться-то, мы же с ним одной веревочкой связаны), но все пока
без толку, похоже, у него попросту иссякла фантазия; и ведь лопухнется
сейчас, как пить дать лопухнется, - как раз когда его помощь была бы ну
крайне в тему. Говорит, есть еще похер в похеровницах, не знаю уж, к чему
это он. То ли совсем капитально на все забил, то ли взрывать кого собрался.
Бедняга день-деньской сидит на столе у моей кровати. Он весь седенький и
сморщенный, на плечо ко мне не залазит с тех пор, как мы раздобыли летучий
замок. Зверек его называет "кораблем", но он вообще любит всякую чушь нести.
Например, спальню прозвал "корабельным мостиком". Короче, было так. Мы
вернулись к волшебнику, который помог мне проникнуть в преисподнюю, и они,
волшебник и мой талисман, здорово подрались - аж дым пошел. А я за этим
делом следил из угла, но даже пальцем шевельнуть не мог - чертова зверушка
навела на меня какие-то чары. Победил в конце концов талисман, и только я
думал, что наконец от него избавлюсь, но тут возьми да выяснись, что ему не
под силу выполнить задуманное, то бишь завладеть телом волшебника. Похоже,
это было просто невозможно, против правил что ли. Выбраться из преисподней
ему удалось (с моей помощью), но захватить живое тело - дудки. Незавидная
это судьба - томиться в тушке зверушки, как в тюрьмушке, до скончания века.
По сему поводу мой приятель вышел из себя и принялся громить колдовские
палаты. Все разнес в щепки; я уж думал, что и мне не поздоровится. Но вскоре
он успокоился и вернулся на мое плечо и избавил меня от чар. Объяснил, что
мы и правда крепко повязаны, к добру это или к худу, и, значит, нам остается
только одно: извлечь из этого максимум выгоды.
Может, оно и к добру, да как тут узнаешь? Хотя вряд ли я без него
прожил бы так долго. К тому же иногда он подбрасывал очень неглупые идеи.
Например, в самом начале предложил навестить молодую ведьмочку, с которой я
провернул одно дельце, прежде чем вызволил малыша из Гадеса. А звали ту
девицу Ангарьен. Талисман прикинул, что мы с ведьмочкой способны прийти к
какому-то соглашению, он так и сказал. Ангарьен сперва в этом очень
сомневалась, думала, что зверек вознамерился ее околпачить и завладеть ее
телом, или что-то в этом роде, но потом у них был ужасно сложный для моих
мозгов разговор, и они чего-то наколдовали и погрузились в какой-то "транс",
- между прочим, это ужасно скучное занятие. А когда пришли в себя,
заулыбались и по рукам ударили. Талисман мне заявил, что у нас теперь не то
тролльственный, не то тройственный союз. Ну я и не возражал, только
предупредил, чтобы ничего неприличного. Мне-то что, лишь бы все было
по-честному и без подлянок. И не прогадал, похоже. Думается мне, только
благодаря этому сговору я и сподобился стать рубакой преклонных годов.
- Что ты делаешь? Пытаешься мертвеца воскресить?
- Заглохни. Не твое дело.
- Как это - не мое? А вдруг у тебя сердце не выдержит?
- Ну а чего бы не накалдавать для меня какую-нибудь гурию-чмурию?
- Еще чего! Ты тогда в один момент ласты завернешь. Прекрати, говорю! В
твои года этим заниматься не подобает. Хоть мозги у тебя и отсталые, но зато
возраст очень продвинутый.
- Мой хрен и жизнь моя, что хочу, то и делаю.
- Это и моя жизнь, а твоя жизнь не игрушка, если от нее зависит моя.
Имей чувство меры, приятель.
- Да ладно, не очень-то вообще и хотелось, так, решил проверить,
встанет - не встанет... Может, хоть порнушку какую покажешь?..
- Нет. Следи за экранами.
- Чего ради?
- Следи, говорю. Почем ты знаешь, что может случиться? Еще не все
потеряно.
- Надо было Источник молодости дальше искать, вдруг и нашли бы.
- Ну да, чтобы ты нассал в него.
- У, бля, - говорю, а потом лежу, скрестив руки на груди, и жалко себя
- мочи нет.
Летающий замок стоит на склоне холма. Мы сюда приземлились с месяц
назад, после того как побывали на планете, где обаригены якобы способны
продлевать жизнь до бесконечности. Может, это и не хвастовство, да только со
мной и талисманом у них ничего не вышло (сказали, нет опыта в атношении
таких, как мы, рубаки и зверушки). Я уж хотел было наведаться в какой-нибудь
из наших, земных, волшебных городов за новомодными магическими припаратами.
Они позволяют месяц-другой жить полнокровной жизнью молодого мужика, а потом
ты быстро и безболезненно отбрасываешь копыта, зато уж оторвался так
оторвался, да. Но талисман распорядился по-другому. Посадил летучий замок на
этот холодный, продуваемый ветрами склон, и отпустил всю стражу и слуг, и
даже вышвырнул парочку моих правнуков, и раздал половину магических снастей
из нашего запаса: хрустальные шары для провидения будущего, заколдованные
пулеметы, волшебные фугасы и все такое прочее. Похоже, он хотел создать у
окружающих впечатление, что мы вполне готовы отойти в мир иной. Но все же
приберег наиболее ценное: сам летающий замок и еще кое-какие штучки,
пиджак-самолет там, сверхуниверсальный переводчик и несколько тонн невидимой
платины в трюме. Он даже нашел новые батарейки для кинжала - зверек называет
его "летательным ножом". Старые батарейки сели этак столетие назад, и с тех
пор я ножом пользовался редко, потому как туповат он. Сам не знаю, почему не
выбросил. Может, из сентиментальных соображений. Когда-то зверек от него нос
воротил, клялся, что это всего лишь дешевая копия. Но все-таки добыл свежие
батарейки и сделал нож сторожем, велел охранять дверь летучего замка. Хрен
его знает зачем. Талисман на старости лет стал чудаковат.
А я все жену вспоминаю. Она добрые полвека назад дала дуба, а я будто
наяву вижу ее костлявую рожу. Когда мы поженились, она оказалась не такой
молодой, как выглядела. Я так и не узнал, сколько ей было лет. Талисман
думает, как минимум тысяча. Обычно ведьмы стареют рано, а вот Ангарьен до
самого конца сохраняла облик цветущей девушки. Сгорала, оставаясь молодой.
Вряд ли стоит ее за это винить, но перед смертью видок у нее был еще тот.
Она превратилась в статую, в резную фигуру из темного дерева. Жесткая,
сморщенная - старуха старухой. Нам она завещала поставить ее в лесу,
неподалеку от которого родилась. Мы так и сделали, и вскоре покойница
пустила корешки. Зверек предсказал, что дерево вырастет высоким и красивым,
а потом будет съеживаться и в конце концов обернется трухлявой колодой. А
что после этого произойдет, никому не известно. Когда разговор у нас заходит
о смерти, талисман выглядит грустным - понимает ведь, что вместе со мной
умрет и он. Потому что без меня жить он не сможет. Распадется в прах, вот и
все. Ему даже преисподняя не светит. Кстати говоря, а меня-то, интересно,
пустят в ад после того, что я там натворил? Когда мы со зверьком вспоминаем
былые деньки и как я его спасал, он до сих пор хихикает. По слухам, там весь
режим охраны сменили после того, как бедолага Харон окаменел. Парочка
сомнительных личностей, Вергилий и Данте, назвались временными правителями и
верховодят в аду по сей день. Короче говоря, один бес знает, как меня
встретят, когда я постучусь в пирламудровые врата, или что там у них нынче
служит пропускной. Пустить-то, может, и пустят, но наверняка подготовили
какой-нибудь мерзкий сюрприз. Короче, ничего нет удивительного в том, что я
не спешу расстаться с этим светом.
- Ага!
- Чего - ага-то?
- А я думал, ты следишь за экранами.
- Да слежу, слежу, только... Э, погодь! Блин, это еще что за хрен с
горы?
- Будь уверен, он не из тех, кто нам желает добра.
- У, бля!
По склону холма спускается мускулистый парняга со светлыми волосами и
охрененно здоровенным мечищем. У него широченные плечи и металлические
полоски по всему телу, высокие сапоги и что-то вроде набедренной повязки. А
еще шлем с волчьей скалящейся головой на верхушке. Я сажусь на кровати, мне
страшно. У меня уже давно все члены жесткие, кроме того, которому и неплохо
иногда быть жестким. Это из-за ревматизма. А еще руки трясутся и очки нужны.
Короче говоря, мне мало что светит, если дойдет до схватки с этим
вооруженным амбалом.
- И что же с нашей долбаной зоной недоступности? Вроде кто-то обещал,
что любой, кто сюда сунется, должен задрыхнуть?
- Гм... - произносит зверек. - Может, у него шлем с секретом? Может, в
нем спрятано какое-то нейрозащитное устройство? Поглядим-ка, нельзя ли этого
парня остановить лазером.
А жлобина знай себе марширует вниз по склону и на замок таращится.
Бровищи белесые друг на дружку налазят, мускулы перекатываются, огроменный
меч над головой крутится. И вдруг амбал, похоже, удивился, а через секунду
клинок закрутился еще быстрей и превратился в туманное пятно, в кокон вокруг
человека. Затем полыхнуло, и погас экран.
- У, бля! И что теперь?
Я пробую слезть с кровати, но старые мышцы будто в кисель превратились.
Вдобавок я потею, как свинья. Тут снова зажигается экран, показывает входную
дверь изнутри замка.
- Гм... - повторяет мой приятель с глубоким удивлением в голосе. -
Неплохо. Держу пари, тут не обошлось без ограниченного ясновидения. Наш
приятель знал, что по нему вот-вот пальнет лазер. Может, он всего на
несколько секунд заглянул в будущее, но этого оказалось достаточно.
Трудненько будет его остановить. С лазером - тоже ловкий трюк, наверное,
клинок создает что-то вроде зеркального поля. Возможно, это и случайность,
что отраженный луч попал в камеру. А если нет? Похоже, серьезный у нас
соперник...
- А я пальцем шевельнуть не могу! Сделай чего-нибудь. На хрена нам с
тобой сейчас серьезные соперники?! Когти надо рвать! Подымай летучий замок!
- Боюсь, мы опоздали, - говорит зверушка по своему обыкновению
спокойно. - Давай-ка посмотрим, остановит ли его летательный нож.
- Чудеса долбаные! И что, больше нам нечего противопоставить этому
ублюдку?
- Боюсь, что нечего. Разве что парочку не очень умных и не очень
прочных люков шлюзовой камеры.
- И все? Дурак сучий, какого хрена распустил охрану, какого хрена...
- Пожалуй, старина, я дал маху, - говорит талисман и зевает. И
запрыгивает мне на плечо. И мы оба смотрим на входной люк. Сквозь металл
проникает острие меча и вырезает круг, который с лязгом падает на пол. И в
отверстие пролезает этот светловолосый мордоворот. - Поля, - тихо произносит
зверушка и кивает возле моего уха. - Люк армирован моноволокном; чтобы
разрезать его с такой легкостью, необходимо очень тонкое силовое лезвие.
Неплохим оружием разжился этот парень... хотя это еще как посмотреть, кто
кем разжился.
- Где же этот долбаный кинжал? - кричу я вне себя от страха. Я готов
нагадить в койку, а амбал топает по коридору замка и выглядит очень
настороженным, но и очень решительным и машет мечом с самыми серьезными,
судя по всему, намерениями. Потом глядит в сторону, и его взгляд мечет
молнии.
К нему движется кинжальчик, но слишком медленно, как будто раздумывая.
Блондин все так же свирепо таращится на него. Кинжал останавливается в
воздухе, а потом и вовсе падает на пол и катится в угол.
- У, бля! - восклицаю.
- Я же говорил: это дешевая копия. Система опознавания на нем стоит,
но, наверное, меч нашего приятеля, а может, шлем послал фальшивый сигнал
"свой". Настоящие вещи обладают волей, они достаточно смышлены, чтобы
поступать по-своему, и поэтому они совершено бесполезны для таких, как мы с
тобой.
- Хорош чушь нести, ты же не барыга-оружейник! Сделай ченибуть! - кричу
на зверька, но он лишь пожимает серыми плечиками и глубоко вздыхает.
- Боюсь, старина, слишком поздно.
- Ты баишся? - ору я ему в мордочку. - Так это ж не тебя в Хадесе ждут
нидаждутся! Представляешь хоть, каких пакостей там могли для меня
напридумывать за триста лет?
- Да успокойся ты, дружище. Разве нельзя, глядя смерти в лицо,
сохранять достоинство?
- В жопу достоинство! Я жить хочу!
- Гм... Это хорошо, - говорит зверушка, а светловолосый битюг исчезает
с экрана. Где-то за дверью спальни раздается оглушительное лязганье, пол
ходит ходуном.
- У, бля! - Я намочил простыню и матрас. Просто взял и описался. -
Маматчка! Папатчка!
Дверь распахивается. Передо мной стоит, заполнив весь проем,
здоровенный светловолосый ублюдок. Он еще больше, чем казался на экране. А
мечище долбаный - длиной с мой рост, не меньше. Я свернулся в калачик на
кровати, я весь трясусь. Воин входит, пригнув голову, иначе бы шлем с
волчьей башкой задел притолоку.
- Т-ты че, в натуре? - спрашиваю. - К-каки праблемы?
- Никаких праблем сынуля, - отвечает жлоб и приближается к кровати. Не
человек - гора долбаная. И поднимает надо мной меч.
- Да погодь ты... Можиш забирадь всешто...
Хабах.
Такого удара я еще никогда в жизни не получал. Как будто меня сам
Господь Бог отоварил или через тело пропустили разряд в миллиард вольт.
Звезды, свет, головокружение. Я видел, как падал на меня клинок, сверкая в
свете ламп, видел гримасу на морде воина-громилы и слышал звук у самого уха.
Противный такой звук, вроде смешка. Готов поклясться, это и был смешок.
Старой пидрила в койки был мертв, я иму чирипушку раскраил как гнелой
какосавый apex. Штючка с иво плитча ищезла пуф и нету тока димок асталса. А
у миня бошка кружылас и я видил звьездачки и все такое. Гатов па клястца
мужык на кравати уже не такой был как када я вашел в ету комнату у ниво в
роди воласы тада были нетакие серабелые правда же?
- Ну что ж... ламца-дрица-оп-ца-ца, сработал чертов перенос. Ну и как
ты, дубина стоеросовая, теперь себя чувствуешь?
Ета мой шлем загаварил. Тута я сел на койку и снял шлем штоб пасматреть
на волчу бошку.
Да какта ни так, атвичяю.
- Как сам не свой, - киваит мине волча бошка и скалица. - Ничего
удивительного. Ты тоже перешел. Мой могучий интеллект выдержал перемещение
благополучно, остался цел и невредим. А уж коли это получилось с такой
грандиозной библиотекой знаний, то твоя жалкая пародия на сознание и подавно
должна была уцелеть. Ну а сейчас к делу: бортовые системы наконец
среагировали на вторжение, они не согласны считать тебя законным владельцем,
а мне понадобится какое-то время, чтобы перенастроить телепатические контуры
в этом дурацком колпаке. В общем, давай отчаливать, пока корабль не
всполошился. Иначе будет много чего неприятного, в том числе термоядерный
взрыв, и вряд ли я или даже твой чудесный меч спасет нас в самом эпицентре.
Стартуем.
Лады преятиль гаварю и пад нимаюс наноги и на диваю шлем. Такое
ащющение будта мозги из бошки выбралис будта я тока што спал а сичяс
праснулса. И будта штота в мине есть ат старикажки каторый в койки валяица.
Нуда хрен с ним патом разбиремса. Раз волча бошка гаварит нада из замка
выбираца значит тактому и быть. Я паднял метч и пабижал к выхаду. Здеся тожа
ни нашлос сакровишча так вить всех багатстсв на свети ни дабудиш. Да к
таму-же ишо не вечир. Мала ли на белам свети замков и валшебников и старых
варворов и всиво такова протчева...
Во блин житуха, а? Не жизня а молина...
- Знаешь, этот диск у меня три года пролежал, пока я не врубился, что
имя Фэй Файф - это прикол, - сказал он Стюарту, покачивая головой. - "Вы
откуда?" - "Айм фэй Файф".
- Ага, - отозвался Стюарт. - Знаю.
- Господи, я иногда такой дурак, - тихо проговорил он и печально
взглянул на банку "экспортного".
- Ага, - кивнул Стюарт. - Знаю. - И встал, чтобы перевернуть пластинку.
Он посмотрел в окно, на город и далекие голые деревья в лесистой
долине. Наручные часы показывали 2.16.
Уже темнело. Кажется, скоро солнцестояние. Он глотнул еще.
Он выпил пять или шесть банок, так что, похоже, надо было или
оставаться у Стюарта, или возвращаться в Эдинбург поездом. "Пусть будет
поезд, - подумал он. - Сколько лет уже не ездил на поезде. А ведь и правда,
чем плохо: сесть на вокзале в Данфермлине, въехать на старый мост, с него
бросить монетку и пожелать, чтобы Густав наложил на себя руки, или чтобы
Андреа забеременела и захотела вырастить ребенка в Шотландии, или..."
"Прекрати, урод", - сказал он себе. Стюарт вновь сел. Они говорили о
политике. Сошлись на том, что весь их левацкий базар - чистая поза, иначе
быть бы им сейчас в Никарагуа, сражаться за сандинистов. Говорили о прошлом,
о старой музыке, о былых друзьях. О ней - ни слова. Потом речь зашла о
"звездных войнах", СОИ. Только что под этой программой подписалась Британия.
Обоим тема была довольно близка, оба знали в университете кое-кого из
разработчиков оптических компьютерных сетей, которыми интересовался
Пентагон.
Говорили о том, что в университете, по Кестлеровскому завещанию,
открыли новую кафедру - парапсихологии, и о передаче, которую оба смотрели
по телевизору с месяц назад, насчет сновидений при не полностью выключенном
сознании. Еще вспомнили гипотезу морфологического резонанса (он сказал: "Да,
это интересно"; но он не забыл и те времена, когда интересными считались
теории фон Деникена).
Обсудили случай, упоминавшийся на этой неделе и по телевизору, и в
газетах. Француз, инженер из русских эмигрантов, разбился в Англии на
машине. Среди обломков нашли кучу денег, есть подозрение, что во Франции он
занимался какими-то махинациями. Сейчас пострадавший в коме, но врачи
считают, что он симулирует.
- Мы, инженеры, народ хитрожопый, - сказал он Стюарту.
Вообще-то говорили почти обо всем, кроме того, о чем ему на самом деле
хотелось поговорить. Стюарт несколько раз затрагивал тему, но он каждый раз
уклонялся. Сны бодрствующего разума всплыли потому, что именно об этом они
последний раз спорили с Андреа. Стюарт не стал выпытывать про Андреа и
Густава. Возможно, ему просто надо было поговорить. Хоть о чем.
- Кстати, как дети? - спросил он.
Стюарту пора было есть, и тот спросил, не желает ли и он перекусить. Но
он голода не испытывал. Пыхнули еще по косяку, он опростал еще баночку.
Поговорили. Смеркалось. Подуставший Стюарт сказал, что не мешало бы
придавить ухо; он поставит будильник и заварит чай, уже когда встанет. А
поев, можно будет выбраться куда-нибудь, по кружечке пропустить.
Он послушал через наушники старый Jefferson Airplane, но пластинка была
вся в царапинах. Порылся среди книг друга, прихлебывая пиво из банки, и
докурил последний косяк. Наконец он встал и подошел к окну, глянул сквозь
щели жалюзи на парк, на разрушенный дворец, на аббатство.
С наполовину затянутого тучами неба медленно исчезал свет. Зажглись
уличные фонари, дорога была полна припаркованных или идущих на малой
скорости машин - Рождество на носу, народ озаботился подарками. "Интересно,
- подумал он, - как тут все выглядело, когда во дворце еще жили короли?"
Королевство Файф... Сейчас это всего лишь область, а тогда... Рим тоже
когда-то был маленьким, зато потом разросся будьте-нате. Интересно, как бы
сейчас выглядел мир, если бы в свое время какая-нибудь часть Шотландии - еще
до возникновения Шотландии как таковой - расцвела подобно Риму? Нет, для
этого не было причин, исторических предпосылок. Когда Афины, Рим и
Александрия располагали библиотеками, мы - только крепостцами на холмах.
Наши предки не были дикарями, но и цивилизованными их не назовешь. Потом-то
мы могли бы сыграть свою роль, но время оказалось упущено. Вот так у нас
всегда: или слишком рано, или слишком поздно. И лучшее, что мы делаем, мы
делаем для других.
"Наверное, это сентиментальный шотландизм, - предположил он. - А как
насчет классового сознания вместо национализма? Ну-ну".
Как она так может? Не говоря уже о том, что здесь ее родина, что здесь
живет ее мать, ее самые старые друзья, что здесь у нее отпечаталось столько
первых воспоминаний и складывался ее характер, - но как она может бросить
все, что к настоящему моменту приобрела? Он-то - ладно, сам готов вычеркнуть
себя из уравнения. Но у нее так много и уже сделанного, и того, что
предстоит сделать. Как она может?
Самопожертвование. Куда мужчина, туда и женщина. Она ухаживает за
Густавом, а сама отошла на второй план. Но ведь это же противоречит всему,
во что она верит.
А он? Почему до сих пор не поговорил с ней как надо? Сердце забилось
быстрей, он задумчиво опустил банку. Ведь он на самом деле не представлял
себе, что надо сказать, знал лишь, что хочет с ней говорить, хочет обнимать
ее, просто быть с ней и рассказывать обо всем, что к ней чувствует. Надо
рассказать ей обо всем, что он когда-либо думал и чувствовал. И о ней, и о
Густаве, и о самом себе. Он будет с ней абсолютно честен, и она бы по
крайней мере узнала наконец, что он собой представляет, и уже не питала бы
на его счет иллюзий. Но к черту. Это все ерунда.
Он допил пиво, бросил в дырочку окурок и аккуратно сложил красную
банку. Из треснувшего алюминиевого уголка пролилось на ладонь. Он вытер
руку. Я должен с ней увидеться. Я должен с ней поговорить. Интересно, чем
она сейчас занята? Наверное, дома. Ну да, они обе дома. У них гости. Меня
тоже приглашали, но я хотел навестить Стюарта. Он пошел к телефону.
Занято. Может, опять в Париж звонит? Тогда это на час. Даже бывая
здесь, она проводит половину времени с Густавом. Он положил трубку и стал
ходить по комнате. Сердце колотилось, ладони потели. Надо бы отлить. Он
пошел в санузел, потом тщательно вымыл руки, прополоскал рот. Все в порядке,
он даже не пьян и не обдолбан. Снова взял трубку. Тот же сигнал. Постоял у
окна. Если прижаться лбом к стеклу и глядеть прямо вниз, виден "ягуар" -
белый обтекаемый призрак на темной улице. Еще раз посмотрел на часы.
Самочувствие отличное, сознание ясное. Можно ехать.
"А почему бы и нет", - подумал он. Ягуар-альбинос в серых сумерках;
добраться до шоссе и рвануть по автомосту, повесив на рожу наглую ухмылку и
врубив музыку на всю катушку. И горе ушам бедного засранца, которому
придется брать с меня дорожный сбор... Блиин, как это в духе "Страха и
ненависти", очень по хантер-эс-томпсоновски. Заметь, приятель, от этой
чертовой книги ты потом всегда ездишь чуть быстрее. Сам же виноват,
несколько минут назад слушал "White Rabbit" - вот музыкой и навеяло. Нет,
про вождение забудь. Ты перебрал.
Япона мать, да какое там перебрал? Конец года, все ездят под хмельком.
Бля, я же пьяным лучше вожу, чем большинство - трезвыми. Не бери в голову,
малыш, все у нас получится. Дорога-то знакома как свои пять... Просто надо в
городе поосторожней, вдруг на проезжую часть ребенок выскочит, а с реакцией
что-нибудь не того. На автостраде же все пройдет как по маслу, там главное -
не затевать гонки с сопливыми местными шумахерами на "капри" и не кидать
подлянок бээмвешникам, у них и так глаза остекленевшие. Главное - не
трусить, не рассеивать внимание, не думать о "Красных акулах" и "Белых
китах", не испытывать подвеску на бетонных стенках, не тренировать
контролируемый юз на магистральной развязке. Короче, расслабься и слушай
музон. К примеру, тетушку Джоанн. Что-нибудь поспокойнее. Не снотворное, но
и не слишком будоражащее. А то, бывает, врубишь что-нибудь этакое - и тапка
сама в пол...
Он решил сделать последнюю попытку. Телефон не отвечал. Он пошел
глянуть на Стюарта - тот спал как младенец и перевернулся на бок, когда
отворилась дверь и в спальню проник свет из гостиной. Он написал для Стюарта
записку и оставил ее у будильника. Потом взял свою старую байкерскую кожанку
и шарф с монограммой и вышел из квартиры.
Выбраться из города удалось не скоро. Прошел дождь, улицы были влажны.
Ведя "ягуар" в транспортном потоке, он слушал Big Country, альбом
"Steeltown"<"Стальной город" (англ.)> - на родине Карнеги это казалось
вполне уместным. Самочувствие было просто класс. Он сознавал, что не стоило
садиться за руль, и со страхом думал о полицейских с
алкогольно-респираторной трубкой. Впрочем, часть его мозга оставалась
трезвой, и она следила за ним, оценивала вождение. И он доедет, все будет
тип-топ, лишь бы внимание не подвело да и везение. "Больше не повторится, -
сказал он себе, выведя наконец „ягуар" на свободный отрезок дороги к
автостраде. - Второго раза не будет. И первого бы не было - если б не такая
крайняя нужда.
И я буду очень осторожен".
Здесь движение было двухполосным, и он от души прибавил газку.
Ухмыльнулся, когда позвоночник вдавило в спинку сиденья. "О, как мне в кайф
мотора рык", - напел он тихонько. Вынул из "накамичи" кассету Big Country,
нахмурился, заметив, что превысил разрешенную скорость. Убрал ногу с педали
газа, заставил машину опустить нос.
Поставим-ка что-нибудь помягче, не слишком хрипло-крикливое и
адреналиновое. Все-таки приближаемся к громадному серому мосту. Как насчет
"Bridge Over Troubled Water"?<"Мост над бурными водами" (англ.)> Он
состроил печальную мину - увы, не держим-с, причем давно. Зато есть Lone
Judgement и есть Los Lobos ("How Will the Wolf Survive?"<"Как выжить
волку?" (англ.)>), на одной кассете. Он ее нашел, поднес к глазам, уже
приближаясь к автостраде. Да, сейчас бы лучше подошли техасцы, но они как
раз на другой стороне, а мотать всю пленку недосуг. Ладно, пусть будут
Pogues. "Rum, Sodomy and the Lash"<"Ром, содомия и плетка" (англ.)>.
Веселые ритмы, заебись мелодии, в аккурат для вождения. Не без хриплого ора,
ну да ничего страшного. И заснуть не дадут. Главное - не гнаться все время
за музыкой. Ну, давайте, ребята...
Он выехал на М90, на южную трассу. В темно-синем небе висели пестрые
облака. А ничего вечерок, даже не холодно. Дорога еще не просохла. Он
подпевал Pogues и старался не слишком газовать. Захотелось пить. В кармашке
на дверце он обычно возил банку кока-колы или "айрн-брю", но забыл пополнить
запас. В последнее время он слишком многое забывал. Несколько встречных
машин помигали ему, и он переключил фары на дальний свет.
Автострада забиралась на холм между Инверкитингом и Розитом, и он
увидел сигнальные огни моста (предупреждение самолетам) - внезапные белые
вспышки на двух высоких башнях. Ну и зря, ему больше нравились прежние огни,
красные. Он съехал на крайнюю левую полосу, чтобы пропустить "сьерру", и,
когда уменьшились ее габаритные огни, подумал: "Чувак, в другой раз я бы
тебе этого не спустил". Он откинулся на спинку сиденья, пальцы барабанили
под музыку по узкому спортивному рулю. Трасса шла узкой долиной,
прорубленной в скале, которая образовывала небольшой мысок; виднелись огни
Норт-Куинсферри. Можно бы свернуть туда, снова постоять под железнодорожным
мостом, но какой смысл удлинять поездку сверх необходимого. Не к чему
искушать судьбу или провоцировать ее на иронию.
"А ради чего я это делаю? - подумал он. - Будет ли какой-то прок? Ведь
ненавижу тех, кто водит машину в пьяном виде, так какого же черта сам?.."
Появилась мысль, что надо бы ехать назад, на худой конец, свернуть к
Норт-Куинсферри. Там есть станция. Машину загнать на стоянку, сесть на поезд
(в ту или другую сторону)... Но он уже миновал последний съезд с трассы. И
хрен с ним! Можно остановиться на той стороне, у Дэлмени, припарковаться
там. Все лучше, чем рисковать дорогой краской в эдинбургском
предрождественском столпотворении. А утром вернуться за тачкой. Не забыть бы
еще включить все охранные системы.
Дорога выбралась из рукотворного ущелья. Он увидел Саут-Куинсферри,
марину у Порт-Эдгара, знак "VAT 69" (перегонный завод), огни фабрики
"Хьюлетт Паккард". И железнодорожный мост, темный на фоне облаков в
последних лучах заката. А дальше - больше огней: хаунд-пойнтский
нефтеналивной терминал, на строительстве которого они выступали
субподрядчиками, и совсем вдали - огни Лейта. Гулкие металлические кости
старого железнодорожного моста казались цвета подсохшей крови.
"Ах ты, красавец писаный, - подумал он. - До чего ж ты шикарный, до
чего ж здоровенный. Издали такой хрупкий, а вблизи - массивный, незыблемый.
Элегантность и грация, совершенство форм. Мост что надо: гранитные быки,
лучшая корабельная сталь, бесконечный процесс покраски..."
Он снова перевел взгляд на дорогу, которая на подъезде к мосту ощутимо
забирала вверх. Полотно влажноватое, но ничего страшного. Никаких проблем.
Не так уж быстро он и едет, держится левой полосы, вдоль бока, обращенного к
железнодорожному мосту ниже по течению. На дальнем конце острова, под
средней секцией железнодорожного моста, мигал огонек.
"Наступит день, когда и тебя не будет, - подумал он. - Ничто не вечно.
Может, именно это я и хочу ей сказать? Нет, я, конечно, не в претензии, ты
ведь должна уйти. Нельзя его за это винить, ведь ради меня ты бы поступила
точно так же, и я - ради тебя. Просто жалко, вот и все. Уходи. Ничего, все
как-нибудь выживем. Может, и нет худа без добра..."
Он спохватился, что шедший перед ним грузовик внезапно перестроился в
правый ряд. Метнул взгляд левее - и обнаружил перед собой легковушку. Та
стояла, брошенная хозяином на первой полосе, у ограждения. Он со свистом
втянул воздух, ударил по педали тормоза, попытался свернуть... Но было
поздно.
Был миг, когда его нога вжимала тормозную педаль до упора и когда руки
вывернули руль настолько, насколько это возможно одним рывком, и при этом он
понимал, что больше ничего сделать невозможно. Он так и не узнал, сколько
длился этот миг. В мозгу отпечаталось только, что машина впереди - "MG", что
в ней никого нет (трепет облегчения на гребне цунами ужаса), что
столкновения не избежать и что мало не покажется. Успел заметить номер: VS -
и какие-то цифры. Наверно, с западного побережья. Восьмиугольный значок "MG"
на багажнике сломавшегося автомобиля наплывал на голую, без серебристой
фигурки, морду "ягуара", который прильнул к полотну, завизжал тормозами и
пошел юзом, и все это - одновременно. Он попытался обмякнуть, предельно
расслабиться, и будь что будет, но, пока нога вжимала в пол педаль тормоза,
это было невозможно. "Вот идио..." - подумал он.
Белый, ручной доводки, "ягуар", регистрационный номер 233 FS, врезался
в зад "MG" и перекувыркнулся. Водителя бросило вперед и вверх. Ремень
безопасности выдержал, но баранка, точно кувалда круглого сечения, ударила
навстречу, по грудной клетке.
Невысокие покатые холмы под темным небом. Кажется, подбрюшья
красноватых низких облаков зеркально отражают плавные линии ландшафта.
Воздух тяжел и густ, и сильно пахнет кровью.
Под ногами чавкает, но не вода тому причиной. Здесь, на этих холмах,
которым, кажется, несть числа, разыгралась великая битва и земля пропитана
кровью. Куда ни глянь, лежат тела - и всевозможных зверей, и людей всех
существующих рас и цветов кожи. И иных тварей, неизвестных мне. В конце
концов я обнаруживаю среди трупов живого низкорослого человечка.
На нем лохмотья. Мы с ним уже встречались. Как же называлось то
место?.. Мокка? Оккам? Что-то вроде этого... Тогда он избивал чугунным цепом
волны. А теперь удары достаются телам. Мертвым телам. По сотне ударов
каждому, - конечно, если осталось, куда бить. Некоторое время я наблюдаю за
горбуном.
Он работает спокойно и методично. Над очередным покойником взмахивает
цепом ровно сто раз и переходит к следующему. Похоже, не отдает предпочтения
какому-нибудь виду, или полу, или размеру, или цвету. Одинаково энергично
бьет всех: если возможно, по спине, а если невозможно, то куда придется.
Только если труп целиком в доспехах, карлик возится с ним: неуклюже
нагибается, чтобы поднять забрало или расстегнуть лямки на груди.
- Здравствуйте, - вдруг говорит он мне. А я из осторожности держусь
поодаль - что если ему приказано отлупить всех, кто находится на этом поле,
не отделяя живых от мертвых?
- Вы меня помните? - спрашиваю. Он знай себе орудует кровавым цепом.
- Не могу сказать с уверенностью, - отвечает.
Я ему рассказываю о городе у моря. Он мотает головой:
- Нет, это не я был. - Секунду-другую он роется то ли в складках, то ли
в карманах своих лохмотьев, затем достает маленький бумажный прямоугольник.
Протирает его истрепанной полой и протягивает в мою сторону руку. Я
осторожно делаю шаг навстречу. - Возьмите. Мне было сказано передать это
вам. Вот... Это игральная карта, тройка бубен.
- Что это значит? - спрашиваю. Он лишь плечами пожимает и обтирает
рукоятку цепа о дырявый рукав.
- Не знаю.
- Кто вам ее дал? И откуда они знали...
- К чему все эти вопросы? - говорит он и сам же мотает головой. Мне
стыдно.
- Наверное, ни к чему. - Я забираю игральную карту. - Спасибо.
- Пожалуйста.
Я успел забыть, насколько мягок его голос. Поворачиваюсь, чтобы уйти,
но тут же оглядываюсь.
- Еще только одно. - Кивком указываю на тела, лежащие кругом, точно
палые листья. - Что тут произошло? Что случилось со всеми ними?
Карлик пожимает плечами.
- Они не прислушивались к своим снам, - ответствует он и вновь берется
за работу.
А я иду своей дорогой - к далекой полоске света. Она точно длинный
слиток белого золота на горизонте.
Я покинул город на дне высохшего моря и удалялся от него по шпалам. Шел
тем же курсом, что и поезд фельдмаршала перед роковым налетом авиации. Никто
меня не преследовал, но из города доносились звуки стрельбы.
Постепенно менялся, выравнивался рельеф местности. Я нашел пригодную
для питья воду, а чуть позже и деревья с фруктами на ветвях. В этом краю
климат был уже не столь суровым.
Кое-где я замечал людей, кто-то, подобно мне, шел в одиночку, другие -
группами. Я держался особняком, они избегали встречи со мной. С тех пор как
я понял, что могу идти без опаски, и нашел воду и фрукты, сны у меня бывали
каждую ночь.
И во всех - один и тот же безымянный человек, один и тот же город. Сны
приходили и уходили, повторялись и повторялись. Я видел столько всего, но
каждый раз - нечетко. Дважды казалось, что еще чуть-чуть, и я узнаю имя
этого человека. Бывало, я начинал верить, что сон - это на самом деле явь, а
утром, пробуждаясь под деревом или в тени валунов, серьезно рассчитывал
очнуться в иной реальности, в иной жизни; для начала хотя бы на чистой,
удобной постели в больничной палате... Но не тут-то было. Вокруг
простиралась та же холмистая, с мягким климатом, равнина, перешедшая наконец
в поле боя, где я только что повстречал коротышку с цепом. И - свет в конце
горизонта.
Я шагаю к этому свету. Он похож на подбрюшье сырого облака, на узкий,
прикрытый веком золотой глаз. С макушки холма оглядываюсь на уродливого
коротышку. Он никуда не делся - молотит какого-то павшего воина. Может, надо
было лечь, чтобы карлик и меня отдубасил? Может, смерть - единственный
способ очнуться от этого страшного колдовского сна?
Но такие вещи требуют веры, а в веру я не верю. То есть я верю в ее
существование, но не верю в ее действенность. Не знаю, по каким правилам
здесь ведется игра, и не могу ставить на карту разом все, что у меня
осталось. Слишком большой риск.
Я прихожу туда, где заканчиваются облака и темные холмы ограничены
низким обрывом. Дальше лежат пески.
"Как тут неестественно", - думаю я, глядя на край хмурого облака.
Слишком отчетливо все, слишком единообразно. Слишком аккуратно проведена
граница между тенистыми холмами, где полегли армии удивительных существ, и
золотистой песчаной пустыней. И жаркое дыхание песков отгоняет густой,
стоялый смрад побоища. У меня есть бутылка воды и немного фруктов. Тужурка
официанта тонка, шинель фельдмаршала стара и грязна. А еще при мне носовой
платок, точно сувенир.
С последнего холма спрыгиваю на раскаленный песок, скольжу по
золотистому склону, вспахивая его ступнями. Воздух сух и горяч, в нем нет и
следа ставшего уже привычным кровавого смрада. Зато ощутим аромат другой
смерти; ее пророчит каждая пядь этой пустыни, где не сыскать ни воды, ни
пищи, ни тени.
Поднимаюсь на ноги и иду дальше.
Был момент, когда я решил, что смерть близка. Я долго шел и полз,
напрасно мечтая найти тень. В конце концов скатился по склону бархана и
понял, что без воды, без хоть какой-нибудь влаги мне уже не подняться.
Добела раскаленное солнце казалось дырой в небе - настолько синем, что оно
утратило всякий цвет. Я ждал, когда там сгустятся облака, но так и не
дождался. Зато появились темные большекрылые птицы. Они кружили надо мной,
оседлав невидимые воздушные потоки. Они ждали.
А я следил за ними сквозь полусклеившиеся веки. Птицы парили над
песками по широченной спирали, словно в небе был подвешен громадный
невидимый винт, к которому прилипли клочки черного шелка, и этот винт
медленно вкручивался в пустоту.
И тут на вершине бархана появляется другой человек. Он мускулистый и
рослый, и на нем какие-то легкие варварские доспехи. Руки и ноги с
золотистой кожей обнажены. У него огромный меч и узорчатый шлем, который он
несет в локтевом сгибе, перед грудью. При всей своей массивности человек
кажется прозрачным, бесплотным. Просвечивает насквозь. Может быть, это
призрак? Под солнцем поблескивает меч, но тускло. Человек стоит и
пошатывается. Меня он не видит. Козырьком приставляет дрожащую ладонь ко
лбу, а потом вроде говорит что-то своему шлему. Едва держась на ногах, он
бредет в мою сторону по склону, мускулистые обутые ноги вязнут в горячем
песке. Меня он, кажется, по-прежнему не замечает. Его волосы выбелены
солнцем, с лица, рук и ног слезает кожа. Меч волочится за ним по песку.
Возле моих ног незнакомец останавливается, вглядывается вдаль, шатается.
Зачем он здесь? Чтобы прикончить меня своим огромным мечом? Что ж, по
крайней мере, это будет быстрая смерть.
А он стоит и шатается, и взгляд устремлен куда-то далеко. Я готов
поклясться: он находится слишком близко ко мне, слишком близко от моих ног.
Такое чувство, что его ноги частью в моих. Я лежу и жду. А он стоит,
напрягает все силы, чтобы не упасть, и вдруг резко взмахивает рукой -
восстанавливает равновесие. Шлем летит на песок. Навершное украшение, волчья
голова, вскрикивает.
Глаза воина закатываются, белеют. Скорчившись, он валится на меня. Я
зажмуриваюсь - сейчас буду раздавлен.
Ничего не чувствую. И не слышу звука падения. Открываю глаза: ни воина,
ни его шлема. Ни следа. Я снова гляжу в небо, на птиц смерти, кружащих по
невидимой винтовой нарезке, по двойной спирали.
Остатки моих сил ушли на то, чтобы расстегнуть шинель и тужурку и
подставить обнаженную грудь небесному винту. Какое-то время я лежал
распростершись, и вот рядом опустились на песок две птицы. Я не шевельнулся.
Одна птица тюкнула меня в ладонь кривым клювом и тотчас отскочила. Я
ждал, замерев.
Когда они нацелились выклевать мне глаза, я схватил их за шеи. Кровь у
них оказалась густая и соленая, но для меня это был вкус самой жизни.
Я вижу мост. Поначалу уверен, что это галлюцинация. Потом допускаю
мысль о мираже. В воздухе отражается что-то похожее на мост и в моих
воспаленных, измученных глазах принимает его форму. Иду к нему сквозь жар по
цепкому, вязкому, жгучему песку. Носовой платок я приспособил вместо косынки
- худо-бедно защищает макушку от теплового удара. Вдали мерцает мост -
длинная неровная линия выпуклых дуг.
Весь день я медленно приближаюсь к нему; лишь однажды, когда солнце
было в зените, я позволил себе короткую передышку. Иногда забираюсь на
вершины барханов, убеждаюсь, что мост не исчез. Остается пройти какую-то
пару миль, когда неверящие глаза открывают страшную правду: мост лежит в
руинах.
Главные секции почти невредимы, но связующие прогоны, эти мостики меж
больших мостов, то ли обрушены, то ли рухнули сами, и вместе с ними пропали
части крупных прогонов. Мост уже меньше напоминает последовательность
горизонтально лежащих шестиугольников, а больше - цепочку изолированных
восьмиугольников. "Ноги" остались целы, "кости" по-прежнему вздымаются, но
его связки, его сухожилия ушли в песок.
Я не вижу движения, и хоть бы разок где-нибудь блеснуло. Ветер гоняет
песок по гребням дюн, но ни единого звука не доносится от охряного скелета
моста. Он стоит, иссушенный, костлявый, изломанный, над равниной, и золотые
волны медленно плещутся в его гранитные быки и нижние края секций.
Спасибо хоть на том, что я теперь могу войти в тень. Жгучий ветер
стенает меж высящихся башнями ферм. Я нахожу лестницу и лезу вверх. Очень
жарко, и я вновь схожу с ума от жажды.
Я узнал это место. Теперь мне известно, где я.
Кругом ни души. Скелетов не видать, но и выживших я не нахожу. На
железнодорожном уровне осталось несколько старых паровозов и вагонов, они
намертво приржавели к рельсам, сделались наконец неотъемлемой частью моста.
Даже сюда намело песка, рельсы и стрелки оттенены золотисто-желтым.
А вот и мое любимое местечко - "Дисси Питтон". У него жалкий вид:
веревки, на которых была подвешена к потолку мебель, почти все порваны,
кушетки, кресла и столы валяются повсюду, словно мумифицированные трупы. Но
кое-какие предметы мебели висят на одном-двух тросах - увечные среди павших.
Я иду в зал с видом (бывшим) на море.
Когда-то я тут сидел вместе с Бруком. Вот на этом самом месте. Мы
глядели на океан, и Брук ворчал из-за аэростатов воздушного заграждения, а
потом мимо пролетели самолеты. Солнце сейчас высоко, и пустыня под ним очень
яркая.
Вот и клиника доктора Джойса. А может, и нет. Не узнаю мебель. Впрочем,
он же то и дело переезжал. Жалюзи, колеблемые ветром у разбитых окон, вроде
те же.
Не скоро я добираюсь до заброшенных летних апартаментов семьи Эррол.
Они наполовину утонули в песке. Дверь отворена, видны только верхушки все
еще прикрытой чехлами мебели. Камин скрылся под песчаными волнами. Та же
участь постигла и широкую кровать.
Я медленно возвращаюсь на железнодорожный уровень и там стою, гляжу на
мерцающие вокруг моста пески. Под ногами валяется пустая бутылка. Я беру ее
за горлышко и бросаю с яруса. Она летит по дуге, кувыркается, блестит под
солнцем.
Потом налетает ветер, визжит в железных балках и обжигает меня, бичует.
Заползаю в какой-то угол и смотрю, как вихрь, точно бесконечный шершавый
язык, слизывает с моста шелушащуюся краску.
- Сдаюсь, - говорю.
Кажется, будто мой череп заполнен песком. Не череп, а нижняя половинка
песочных часов.
- Сдаюсь, - повторяю. - Я не знаю, место или вещь. Скажи ты.
Кажется, это мой голос. Ветер крепчает. Я уже не слышу собственной
речи, но знаю, что я пытаюсь сказать. Я вдруг обрел уверенность в том, что
смерть обладает звуком. Это слово, которое может произнести каждый и которое
может стать причиной его смерти и самой смертью. Я пытаюсь угадать это
слово, но тут вдали что-то вдруг проворачивается со скрежетом, и руки
поднимают меня, уносят вверх.
Уясним наконец одно, раз и навсегда: все это сон. В любом смысле этого
слова. И нам обоим это известно.
Впрочем, у меня есть выбор.
Я в продолговатом гулком помещении. Лежу на кровати. Вокруг аппаратура,
я под капельницей. Время от времени заходят люди взглянуть на меня. Иногда
кажется, что потолок покрыт белой штукатуркой, иногда - что он из серого
металла, иногда я вижу только красные кирпичи, а бывает, я смотрю на
склепанные друг с другом, покрашенные в цвет крови листы стали. Наконец
приходит догадка, где я нахожусь: на мосту, в одной из его полых
металлических костей.
Жидкость поступает в меня через нос и выводится через катетер. Такое
чувство, будто я скорее растение, чем животное, млекопитающее, примат,
человек. Я - деталь машины. Все процессы в моем организме замедленны. Надо
как-то выбираться: подкачать бензин в карбюратор, включить зажигание; нажать
на газ?
Кое-кого тут я вроде бы знаю.
Доктор Джойс тоже здесь. Носит белый халат, делает пометки в блокноте.
Уверен, что совсем недавно я видел и Эбберлайн Эррол, но лишь мельком... И
на ней была форма медсестры.
Комната длинная и гулкая. Временами я улавливаю запах чугуна и
ржавчины, краски и лекарств. У меня забрали выданную мне карту и шарф... То
есть носовой платок.
"Ну что, идем на поправку?" - улыбается мне доктор Джойс. Я смотрю на
него и пытаюсь заговорить: кто я? где я? и что со мной происходит?
Врач втолковывает мне, как очень тупому ребенку, что меня готовы лечить
по новой методике. Хотите, мы попробуем? Хотите? Это может дать хороший
результат. Если согласны, распишитесь вот тут.
Распишемся-подпишемся. Хотите кровью - да ради бога. Нате вам мою душу,
если, конечно, таковая имеется в природе. Чего еще изволите? Как насчет
транша в несколько миллиардов нейронов? Мозги в отличном состоянии, док.
Владелец был очень бережлив (кгхм!). Не брал свои серые клеточки даже в
церковь по воскресеньям...
Ублюдки! Это же машина!
Приходится рассказывать все, что я могу припомнить, машине,
напоминающей стальной чемодан на хрупком сервировочном столике.
Дело это долгое.
Снова мы с машиной наедине. Некоторое время в комнате находились
какой-то тип с землистым лицом, и медсестра, и даже старый добрый доктор, но
сейчас никого не осталось. Только я и машина. Она завязывает разговор.
- Ну так вот... - говорит.
Послушайте, но ведь никто не застрахован от ошибки. Разве из этого
следует, что теперь меня надо... Тьфу, на фиг, забыли. Ладно, я был не прав:
виноват так виноват. Грешны, каемся. Прикажете кровью искупать?
- Ну так вот, - говорит, - под конец твои сны не врали. Последние, уже
после моста. Это и вправду ты.
- Я тебе не верю.
- Поверишь.
- С какой стати?
- С такой, что я - машина, а машинам ты доверяешь. Понимаешь их, и они
тебя не пугают, даже восхищают. С людьми у тебя совсем не так.
Поразмыслив над услышанным, решаю задать другой вопрос: где я.
- Твое подлинное "я", - отвечает машина, - твое настоящее тело сейчас
находится в Глазго, в неврологическом отделении больницы "Саут дженерал".
Тебя перевели из Эдинбурга, из "Ройал инфермэри"... некоторое время назад. -
Кажется, у машины неуверенный голос.
- Точно не знаешь? - спрашиваю я.
- Это ты не знаешь, - отвечает она. - Тебя перевезли, вот и все, что
известно нам обоим. Месяца три назад. А может, и пять или даже шесть. В
твоих снах это две трети от всего срока. Тебя держали на лекарствах,
пробовали разную новую терапию, и твое чувство времени сошло с нарезки.
- А ты... а мы с тобой в курсе, какое нынче число? Долго меня лечат?
- Ну, это как раз вопрос не очень сложный. Семь месяцев. Когда здесь в
последний раз была Андреа Крамон, она упоминала о своем дне рождения.
Дескать, он через неделю и, если ты к этому времени очнешься, будет просто
здорово...
- Ну хорошо, - говорю аппарату. - Выходит, сейчас начало июля. День
рождения у нее десятого.
- Выходит, что так.
- Гм... Как я догадываюсь, моего имени ты не знаешь?
- Правильно догадываешься.
Некоторое время я молчу.
- Ну так чего? - интересуется машина. - Как насчет проснуться?
- Ну, не знаю... А какие варианты?
- Оставайся под водой или всплывай, - говорит машина. - Все очень
просто.
- Всплыть? А как? По пути сюда я пробовал, пока не добрался до пустыни.
Я хотел проснуться в...
- Знаю. Боюсь, тут я тебе не помощница. Понятия не имею, как это
делается. Знаю только, что сможешь, если захочешь.
- Черт, ведь я даже не знаю, хочу ли.
- А я знаю не больше твоего, - логично замечает машина.
Понятия не имею, чем меня накачали, но все вокруг плывет. Машина, когда
она здесь, кажется реальной, чего не скажешь о людях. Как будто в глазах у
меня туман, как будто в них потемнела жидкость, как будто они забиты илом.
Подобным же образом пострадали и другие чувства. Все, что я слышу, звучит
расплывчато, искаженно. И ни запашка, никакого привкуса. Кажется, даже мысли
заторможены.
Я лежу. Я мелок, я на мели, я мелко дышу, но пытаюсь думать глубоко.
А потом - ничего. Ни людей, ни машин, ни вида, ни звука, ни вкуса, ни
запаха, ни осязания, ни даже ощущения моего собственного тела. И серость
кругом. Только воспоминания.
Я ухожу в сон.
Просыпаюсь в маленькой комнате с одной-единственной дверью. В стене -
экран. Помещение кубической формы, в серых тонах, без окон. Я сижу в большом
кожаном кресле. Оно мне вроде бы знакомо - такое же, как в Лейте, в
кабинете. На правом подлокотнике должна быть подпалинка, туда из косяка
выпал тлеющий комочек марихуаны. Нету. Наверное, это новое кресло. Гляжу на
свои руки. На правой видна рубцовая ткань. На мне туфли от "Мефисто", джинсы
"Ли", рубашка в клетку. Бороды нет. Судя по самочувствию, я здорово похудел.
Встаю и оглядываю комнату. Экран темен, кнопок не видать. В потолке, по
периметру стен, скрытые лампы. Тут все из серого бетона. Вроде бы тепло. На
стенах ни единого шва - неплохая заливка. Интересно, кто подрядчик? Дверь
обыкновенная, деревянная. Я ее отворяю.
По ту сторону дверного проема - такая же комната. Правда, в ней нет
экрана и кресла, только кровать. Это пустая больничная койка с хрустящим
белым бельем и серым одеялом. У одеяла приглашающе отогнут уголок.
Из только что покинутой мною комнаты доносится шум.
Если я туда вернусь и обнаружу старика, похожего на меня (думаю я),
надо будет как-то отсюда выбраться, найти машину, подать жалобу.
С этой мыслью я иду к двери, в комнату с креслом. Я не нахожу
загримированного Кира Даллеа. Комната пуста, но засветился экран. Я сажусь в
кресло и смотрю.
Это снова человек на кровати. Только на этот раз изображение цветное и
все видно гораздо лучше. Кое-что изменилось: он лежит на животе, на другой
кровати, в другой комнате. Это маленькая палата, и в ней еще три койки, и на
двух - мужчины с забинтованными головами. Кровать моего знакомца огорожена
ширмами, но я как бы нахожусь сверху и гляжу вниз. Очень отчетливо вижу
лысину. Касаюсь собственной головы - плешь. И на моих руках волосы,
естественно, не черные, а грязно-бурые. Вот блин!
А тут вроде гораздо уютнее, чем в той клетушке. В вазе на небольшой
прикроватной тумбочке - желтые цветы. В ногах у пациента, на спинке кровати,
не висит температурный листок. Наверное, так больше не делают. Зато у него
на запястье пластмассовый браслет. На браслете что-то написано, но я ничего
не могу разобрать.
Доносится отдаленный шум: голоса, женский смешок, звяканье склянок или
чего-то металлического, повизгивание катящихся по полу колес. Появляются две
медсестры, заходят в огороженное ширмами пространство и переворачивают
больного. Взбивают ему подушки, устраивают его в положении полусидя, не
прекращая болтать друг с дружкой. Я дико злюсь, так как не слышу, что они
говорят.
Медсестры уходят. В кадре появляются новые люди, устраиваются у
соседних коек. Люди как люди - молодая парочка пришла навестить старика,
пожилая женщина тихо беседует с другим пожилым мужчиной. К моему больному
посетителей нет. Но ему, похоже, все по барабану.
И вдруг является Андреа Крамон. Это точно она, хоть и в непривычном
ракурсе. На ней белый брючный костюм из грубого шелка, красная шелковая
блузка, красные туфли на шпильках. Она кладет пиджачок (не тот ли самый, что
я купил ей в прошлом году в Дженнере?) в изножье кровати, потом наклоняется
над лежащим, целует его в лоб и легонько - в губы. Ее рука ненадолго
задерживается - откидывает ему волосы со лба и заглаживает на темя. Потом
Андреа садится на стул рядом с койкой, закидывает ногу на ногу, упирается
локтем в бедро, а подбородком - в ладонь и смотрит на лежащего. А я смотрю
на нее.
На спокойном, но озабоченном лице появились новые складочки,
зарождающиеся морщинки. Сеточки никуда не делись из-под глаз, но к ним
добавились легкие тени. Волосы у нее длиннее, чем обычно. Не удается толком
разглядеть глаза, но скулы, изящный нос, длинные темные брови, волевой
подбородок и мягкий рот... все это я вижу.
Она наклоняется вперед, берет его руку. При этом не сводит с него
взгляда. Почему она здесь? Почему не в Париже?
...Пардон, дорогуша. И часто ты сюда кости закидываешь?..
(А сейчас - это сейчас? Или из прошлого?)
Она долго сидит, не выпуская его руки и глядя в бледное, ничего не
выражающее лицо. Наконец ее голова клонится к смятой простыне рядом с рукой
мужчины и зарывается в крахмальную белизну. Плечи вздрагивают раз-другой.
Экран гаснет, а затем и лампы. В соседней комнате свет остается гореть.
Я подозреваю, что подсознание пытается мне что-то сказать. Увы, но
утонченность никогда не была его сильным местом. Я глубоко вздыхаю, берусь
за подлокотники кресла и медленно встаю.
Одежду сбрасываю на пол у кровати. Под подушкой лежит короткая,
застегивающаяся сзади ночная рубашка из хлопка. Я ее надеваю и забираюсь под
одеяло. Пора вздремнуть.
Дурак! Идиот! Ты хоть понимаешь, что творишь? Ты же здесь был счастлив!
Власть, развлечения, широкие возможности. Все это у тебя было. Подумай об
этом! И к чему ты хочешь вернуться? Из руководства фирмой тебя небось уже
выперли, наверняка завели дело за вождение в пьяном виде (долго еще,
приятель, не гонять на шикарных тачках), и ты с каждым днем все старее и
несчастнее, и вынужден уступать свою подружку очередной болезни, очередному
прикованному к койке полутрупу. Ты всегда поступал так, как хотелось ей, она
тебя использовала, а не наоборот. Вы с ней жили, поменявшись ролями: не ты
сношал, тебя сношали. И не забывай: она тебя отшила. Дала отлуп. Раз за
разом она втаптывала тебя в грязь, а стоило тебе мало-мальски оклематься,
она тотчас уматывала за границу. Идиот! Не делай этого!
Да? А что еще мне остается? Между прочим, меня запросто могут отсюда
вышвырнуть. Какую-то мозговую деятельность, какую-то активность коры врачи
явно фиксируют, но, если так и буду дальше валяться колодой, меня могут
счесть безнадежным. Уберут капельницы, перекроют поступление воды и
питательных растворов, дадут мне умереть.
Так что я должен позаботиться хотя бы о самосохранении. Разве это не
важнейший принцип живой природы?
К тому же нельзя ее вот так бросать. С женщинами подобным образом не
поступают. Она этого не заслуживает. Да и никто не заслуживает. Ты ей не
принадлежишь, и она тебе не принадлежит, но каждый из вас - часть другого.
Если сейчас она встанет и уйдет, и уже не вернется, и вы не увидитесь до
конца своих дней, и ты проживешь еще полсотни заурядных лет, то и тогда на
смертном одре ты будешь осознавать, что она - часть тебя.
Вы с ней оставили друг на друге свои отметины, помогли друг другу
формироваться. Наделили друг друга отличительными черточками -
неизгладимыми, что бы ни случилось.
Ты сейчас пользуешься преимущественным правом на нее лишь потому, что
так близок к смерти. Если поправишься, она может запросто уйти к нему снова.
Вот незадача. Ты же вроде как-то раз решил, что не будешь держать на него
зла, или это был всего лишь пьяный треп?
Нет...
Громче.
Я говорю, нет, это не был пьяный...
Приятель, я тебя все еще не слышу. Громче.
Ладно! Ладно! Серьезно я, серьезно!
В натуре, серьезно. И вот еще что: она до сих пор считает, что беда
повторяется трижды. Ее отец умер в машине. Потом - Густав, он обречен
медленно дегенерировать... Потом я. Очередная машина, очередная авария;
очередной мужчина, которого она любила. О, теперь я нисколько не сомневаюсь,
что мы с Густавом очень похожи и что мы могли бы понравиться друг другу. И с
адвокатом он бы наверняка поладил, как это сделал я, и по той же причине...
Но ведь в моих силах не стать третьим, клянусь! Для этого нужно лишь одно:
прекратить поиски сходства! (Бледные пальцы выступают из черной
дифракционной решетки экрана, дрожа на вечернем ветру, как белые клубни...
Вот зараза, опять проектор заело. Монохромное изображение шелушится и
лопается, за ним - белый свет. Уже слишком поздно. Снайпер сперва видит
цель, затем ловит ее в перекрестье, потом жмет на спуск, а уж в-третьих...)
Нет, эта короткая последовательность закончится на второй жертве, если
от меня хоть что-то зависит. (И опять змейкой прокрадывается мысль о том,
как мы, наверное, похожи с Густавом. Я знаю, что бы сказал Андреа, если б
это я медленно угасал и она вознамерилась бы принести себя в жертву на
алтаре неусыпной заботы...)
Поеду в тот, другой, город. Честно, я всегда этого хотел и сейчас хочу.
И хочу встретиться с этим человеком. Япона мать, да я просто хочу что-нибудь
делать! Путешествовать на транссибирском экспрессе, побывать в Индии,
постоять на Айерс-рок, промокнуть до нитки в Мачу-Пикчу! Хочу заняться
серфингом! Я все-таки куплю дельтаплан. Снова приеду к Большому Каньону и на
этот раз не остановлюсь у обрыва. Я хочу увидеть северное сияние со
Шпицбергена или в Гренландии, хочу увидеть полное затмение, хочу наблюдать
пирокластические зрелища, хочу пройти по лавовому туннелю, хочу увидеть
Землю из космоса, хочу пить тибетский чай в Ладакхе, я хочу плыть вниз по
Амазонке и вверх по Янцзы и гулять по Великой Китайской стене. Я хочу
побывать в Азании! Я хочу снова увидеть, как с палуб авианосцев сбрасывают
вертолеты. Я хочу оказаться в постели разом с тремя женщинами!..
Господи боже! Вернуться в тэтчеровскую Британию, в рейгановский мир, ко
всему этому дерьму! Жизнь на мосту, при всей своей странности, была по,
крайней мере, предсказуема и хоть относительно безопасна.
А может, и нет. Не знаю.
Я одно знаю: что как-нибудь обойдусь без машины, которая расписывает
мне возможные варианты. Выбор не между реальностью и сном, выбор - между
двумя разными снами.
Первый - мой собственный: мост и все, что я вокруг него накрутил.
Другой - наш коллективный: все, что мы навоображали сообща. Мы существуем во
сне, как его ни называй: бытием, реальностью, жизнью. Уж не знаю, к добру
или к худу, но я - часть одного сна, и этот сон был наполовину кошмаром, и я
едва не позволил ему свести меня в могилу. Но все-таки я жив. Пока во всяком
случае.
Так что же изменилось?
Не сон, не суммарный результат наших снов, который мы называем миром,
не наша высокотехнологичная жизнь. Может быть, изменился я? Не исключено.
Кто знает. Здесь, "внутри", возможно все, что угодно. Не смогу ни о чем
судить, пока не вернусь назад. Пока не начну снова жить общим сном,
отвергнув свой индивидуальный: о вещи, ставшей местом, о средствах, ставших
целью, о маршруте, ставшем пунктом назначения... И вправду - тройка бубен и
высококлассный мост, бесконечный мост, ни в чем не повторяющийся мост. Его
огромный ржавый каркас вечно разрушается и вечно восстанавливается, подобно
тому как змея обновляет кожу или подобно метаморфирующему насекомому - оно в
коконе, и оно постоянно меняется...
Ох уж все эти поезда. То-то еще наезжусь на них. Вождение-то наверняка
запретят. Глупый ты ублюдок! Это ж надо - перед самым Рождеством залил зенки
и полез за баранку. Стыдобища! Разбил свою и чужую тачку, сам едва не
угробился. Хорошо хоть, что больше никто не пострадал. Вряд ли я захотел бы
вернуться, зная, что кого-то спровадил на тот свет. Или даже если бы только
искалечил. Надеюсь, тот бедолага не слишком горюет по своему "MG".
А "ягуар" жалко. Столько времени на него потрачено, столько денег,
столько труда опытных работяг. Хорошо еще, я им владел без году неделя, не
успел проникнуться сентиментальными чувствами. ("Мистер Икс, вы были сильно
привязаны к своему автомобилю?" - "Привязан? Да я три часа был переплетен с
этим гадом!")
А мост... мост. Вот встану на ноги (если встану), надо будет Совершить
к нему паломничество. Пройду над рекой (если смогу ходить), брошу монетку на
счастье. Ха-ха!
Три секции, три частокола, эдаким фертом за стенами форта
(Ферт-оф-Форт). Теперь я вспомнил: над автомобильным мостом тоже высились
серые иксы. Три громадных "X", одно над другим, как шнуровка или кружево...
И еще... Еще... что еще? Ах да: я еще не всю пленку Pogues прослушал. Не
было "А Man You Don't Meet Every Day"<"Человек, какого не каждый день
встретишь" (англ.)>. Пятая тема; спой, детка, не стыдись... А на другой
сторонке Eurythmics, это контраста ради. Малютка Энни с тетушкой Аретой
наяривают. Для души стараются. Ну а почему бы и нет? Поет "Better To Have
Lost In Love (Than Never To Have Loved At All)"<"Лучше, когда в любви не
везет (чем вообще никогда не любить)" (англ.)>. Что это, клише? У клише
тоже есть чувства.
Я хочу вернуться. А вот могу ля?
би-ип... би-ип... би-ип... Это автоответчик. Сейчас ваше сознание
отключено, но если вам угодно оставить... щелк.
А правда, могу ли? Как бы это узнать? Я хочу вернуться. Сейчас же.
Давай попробуем, а? Сон - явь. Начали!
Идем назад.
Очень скоро. Пробуждение. А перед этим - слово нашим спонсорам. Но
сначала три маленькие звездочки:
Как-то раз дождливым и не очень теплым летом я был на берегу под
Валтосом. Я был с ней, и мы поставили палатку и с помощью кое-какой химии
изменяли реальность. По палатке тихо барабанил дождь. Она не хотела
выходить. Сидела, просматривала альбом Дали. Но если я решал выйти, она не
возражала.
Я бродил по извилистой кромке берега, где волны разглаживали золотистые
песчаные горбы. Там мы были втроем с теплым влажным бризом и милей-другой
пляжа, да еще дождь накрапывал с серых клубящихся туч. Я находил острые
ракушки - осколки радуги; я видел, как дождинки падают на еще сухие пятна
песка и как их овевает ветер. И казалось, что весь пляж шевелится, течет;
казалось, это живое существо. Я помню свой восторг, поистине детское
восхищение от этого песка и темных крапинок на нем, от ощущения бегущих
между пальцами крупинок.
Я находился на дальнем краю Гебрид, бурное море отделяло меня от
Ньюфаундленда, Гренландии и Исландии и крутящейся над северным полюсом
ледяной ермолки. Острова Льюис и Гаррис врезались в море длинной гористой
дугой, словно позвоночный столб, словно цветок мозга над центральной нервной
системой. Мой разум был островом, острый скальпель наркотика открыл его
набегам волн и ветров.
Тогда я думал, что понял все: как расцветает мозг на конце членистого
стебля; как мы запускаем корни в почву, растем и крепнем. Это значило все и
не значило ничего - как тогда, так и сейчас.
И я сказал себе, что был далеко-далеко... Потому что я был своим
собственным отцом и своим собственным ребенком и ненадолго уходил, но теперь
вернулся. Вот что я себе сказал, собираясь в обратный путь: "Сынок, твой
папа был очень далеко".
...Да, конечно, но ведь это было очень давно. А как насчет дня
сегодняшнего? Я в том смысле, что полгода без выпивки и курева - это вам не
шутки. Наверное, лежа тут без сознания, я был здоровее, чем на протяжении
всей своей взрослой жизни. Пускай физических упражнений кот наплакал, зато в
том, что течет через мою ноздрю в пищевод, никаких токсинов. Непонятно даже,
как мое тело смогло пережить такое долгое воздержание от спиртного и дури.
Может, я перекуюсь, может, я вообще завяжу пить и курить, а также
нюхать и жевать всякую дрянь. И когда восстановлю водительские права,
скорость превышать - ни-ни! А еще ни разу не скажу худого словечка про наших
законно и демократично избранных представителей и их стратегических
союзников и буду куда терпеливей и уважительней выслушивать мнение
собеседников даже по самым дурацким вопросам... Хотя стоит ли возвращаться,
чтобы заниматься такой херней? Черного кобеля не отмоешь добела. Буду
грешить и впредь, только куда осторожнее.
Малыш, твой папочка...
Да, знаю. Это мы уже слышали. Думаю, до нас дошло. Еще кто-нибудь?..
Кончена забава Процедура завершена Браммер пробуждается Брахма
пробуждается Не за что
(спасибочки, Билл)
(и тебе, Мак)
(а если подумать?)
(большое спасибо)
(харе болтать; не томи душу)
Мгла.
Нет, не мгла. Кое-что есть. Что-то темно-, почти коричнево-красное.
Везде. Пытаюсь оглянуться, но не могу, значит, это не просто цвет стены или
потолка. Может, это позади моих глаз? Не знаю. И хрен тут выяснишь.
Звук. Я что-то слышу. Вот на что похоже: когда ныряешь в бассейн и
плывешь обратно к поверхности. Этот звук, такой булькающий белый шум,
постепенно меняется в тоне, от очень низкого до самого высокого, а потом
лопается как пузырь, разлетается на...
Разговор, женский смех. Позвякивание стекла и металла. Колесный визг
или скрип ножки стула.
Запах. Да, очень медицинский. Теперь очевидно, где мы находимся. Еще -
что-то цветочное. Я чувствую два запаха. Один резкий, но свежий, другой...
Не знаю. Не могу описать... Ага: первый - от цветов на тумбочке у кровати.
Второй запах - ее. Похоже, она не изменила своему пристрастию к духам
"Джой". Да, наверное, это она. Так этими духами не пахнет больше никто, даже
ее мать. Андреа здесь!
Сегодня что, день тот же самый? И что, я ее увижу? О, только не уходи!
Останься!
Ну двинь же чем-нибудь! Давай шевелись!
Тут полнейший беспорядок. Ни черта не видать. Я похож на сонного
кукловода, которого неожиданно разбудили, и теперь он шарахается за сценой и
пытается отыскать концы и распутать нитки. Ручки? Ножки? Головки? Что тут к
чему? И где инструкция?.. О господи, только бы не пришлось учиться всему
этому по новой.
Глазки! Откройтесь, блин!
Дерг! Ручки!
Ножки! А ну-ка вставайте, делайте, что вам положено!
...Эй, люди! Кто-нибудь!
Полегче, полегче. Ложись-ка и думай о Шотландии. Успокойся, приятель.
Дыши глубже, прислушайся к току крови. Ощути тяжесть заправленного под
матрас одеяла и простыней, ощути щекотку в ноздре, куда входит конец
трубки...
...Вот и все. Не слышно ничьей болтовни поблизости. Только приглушенный
рокот здания, города. Легким ветерком унесло аромат "Джой"... А может, его
тут и не было. Зато подсохшей кровью попахивает...
Снова потянуло сквозняком. Приятное ощущение на щеке и на коже между
носом и губой. Со студенческих лет не ощущал там ветра. Столько лет прожил с
бородой...
Я глубоко вздыхаю.
Я в самом деле дышу. Чувствую сопротивление заправленного под матрас
одеяла, когда грудь поднимается выше обычного. Трубка искусственного легкого
скользит по ткани на плече, потом, когда я расслабленно выдыхаю, скользит
обратно. Дышу!
Я до того потрясен, что открываю глаза. Дрожит левое веко; ресницы
слиплись, но взор проясняется через секунду-другую. Поначалу все дрожит и
кажется слишком ярким, но вскоре нормализуется.
Андреа сидит менее чем в метре, подобрав ноги под стульчик. Одна рука
лежит на бедре, другая держит у рта пластиковый стаканчик. Губы раздвинуты.
Я вижу ее зубы. Она изумленно смотрит на меня. Я моргаю. Она тоже. Я шевелю
пальцами ног и вижу, как в изножье приподнимается и опускается белый пиджак.
Напрягаю бицепсы. До чего же грубые здесь одеяла! Есть хочется!
Андреа опускает стакан, чуть наклоняется вперед, словно не верит
собственным глазам. Смотрит то в один мой глаз, то в другой, явно выискивает
в них признаки сознания (и я вынужден согласиться, что это вполне
обоснованная мера предосторожности). Кашляю, чтобы прочистить горло.
Андреа вся обмякает. Когда-то я видел, как выпадает из ее пальцев
шифоновый шарф, но даже тот не изгибался столь грациозно... С ее лица вмиг
сходит вся тревога: раз - и нету. Андреа медленно кивает и улыбается:
- С возвращением.
- Да ну?
"Монти Пайтон и Святой Грааль" (1975) - эксцентричная комедия Терри
Гиллиама и Терри Джонса по сценарию Грэма Чапмена, Джона Клиза и др. Первый
полнометражный фильм группы "Монти Пайтон", прославившейся сюрреалистическим
сериалом "Воздушный цирк Монти Пайтона", который выходил на английском
телевидении в 1969 - 1974 гг. Американец Терри Гиллиам (прежде занимавшийся
комиксами, а впоследствии видный кинорежиссер) отвечал в группе
преимущественно за мультипликацию.
"У/Z" - английский журнал комиксов, выходящий с 1983 г. Начинался в
Ньюкастле как малотиражное самодеятельное издание и сперва имел чисто
культовую известность, распространялся в местных пабах; однако уже к началу
90-х гг. его тираж превысил миллион экземпляров. Относится
к категории "взрослых" комиксов, но это не означает, что журнал имеет
эротическую направленность: "VIZ" - юмористическое издание с характерным
грубоватым, а то и скатологическим юмором.
Полицейские машины (бутерброды с джемом). - На английском сленге
полицейские машины зовутся бутербродами с джемом. В англо-американском
словаре Криса Рея (www.english2american.com) это прокомментировано следующим
образом: "Полицейские машины в Англии белые, с красной продольной полосой
посередине, - отсюда и прозвище. Если сощуриться, встать на голову и
прочитать „Отче наш" задом наперед, то не исключено, что в чем-то
полицейский автомобиль покажется не таким уж и непохожим на бутерброд с
джемом".
...всегда клялся, что атеистом останешься и в окопе под огнем... -
Имеется в виду знаменитое высказывание американского священника Уильяма
Томаса Каммингса (1903 - 1945): "Не бывает атеистов в окопах под огнем".
Процитировано в гл. 15 книги Карлоса П. Ромуло "Я видел падение Филиппин"
(1943).
Кеджери - жаркое из рыбы с рисом и пряным порошком карри.
...plus сa change... - начало французской поговорки "Plus с.а change,
plus c'est la meme chose" (чем больше все меняется, тем больше все
по-прежнему).
Гарри Лодер (1870-1950) - эдинбургский комик-репризер, автор и
исполнитель песен; самая яркая звезда английского мюзик-холла первой
четверти XX в., в 1919 г. возведен в рыцарское достоинство. Выступая в
кильте и с большой крючковатой палкой, эксплуатировал утрированный образ
шотландца, за что порой критиковался соотечественниками.
Они с друзьями решили сделаться "альтернативными геологами" и прозвали
себя рокерами. - Игра слов: "rock" по-английски означает "горная порода" и
"рок-музыка", а "рокер" в традиционных значениях - рок-музыкант или
поклонник рок-музыки. - Прим. пер.
"White Rabbit" - песня Jefferson Airplane с альбома "Surrealistic
Pillow" (1967); ассоциации подразумеваются не только кэрролловские,
посвящена песня Стивену Оусли по кличке Белый Кролик - калифорнийскому
химику-любителю, изготовлявшему качественный и общедоступный ЛСД.
"Astronomy Domine" - первая композиция с первого альбома Pink Floyd, "A
Piper at the Gates of Dawn" (1967).
...с юной медсестрой из "Вестерн дженерал"... - Western General,
известный научно-исследовательский медицинский комплекс в Эдинбурге. - Прим.
пер.
Лейнг, Рональд Дэвид (1927-1989) - английский психиатр, известный
нетрадиционным подходом к лечению шизофрении. В первой книге "Разделенное
„я"" (I960; рус. пер. 1995) утверждал, что онтологическое сомнение
(сомнение в собственном существовании) вызывает защитную реакцию: "я"
разделяется на несколько компонентов, что порождает симптомы, характерные
для шизофрении. Выступал против традиционных методов лечения шизофрении
(госпитализация, электрошок). В "Политике опыта" (1967) рассматривал безумие
как форму трансценденции нормального состояния отчуждения. Впоследствии
частично пересмотрел наиболее радикальные из своих ранних взглядов.
Т. С.Элиот (1888 - 1965) - выдающийся поэт, теоретик литературы,
драматург. Его поэма "Бесплодная земля" (1922) - одно из высочайших
достижений модернизма.
"Wheels of Fire" - двойной альбом Cream (1968).
"Electric Ladyland" - двойной альбом Джими Хендрикса (1968).
"Bringing It All Back Home" - альбом Боба Дилана (1965). Впоследствии
переиздавался под названием "Subterranean Homesick Blues" (по первой песне).
...и когда мэр Дети... - Дейли Ричард Джозеф (1902-1976), шестикратный
мэр Чикаго (1955-1976); по его приказу в 1968 г. полиция жестоко разогнала
демонстрантов во время предвыборного съезда Демократической партии, что
привело к неделе массовых беспорядков. Обвиненный на пресс-конференции в
том, что насилие было спровоцировано полицией, Дейли ответил знаменитой
оговоркой: "Наша полиция служит не для того чтобы учинять беспорядок, а
чтобы охранять беспорядок". Из более ранних достижений: считается, что Дейли
фальсифицировал результаты президентских выборов 1960 г. в своем штате
Иллинойс, что принесло победу Кеннеди, а не Никсону. К слову сказать, в 1989
г. его сын, Ричард М. Дейли, тоже был выбран мэром Чикаго.
"Wichita Lineman" - песня Джимми Уэбба (р. 1946). Существует по меньшей
мере полсотни вариантов исполнения. Самое известное - 1968 г., Глена
Кэмпбелла (номер один в кантри-хит-параде, номер три в хит-параде
"Биллборда"); также исполнялась Реем Чарльзом (1970), Urge Overkill (1988),
R.E.M. (1995).
"Ode to Billy Joe" - баллада Бобби Джентри (наст, имя Роберта Стритер,
р. 1944), первый ее сингл (1967) и одна из популярнейших фолк-песен второй
половины 60-х; входила как в поп-, так и в кантри-чарты. По мотивам этой
истории роковой любви шестнадцатилетнего Билли Джо Макаллистера и
четырнадцатилетней Бобби Ли был снят фильм (1976, реж. Макс Баэр-мл.). В
песне - и, конечно, в фильме - фигурирует мост через речку Таллахатчи;
дальше в романе Бэнкс это обыгрывает ("рухнул мост Таллахатчи" - см. стр.
284).
По "Радио-1" в ночном эфире Джон Пил крутил реггей. - Джон Пил (наст,
имя Джон Роберт Паркер Равенскрофт, р. 30.08.1939) - знаменитый английский
радиоведущий. Прославился сперва на пиратской радиостанции Radio London, с
1967 г. и до настоящего времени ведет программу на Radio One (ВВС). В
соответствующее время активно пропагандировал психоделию, реггей, панк,
электронную и хаус-музыку, этнику и др., предпочитает работать с
независимыми лейблами и малоизвестными музыкантами. В июле 1991 г. посещал
Санкт-Петербург.
Он купил "Past, Present and Future" Эла Стюарта. - Эл Стюарт (р. 1945)
- известный шотландский автор-исполнитель; начинал в фолк-среде, потом стал
использовать более масштабные аранжировки и значительно расширил аудиторию.
В конце 60-х с ним периодически записывался Джимми Пейдж. "Past, Present and
Future" (1973) - его пятый альбом, начиная с которого он сосредоточился
преимущественно на исторической тематике. "Post World War Two Blues"
повествует о тяжелом шотландском детстве на фоне послевоенной политики.
"Roads to Moscow" - песня от лица советского солдата, краткое изложение всей
Великой Отечественной войны вплоть до последующего сибирского лагеря за
немецкий плен. Десятиминутную, с затянутыми гитарными соло, композицию
"Nostradamus" большинство критиков сочли единственной неудачей альбома;
радикально сокращенную кавер-версию под названием "Eyes of the Nostradamus"
включил в свой альбом "Somewhere in Africa" (1982) Манфред Мэнн.
Он много раз ставил "The Confessions of Doctor Dream"... - Альбом
Кевина Айерса (1974) с участием Майка Олдфилда и Нико. Самый коммерчески
успешный альбом Айерса за всю его карьеру.
Из кассет в машине был преимущественно Пит Эткин, но для быстрой...
езды задумчивые... тексты Клайва Джеймса не годились... - Пит Эткин -
культовый английский автор-исполнитель, постоянно сотрудничавший с поэтом
Клайвом Джеймсом; выпустил в 1970 - 1975 гг. шесть фолк-альбомов, широко
прогремевших в узких кругах, и на четверть века пропал из виду, пока в 2001
г. не вышел двойной альбом "The Lakeside Sessions".
"Rock and Roll Animal" (1974) - концертный альбом Лу Рида, содержит
преимущественно старые, еще "вельветовские" песни.
Какое-то время выписывал "Тайме", уравновешивая ее "Морнинг стар".
<...> Он перешел на "Гардиан". - Упомянуты наиболее характерные
газетные полюса Британии: "Тайме" - оплот консерватизма, "Морнинг стар" -
орган английской компартии, "Гардиан" - самая известная центристская газета.
Гручо Маркс (Юлиус Генри Маркс, 1890 - 1977) - один из четырех братьев
Маркс, знаменитых комиков. Самые известные их фильмы: "Штучки" (1931),
"Вечер в опере" (1935), "День на бегах" (1937). В послевоенное время Гручо
вдобавок прославился как ведущий радиовикторины "На что спорим?", а потом ее
долгоживущей телеверсии.
Он покупал альбомы Clash, Sex Pistols и Damned... но больше слушал Jam,
Элвиса Костелло и Брюса Спритстина. - Кроме Спрингстина, все упомянутые
выпустили свои первые альбомы в 1977 г. и являлись типичными
представителями, соответственно, панка или "новой волны"; Спрингстин же
исполнял традиционный фолк-ритм-энд-блюз и дебютировал в 1973 г.
"Because the Night" (1978) - сингл Патти Смит; песня, написанная ею
совместно с Брюсом Спрингстином, включена в альбом того же года "Easter"; в
1993 г. кавер-версию исполняли 10, 000 Maniacs. "Shot by Both Sides" (1978)
- сингл группы Magazine; песня включена в их альбом того же года "Real
Life"; в 2002 г. кавер-версию исполняли Mansun, а в осеннем турне 2000 г. -
Radiohead.
...зто страна летучих мышей. - Фраза из третьей главы "Страха и
ненависти в Лас-Вегасе" (1972) американского писателя и журналиста Хантера
С. Томпсона (р. 1937); появление летучих мышей характеризует у него момент,
когда начинают действовать наркотики ("...и небо заполонили какие-то хряки,
похожие на огромных летучих мышей..." - это уже, правда, цитата не из
третьей главы, а из первой, из самого первого абзаца книги). В этом
документальном романе, публиковавшемся осенью 1971 г. в журнале "Роллинг
стоун" с иллюстрациями Ральфа Стедмана, Томпсон описывает, как на пару со
своим адвокатом-полинезийцем отправляется в Лас-Вегас освещать мотоциклетные
гонки по пустыне; они берут напрокат "кадиллак" с откидным верхом, загружают
машину диким количеством наркотиков и алкоголя, педаль в пол - и понеслось,
во всех смыслах. В 1998 г. Терри Гиллиам выпустил крайне любопытную
экранизацию, главные роли исполняли Джонни Депп и Бенисио дель Торо. Строго
говоря, "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" - так в русской версии назывался
именно фильм, а книга, выпущенная в переводе Алекса Керви под редакцией Ильи
Кормильцева, была названа "Страх и отвращение в Лас-Вегасе".
Подхвати меня лучом, Скотти ("Beam me up, Scotty") - распространенная
версия фразы из телесериала "Стар трек", на самом деле звучавшей:
"Подхватите нас лучом, мистер Скотт".
Лэрд - шотландский помещик, владелец наследственного имения.
"Can't Stand the Rezittos" (1978) - единственный альбом смешных
шотландских панков Rezillos (не считая концертника, вышедшего годом позже).
Питали пристрастие к фантастической тематике, на сцене часто одевались как
герои комиксов.
Жак Брель (1929-1978) - знаменитый французский шансонье; англоязычную
версию его песни "Амстердам" исполнил на альбоме каверов "Pin-ups" Дэвид
Боуи (1973).
Бесси Смит (1894-1937) - великая блюзовая певица; Дженис Джоплин (1943
- 1970) считала себя новым ее воплощением.
...Он же предпочитал Motels и Pretenders... - группы "новой волны" (в
случае Motels - с элементом фанка), дебютировали, соответственно, в 1979 и
1980 гг. Крисси Хайнд - вокалистка Pretenders, Марта Дэвис - вокалистка
Motels. "Total Control" - песня с первого альбома Motels, который так и
назывался - "The Motels".
"Warren Zevon" (1974) - второй альбом американского фолк-рокера Уоррена
Зевона, многими критиками считается одним из лучших альбомов 70-х. Зевон (р.
1947, в русско-еврейско-шотландско-валлийско-мормонской семье) продолжает
работать до сих пор, но известностью обладает скорее культовой, нежели
массовой, притом что на его альбомах эпизодически появляются такие звезды,
как Боб Дилан, Нил Янг, Брайан Зетцер и др.
Сент-Эндрюс-Хаус - здание Министерства по делам Шотландии в Эдинбурге.
Выстроено в 1939 г. Томасом Тейтом и является одним из самых ярких в
Шотландии образцов стиля арт-деко; стоит на государственном учете как
памятник архитектуры первой категории.
"The River". - Есть основания полагать, что имеется в виду песня Брюса
Спрингстина с одноименного альбома 1980 г.
Хериот-Уатт - один из крупнейших технологических университетов
Великобритании, находится в Эдинбурге. - Прим. пер.
Андреа купила... сиамских котят <...> "Мальчиков" она назвала
Франклином и Финеасом, а... кошечка получила имя Фредди-толстушка. "Будь
проклята ностальгия"... - Франклин (Freewheelin' Franklin), Финеас (Phineas
Phreak), Фредди-толстяк (Fat Freddy) и его кошка - персонажи андерграундного
комикса "The Fabulous Furry Freak Brothers" ("Легендарные пушистые
торчки-братаны") Гилберта Шелтона (р. 1940); "братья" возникли в 1968 г.,
первый сборник их похождений опубликован в 1971 г., тринадцатый - в 1997 г.
Оба партнера поддерживали социал-демократов, а у Альянса идея участия
рабочих в управлении производством была весьма в чести. - В марте 1981 г.
Либеральная партия Шотландии и социал-демократы сформировали альянс, а через
семь лет из альянса образовалась Либерал-демократическая партия Шотландии.
"Weaver's Answer" - первая песня со второго альбома английской
фолк-джаз-хард-рок-группы Family ("Entertainment", 1969), самая известная их
композиция. Под "ткачом" здесь имеется в виду Бог, и написана песня от лица
умирающего человека, который вспоминает всю свою жизнь как вытканный на
полотне узор.
Он давал деньги "Live Aid", но, услышав о выходе пластинки "Band Aid",
вспомнил старую революционную поговорку: заниматься благотворительностью при
капитализме - все равно что заклеивать лейкопластырем раковую опухоль. -
Началось все с документального фильма Майкла Берка о голоде в Эфиопии,
показанного по Би-би-си в октябре 1984 г. Через два месяца по инициативе
Боба Гелдофа (Boomtown Rats) и Миджа Ура (Ultravox) был выпущен сингл "Band
Aid" с песней Гелдофа и Ура "Do They Know It's Christmas? / Feed the World",
в записи которого принимали участие более сорока известнейших английских
музыкантов; полученные от его продажи деньги были направлены на закупку
продовольствия для Эфиопии (только в Англии разошлось более трех миллионов
экземпляров сингла). Аналогичная американская инициатива - сингл "USA for
Africa" с песней Майкла Джексона и Лайонела Ричи "We Are the World",
выпущенный в марте 1985 г. Тогда же родилась идея устроить для сбора средств
в помощь Эфиопии большой коллективный концерт. Названный "Live Aid", он
состоялся 13 июля 1985 г. одновременно в Англии и США (на лондонском
стадионе Уэмбли и на стадионе "Джей-Эф-Кей" в Филадельфии), длился 16 часов
(с полудня до четырех ночи), привлек множество самых популярных музыкантов и
собрал больше ста миллионов долларов. Что же касается "старой революционной
поговорки", дело в том, что "Band Aid" - это фирменное название
бактерицидного лейкопластыря; игра слов ("band" означает как ленту,
перевязку, так и музыкальную группу, оркестр) запрограммирована в названии
сингла совершенно сознательно.
Фэй Файф - вокалистка Rezillos (см. выше). "Айм фэй Файф" ("Ah'm fay
Fife") - искаженное, с утрированным шотландским акцентом, произношение фразы
"I'm from Fife" ("Я из Файфа").
..в университете, по Кестлеровскому завещанию, открыли новую кафедру -
парапсихологии... - Артур Кестлер (1905 - 1983) родился в Будапеште,
образование получил в Вене. Первые свои книги писал на венгерском, затем на
немецком, а с 1941 г. - на английском. 1926 - 1932 гг. провел в сионистском
поселении в Палестине; вернувшись в Европу, вступил в коммунистическую
партию и некоторое время жил в СССР. С началом гражданской войны в Испании
отправился туда корреспондентом и был арестован франкистами, однако
освобожден при обмене пленными; затем был интернирован в Париже, а после
побега в Англию снова интернирован. Из компартии вышел в 1938 г. Наиболее
известное свое произведение "Тьма в полдень" опубликовал в 1940 г. (русский
перевод 1988 г. назывался "Слепящая тьма"); в романе детально и убедительно
раскрывается психологический механизм поведения жертв московских "больших
процессов". В 2001 г. издательство "Евразия" выпустило перевод его книги
"Тринадцатое колено: Крушение империи хазар и ее наследие" (1976), где
Кестлер отстаивал тезис о том, что основную массу восточноевропейского
еврейства составила не палестинская диаспора, но хазарские мигранты. В 1983
г., больной лейкемией и паркинсонизмом, покончил жизнь самоубийством (вместе
с женой). С конца 50-х гг. увлекался мистикой, исследовал ее связь с наукой
и в книге "Корни совпадения" (1972) пытался выдвинуть квантово-механическое
обоснование феноменов сверхчувственного восприятия; завещал все свое
состояние на учреждение в Эдинбургском университете кафедры парапсихологии.
...вспомнили гипотезу морфологического резонанса... - Выдвинута
английским биологом Рупертом Шелдрейком (р. 1942) в книге "Новая наука
жизни" (1981) и сводится к следующему. Допустим, некто совершил прорыв
(скажем, научный) - так после этого остальным исследователям, никак не
связанным с первооткрывателем, будет легче добиться того же. Происходит это
благодаря так называемому "морфологическому полю" и якобы носит всеобщий
характер, является одним из движущих механизмов эволюции. Полная, словом,
чушь.
...теории фон Деникена. - Эрих фон Деникен (р. 1935) - швейцарский
писатель, наиболее известный в шестидесятые годы апологет теории
палеоконтакта. В книгах "Воспоминание о будущем", "Колесницы богов" (1968) и
других утверждал, будто гигантские рисунки в пустыне Наска, фрески в пещерах
Тассили, японские статуэтки догу, циклопические сооружения наподобие
Баальбекской террасы и т.д., и т.п. свидетельствуют о посещении Земли в
далеком прошлом космическими пришельцами; аналогичные свидетельства он
пытался отыскивать в древних мифах и эпосах.
...как это в духе "Страха и ненависти"-, очень по
хантер-эс-томпсоновски. ...от этой чертовой книги ты потом всегда ездишь
чуть быстрее. Сам же виноват, несколько минут назад слушал "White Rabbit" -
вот музыкой и навеяло. - О книге Хантера С.Томпсона см. выше. Скорость у
него действительно превышают сплошь и рядом. И "джефферсоновский" "Белый
кролик" (см. прим. к стр. 153) тоже фигурирует, причем это один из самых
ярких моментов как книги, так и фильма: адвокат-полинезиец сидит,
удолбанный, в ванне и просит Джонни Деппа / Рауля Дьюка / Хантера С.
Томпсона сбросить в воду магнитофон, исторгающий на полной громкости
"Surrealistic Pillow", - причем сбросить ровно в тот момент, когда отзвучат
последние такты "White Rabbit". Впрочем, все отделались легким испугом.
...не думать о "Красных акулах" и "Белых китах"... - "Красной акулой" и
"Белым китом" (Мелвилл ни при чем) были окрещены взятые напрокат "кадиллаки"
все у того же Хантера С. Томпсона, соответственно, в первой и во второй
частях книги.
...тетушку Джоани. - Речь идет о знаменитой американской фолк-певице
шотландско-мексиканского происхождения Джоан Баэз (р. 1941), прозванной
"королевой фолк-музыки".
...он слушал Big Country, альбом "Steeltown" - на родине Карнеги это
казалось вполне уместным. - Речь о втором альбоме (1984) этой шотландской (а
именно данфермлинской) группы, исполнявшей постпанк с доминирующим
фолк-колоритом; в октябре 1988 г. они дали концерт в Москве, и это было
первое в СССР выступление подобного рода, организованное не Госконцертом, а,
можно сказать, в частном порядке (продюсерским центром Стаса Намина).
Карнеги, Эндрю (1835 - 1919) - американский сталелитейный магнат
шотландского (а именно данфермлинского) происхождения, также знаменитый
своей филантропической деятельностью.
Как насчет "Bridge Over Troubled Water"? <...> ...есть Los Lobos
("How Will the Wolf Survive?"-) <...> Ладно, пусть будут Pogues, "Rum,
Sodomy and the Lash". - "Bridge Over Troubled Water" - суперхит Саймона и
Гарфанкела, первая песня на одноименном альбоме 1970 г. (их последнем
альбоме). Los Lobos - группа лос-анджелесских мексиканцев, начинали в конце
60-х с ритм-энд-блюза, потом переключились на свое, народное, к началу 80-х
достигли синтеза и были приняты "на ура" в панк-среде; "How Will the Wolf
Survive?" (1984) - их первый альбом на мейджор-лейбле. Впоследствии
неоднократно получали "грэмми" как за испано-, так и за англоязычный
материал; участвовали в саунд-треках к фильмам Роберта Родригеса "Десперадо"
(1995) и "От заката до рассвета" (1996). Pogues - ирландская
фолк-панк-группа; строго говоря, по музыке это просто ирландский фолк, от
панка здесь только эпатажные тексты Шейна Макгоуэна и энергичная подача
(хотя ирландскому фолку и в чистом виде энергии не занимать). "Rum, Sodomy
and the Lash" - (1985) - их второй альбом и один из лучших.
"VAT 69" - шотландское марочное виски. Название в переводе означает
"69-й чан", его история такова: в 1860-х гг. Уильям Сандерсон купажировал
100 разновидностей виски, разлил по чанам, созвал друзей и устроил
дегустацию; победил купаж в 69-м чане - с того и повелось.
Если я туда вернусь и обнаружу старика, похожего на меня... надо
будет... подать жалобу. <...> Я не нахожу загримированного Кира
Даллеа. - Кир Даллеа (р. 1936) - американский актер, прославившийся ролью
астронавта Дейва Боумена в кларковско-кубриковской "Космической одиссее 2001
года" (1968). Речь идет о самой концовке, когда путешествие через
космическо-психоделические бездны завершается в гостиничном номере и Боумен
видит себя состарившимся и ложится спать.
Айерс-рок - австралийская столовидная скала аркозового песчаника;
высота 335 м, овальное основание 2 км на 3, 6 км. В зависимости от высоты
солнца, песчаник меняет цвет и наиболее красив на закате, когда выглядит
багрово-оранжевым.
Мачу-Пикчу - город-крепость древних инков, один из немногих центров
доколумбовой цивилизации Америки, дошедших до наших дней фактически в
неприкосновенности; открыт в 1911 г. Хирамом Бинге-мом из Йельского
университета. Расположен в Андах, в 80 км к северо-западу от перуанского
города Куско.
...пирокластические зрелища... - Пирокластической называется
геологическая порода, сложенная преимущественно из вулканических обломков
(агломерат, туф). То есть под пирокластическим зрелищем следует понимать
извержение вулкана.
Азания - название, данное арабскими торговцами в конце I тысячелетия н.
э. южной части восточного побережья Африки.
А на другой сторонке Eurythmics... Малютка Энни с тетушкой Аретой
наяривают. <...> Поет "Better To Have Lost In Love (Than Never To Have
Loved At Alb). - Совместно с Eurythmics знаменитая соул-певица Арета
Франклин исполняла песню "Sisters Are Doing It For Themselves" на их альбоме
"Be Yourself Tonight" (1985), соответствующий сингл вышел в октябре того же
года; а песня "Better To Have Lost In Love (Than Never To Have Loved At
All)" завершала альбом.
Кончена забава (спасибочки, Билл) - ср.:
...Кончена забава.
Актеры наши, как сказал уж я,
Все были духи. В воздухе прозрачном
Рассеялись, растаяли они.
Вот так когда-нибудь растают башни,
Макушкой достающие до туч,
И богатейшие дворцы, и храмы
Величественные - весь шар земной
И жители его, все, все растает.
Рассеется бесследно, как туман,
Как это наше пышное виденье.
Из той же мы материи, что сны.
Сны - завершенье куцей жизни нашей...
(У. Шекспир. "Буря". Пер. О. Сороки)
Процедура завершена (и тебе, Мак). - Слова "Процедура завершена"
произнес 2 сентября 1945 г. на линкоре "Миссури" генерал Дуглас Макартур,
выйдя к журналистам после подписания Японией капитуляции; можно сказать, что
этим была поставлена точка во Второй мировой войне.
Браммер пробуждается. - Под названием "Браммер" существует несколько
американских компаний, обслуживающих нефтегазовый комплекс.
Брахма пробуждается. - Брахма - верховное божество в индуистской
мифологии, творец мира, открывающий триаду верховных богов.
Last-modified: Mon, 22 Aug 2005 05:28:40 GMT
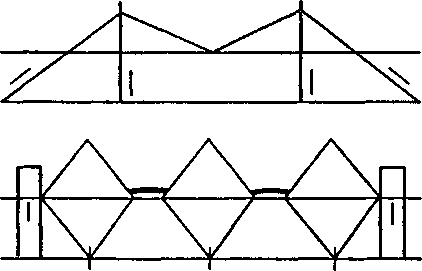 - Что делать? - спрашиваю. Все это как-то по-детски.
- Видите короткие черточки? Четыре на верхнем рисунке, пять - на
нижнем?
- Да.
- Дорисуйте стрелочки, чтобы получились соответствующие векторы силы.
Я открываю рот, чтобы спросить, но Джойс вскидывает руку:
- Больше я вам ничего сказать не могу. Не имею права давать подсказки
или отвечать на вопросы.
Я беру фломастер, пририсовываю, что велено, и отдаю альбом доктору. Он
глядит и кивает.
- Ну что? - спрашиваю.
- Что "ну что"? - Он достает из выдвижного ящика тряпку и протирает
страницу, а я кладу фломастер на стол.
- Я правильно сделал? Врач пожимает плечами.
- Что такое "правильно"? - грубовато спрашивает он, пряча альбом,
фломастер и тряпку обратно в ящик. - Будь это экзаменационный вопрос, я бы
счел, что вы с ним справились. Но мы не на экзамене по физике. Это всего
лишь психологический тест, и он должен был о вас кое-что рассказать. - Он
снова царапает в блокноте серебряным карандашом с выдвижным грифелем.
- И что же он обо мне рассказал? Джойс опять пожимает плечами, глядя в
свои записи.
- Не знаю, - отвечает он ворчливо. - Что-то должен был рассказать, но
что именно - не знаю. Пока.
Очень хочется садануть по его серовато-розоватому носу.
- Понятно, - киваю. - Что ж, надеюсь, я был чем-то полезен для развития
медицины.
- И для меня. - Доктор Джойс смотрит на часы. - Хорошо, думаю, на
сегодня все. Запишитесь на завтра, просто на всякий случай, но, если никаких
снов не будет, позвоните, и мы отменим встречу. Согласны?
- Ну и ну! Да вы просто мигом обернулись, мистер Орр! И как оно прошло?
Как по маслу? - Безупречно вышколенный секретарь врача помогает мне надеть
пальто. - Не успели прийти и сразу уходите? А как насчет кофе?
- Нет, спасибо.
Я гляжу на мистера Беркли и полицейского - они снова в приемной. Мистер
Беркли в позе эмбриона лежит на боку, а охранник сидит в кресле и попирает
своего подопечного стопами.
- Мистер Беркли сегодня - пуфик для ног, - гордо сообщает мне
Молодой-Да-Ранний.
В просторных помещениях верхнего яруса высокие потолки, в безлюдных
коридорах широкие толстые ковры густо пахнут сыростью. На стенах - панели из
тика и красного дерева, в окнах - бронзовые рамы; стекла голубоватые, как
хрусталь с примесью свинца; за ними виднеется окутанное туманом море. В
стенных нишах, точно слепые призраки, старые изваяния давно забытых
бюрократов. Огромные, потемневшие от времени полотнища знамен наверху - как
тяжелые рыбацкие сети, развешенные на просушку. Их легонько колышет
прохладный сквозняк, тот самый, что шевелит древнюю пыль в сумрачных высоких
коридорах.
В получасе блуждания от клиники я обнаруживаю старый лифт напротив
гигантского круглого окна с видом на море. Окно ничто так сильно не
напоминает, как циферблат стеклянных часов без стрелок. Дверь в кабину
открыта, внутри на высоком стуле почивает седой старик. На нем длинная
бордовая ливрея с блестящими пуговицами, тонкие руки скрещены на животе,
окладистая борода распластана по груди, и в ритме дыхания поднимается и
опускается седая голова.
Я кашляю. Старик не просыпается. Я стучу по торцу дверной створки:
- Эй!
Он вздрагивает всем телом, отнимает руки от живота и, чтобы не полететь
со стула, хватается за рычаги управления лифтом. Щелчок, и створки идут
навстречу друг другу со стоном и скрипом. Но беспорядочно машущие руки снова
ударяют по медным рычагам, заставляя створки расступиться.
- Простите, сэр! Как вы меня напугали! Решил вздремнуть, а тут вы
пожаловали. Входите, сэр. На который вам этаж?
Просторный, с целую комнату величиной, лифт полон разномастных стульев,
щербатых зеркал и потускневших от пыли гобеленов. Если только это не трюк с
зеркалами, то лифт имеет в плане форму буквы "L". Иначе говоря, таких я еще
не видал.
- К поездам, пожалуйста.
- Сию секунду!
Престарелый лифтер цепляется морщинистой дланью за рычаги управления.
Створки двери скрежещут, стучат друг о дружку, но несколько толчков ладонью
и точно нацеленных ударов кулаком по медной пластине с рычагами помогают
лифтеру привести кабину в движение. Она погромыхивает, величаво идет вниз;
дрожат зеркала, дребезжит мебель, легкие скамьи и стулья пошатываются на
неровно постеленном ковре. Старец лихачески раскачивается на высоком стуле и
крепко держится за медный поручень под пультом управления. Я слышу, как
лязгают зубы моего попутчика. Я страхуюсь с помощью отполированного до
блеска поручня. Тот сильно разболтан - ходит ходуном. Где-то над головой -
жуткие звуки, словно рвется металл.
Изображая невозмутимость, читаю пожелтевшую инструкцию на стене. На ней
перечислены обслуживаемые этим лифтом этажи и находящиеся на них отделы,
службы и другие структуры. Один из верхних пунктов притягивает мое внимание
как магнитом. Эврика!
- Послушайте, - говорю старику. Он поворачивает голову, трясясь, как
паралитик, и глядит на меня. Я стучу по листу на стенке:
- Я передумал. Хочу вот на этот этаж. На пятьдесят второй. В Третью
городскую библиотеку.
Несколько секунд старик в отчаянии глядит на меня, потом берется
дрожащей рукой за дребезжащий рычаг и опускает его до отказа. После чего
судорожно хватается за бронзовый поручень и зажмуривает глаза.
С воем, скрежетом, стуком, тряской и боковой качкой кабина меняет свой
курс на противоположный. От ужасающего толчка я чуть не падаю, старик
слетает со своего высокого стула. Валятся и остальные стулья. Лопается
зеркало, с потолка срывается лампа и повисает на проводе, конвульсивно
дергаясь, точно висельник; это сопровождается градом штукатурки и пыли.
Мы останавливаемся. Старик сбивает ладонями пыль с плеч, поправляет
ливрею и шляпу, поднимает стул и нажимает какие-то кнопки. Мы движемся
вверх, причем довольно гладко.
- Простите! - кричу лифтеру. Он дико смотрит на меня, затем так же дико
озирается, словно пытается сообразить, вину в каком таком ужасном
преступлении я только что взял на себя. - Я не ожидал, что остановка и
перемена направления будут столь... драматичными, - выкрикиваю.
Он таращится на меня в полном недоумении, затем озирает дребезжащий
пыльный интерьер своего крошечного царства. Лифтер явно не в силах понять,
что меня так взволновало.
Мы останавливаемся. Лифт по прибытии не звенит, нет, - его колокол, чьи
мощь и тон уместней были бы в кафедральном соборе, сотрясает воздух в
кабине. Старик в страхе глядит вверх.
- Приехали, сэр!
Он открывает двери и отскакивает назад перед сценой кромешного хаоса. Я
несколько секунд изумленно пучу глаза, затем медленно выхожу из кабины.
Старый лифтер пугливо выглядывает из дверного проема.
Похоже, здесь произошла ужасная катастрофа. Огромный вестибюль усыпан
обломками, виден огонь, поваленные фермы, вперемешку - трубы и балки.
Грудами лежит битый кирпич, свисают порванные кабели. Мечутся люди в форме,
с пожарными шлангами, носилками и другими, неизвестными мне инструментами.
Повсюду висит густой дым. Взрывы, завывание сирен, визг клаксонов,
мегафонные вопли... Даже для наших несколько оглохших от колокола ушей этот
шум-гам невыносим. Что же тут происходит?
- Силы небесные! - Старый лифтер кашляет. - Не очень-то похоже на
библиотеку, а, сэр?
- Да уж... - соглашаюсь, наблюдая, как перед нами десяток пожарников
толкают какую-то штуковину вроде насоса по заваленному обломками полу. - А
вы уверены, что это тот самый этаж?
Лифтер сверяется с указателем этажей, бьет по защитному стеклу
артритным кулачком.
- Еще как уверен, сэр! - Он извлекает откуда-то очки, водружает на нос
и снова разглядывает указатель. Снаружи, в гуще проводов, что-то взрывается
с черным дымом и фонтаном искр; ближайшие люди спешат укрыться. Некто в
высокой шляпе и ярко-желтой форме замечает нас и машет мегафоном. Мы
остаемся на месте. Он направляется к нам, перешагивает через несколько
носилок с человеческими телами.
- Эй, вы! - кричит он. - Кто такие и кой черт вас сюда принес?
Мародеры? Некрофилы? А? Чего вам тут надо? А ну пошли вон!
- Я ищу Третью городскую архивно-историческую библиотеку, - отвечаю
хладнокровно.
Он машет мегафоном себе за спину, указывая на картину разрушения:
- А мы, по-твоему, чем занимаемся? Понял, кретин? А теперь вали отсюда!
- Он тычет мегафоном мне в грудь и уносится, словно ураган. Я вижу, как он
спотыкается о носилки с пострадавшим, а затем направляется к расчету
громадного насоса. Мы с лифтером переглядываемся. Он закрывает двери.
- Хамло и скотина. Верно, сэр? - Похоже, он немного расстроен. - Теперь
куда, сэр? К поездам?
- Гм... Ну да... Пожалуйста. - Снова берусь за держащийся на честном
слове медный поручень, и кабина несет нас вниз. - Интересно, что там
случилось-то?
Старик пожимает плечами:
- А бог его знает, сэр. На верхних уровнях чего только не случается.
Иногда такое увидишь... - Он качает головой, присвистывает сквозь зубы. - Вы
бы, сэр, наверное, не поверили.
- Да уж, - соглашаюсь уныло. - Мог бы и не поверить.
В полдень я выигрываю гейм в теннисном клубе, потом проигрываю.
Единственная тема разговора - самолеты и их дымовая тайнопись.
Большинство посетителей клуба - технократы и бюрократы - восприняли
загадочный полет как возмутительную выходку, "с которой необходимо что-то
делать". Я спрашиваю корреспондента газеты, не слышал ли он что-нибудь о
страшном пожаре на этаже, где должна находиться Третья городская библиотека,
но он даже о такой библиотеке не слышал, а уж о какой-то аварии на верхних
ярусах - и подавно. Но он попробует выяснить.
Из клуба я звоню в "Ремонт и техобслуживание" и рассказываю о своем
телевизоре и телефоне. Обедаю в клубе, а вечером иду в театр на какую-то
муть: дочка сигнальщика влюбилась в туриста, а тот оказался сыном
железнодорожного начальника да вдобавок обрученным - это он перед свадьбой
решил гульнуть "на стороне". После второго акта я ухожу.
Дома, когда я раздеваюсь, из кармана пальто выпадает бумажный комочек.
На нем смазанный рисунок - это регистраторша в больнице показывала, как
добраться до клиники доктора Джойса. Вот как он выглядит:
- Что делать? - спрашиваю. Все это как-то по-детски.
- Видите короткие черточки? Четыре на верхнем рисунке, пять - на
нижнем?
- Да.
- Дорисуйте стрелочки, чтобы получились соответствующие векторы силы.
Я открываю рот, чтобы спросить, но Джойс вскидывает руку:
- Больше я вам ничего сказать не могу. Не имею права давать подсказки
или отвечать на вопросы.
Я беру фломастер, пририсовываю, что велено, и отдаю альбом доктору. Он
глядит и кивает.
- Ну что? - спрашиваю.
- Что "ну что"? - Он достает из выдвижного ящика тряпку и протирает
страницу, а я кладу фломастер на стол.
- Я правильно сделал? Врач пожимает плечами.
- Что такое "правильно"? - грубовато спрашивает он, пряча альбом,
фломастер и тряпку обратно в ящик. - Будь это экзаменационный вопрос, я бы
счел, что вы с ним справились. Но мы не на экзамене по физике. Это всего
лишь психологический тест, и он должен был о вас кое-что рассказать. - Он
снова царапает в блокноте серебряным карандашом с выдвижным грифелем.
- И что же он обо мне рассказал? Джойс опять пожимает плечами, глядя в
свои записи.
- Не знаю, - отвечает он ворчливо. - Что-то должен был рассказать, но
что именно - не знаю. Пока.
Очень хочется садануть по его серовато-розоватому носу.
- Понятно, - киваю. - Что ж, надеюсь, я был чем-то полезен для развития
медицины.
- И для меня. - Доктор Джойс смотрит на часы. - Хорошо, думаю, на
сегодня все. Запишитесь на завтра, просто на всякий случай, но, если никаких
снов не будет, позвоните, и мы отменим встречу. Согласны?
- Ну и ну! Да вы просто мигом обернулись, мистер Орр! И как оно прошло?
Как по маслу? - Безупречно вышколенный секретарь врача помогает мне надеть
пальто. - Не успели прийти и сразу уходите? А как насчет кофе?
- Нет, спасибо.
Я гляжу на мистера Беркли и полицейского - они снова в приемной. Мистер
Беркли в позе эмбриона лежит на боку, а охранник сидит в кресле и попирает
своего подопечного стопами.
- Мистер Беркли сегодня - пуфик для ног, - гордо сообщает мне
Молодой-Да-Ранний.
В просторных помещениях верхнего яруса высокие потолки, в безлюдных
коридорах широкие толстые ковры густо пахнут сыростью. На стенах - панели из
тика и красного дерева, в окнах - бронзовые рамы; стекла голубоватые, как
хрусталь с примесью свинца; за ними виднеется окутанное туманом море. В
стенных нишах, точно слепые призраки, старые изваяния давно забытых
бюрократов. Огромные, потемневшие от времени полотнища знамен наверху - как
тяжелые рыбацкие сети, развешенные на просушку. Их легонько колышет
прохладный сквозняк, тот самый, что шевелит древнюю пыль в сумрачных высоких
коридорах.
В получасе блуждания от клиники я обнаруживаю старый лифт напротив
гигантского круглого окна с видом на море. Окно ничто так сильно не
напоминает, как циферблат стеклянных часов без стрелок. Дверь в кабину
открыта, внутри на высоком стуле почивает седой старик. На нем длинная
бордовая ливрея с блестящими пуговицами, тонкие руки скрещены на животе,
окладистая борода распластана по груди, и в ритме дыхания поднимается и
опускается седая голова.
Я кашляю. Старик не просыпается. Я стучу по торцу дверной створки:
- Эй!
Он вздрагивает всем телом, отнимает руки от живота и, чтобы не полететь
со стула, хватается за рычаги управления лифтом. Щелчок, и створки идут
навстречу друг другу со стоном и скрипом. Но беспорядочно машущие руки снова
ударяют по медным рычагам, заставляя створки расступиться.
- Простите, сэр! Как вы меня напугали! Решил вздремнуть, а тут вы
пожаловали. Входите, сэр. На который вам этаж?
Просторный, с целую комнату величиной, лифт полон разномастных стульев,
щербатых зеркал и потускневших от пыли гобеленов. Если только это не трюк с
зеркалами, то лифт имеет в плане форму буквы "L". Иначе говоря, таких я еще
не видал.
- К поездам, пожалуйста.
- Сию секунду!
Престарелый лифтер цепляется морщинистой дланью за рычаги управления.
Створки двери скрежещут, стучат друг о дружку, но несколько толчков ладонью
и точно нацеленных ударов кулаком по медной пластине с рычагами помогают
лифтеру привести кабину в движение. Она погромыхивает, величаво идет вниз;
дрожат зеркала, дребезжит мебель, легкие скамьи и стулья пошатываются на
неровно постеленном ковре. Старец лихачески раскачивается на высоком стуле и
крепко держится за медный поручень под пультом управления. Я слышу, как
лязгают зубы моего попутчика. Я страхуюсь с помощью отполированного до
блеска поручня. Тот сильно разболтан - ходит ходуном. Где-то над головой -
жуткие звуки, словно рвется металл.
Изображая невозмутимость, читаю пожелтевшую инструкцию на стене. На ней
перечислены обслуживаемые этим лифтом этажи и находящиеся на них отделы,
службы и другие структуры. Один из верхних пунктов притягивает мое внимание
как магнитом. Эврика!
- Послушайте, - говорю старику. Он поворачивает голову, трясясь, как
паралитик, и глядит на меня. Я стучу по листу на стенке:
- Я передумал. Хочу вот на этот этаж. На пятьдесят второй. В Третью
городскую библиотеку.
Несколько секунд старик в отчаянии глядит на меня, потом берется
дрожащей рукой за дребезжащий рычаг и опускает его до отказа. После чего
судорожно хватается за бронзовый поручень и зажмуривает глаза.
С воем, скрежетом, стуком, тряской и боковой качкой кабина меняет свой
курс на противоположный. От ужасающего толчка я чуть не падаю, старик
слетает со своего высокого стула. Валятся и остальные стулья. Лопается
зеркало, с потолка срывается лампа и повисает на проводе, конвульсивно
дергаясь, точно висельник; это сопровождается градом штукатурки и пыли.
Мы останавливаемся. Старик сбивает ладонями пыль с плеч, поправляет
ливрею и шляпу, поднимает стул и нажимает какие-то кнопки. Мы движемся
вверх, причем довольно гладко.
- Простите! - кричу лифтеру. Он дико смотрит на меня, затем так же дико
озирается, словно пытается сообразить, вину в каком таком ужасном
преступлении я только что взял на себя. - Я не ожидал, что остановка и
перемена направления будут столь... драматичными, - выкрикиваю.
Он таращится на меня в полном недоумении, затем озирает дребезжащий
пыльный интерьер своего крошечного царства. Лифтер явно не в силах понять,
что меня так взволновало.
Мы останавливаемся. Лифт по прибытии не звенит, нет, - его колокол, чьи
мощь и тон уместней были бы в кафедральном соборе, сотрясает воздух в
кабине. Старик в страхе глядит вверх.
- Приехали, сэр!
Он открывает двери и отскакивает назад перед сценой кромешного хаоса. Я
несколько секунд изумленно пучу глаза, затем медленно выхожу из кабины.
Старый лифтер пугливо выглядывает из дверного проема.
Похоже, здесь произошла ужасная катастрофа. Огромный вестибюль усыпан
обломками, виден огонь, поваленные фермы, вперемешку - трубы и балки.
Грудами лежит битый кирпич, свисают порванные кабели. Мечутся люди в форме,
с пожарными шлангами, носилками и другими, неизвестными мне инструментами.
Повсюду висит густой дым. Взрывы, завывание сирен, визг клаксонов,
мегафонные вопли... Даже для наших несколько оглохших от колокола ушей этот
шум-гам невыносим. Что же тут происходит?
- Силы небесные! - Старый лифтер кашляет. - Не очень-то похоже на
библиотеку, а, сэр?
- Да уж... - соглашаюсь, наблюдая, как перед нами десяток пожарников
толкают какую-то штуковину вроде насоса по заваленному обломками полу. - А
вы уверены, что это тот самый этаж?
Лифтер сверяется с указателем этажей, бьет по защитному стеклу
артритным кулачком.
- Еще как уверен, сэр! - Он извлекает откуда-то очки, водружает на нос
и снова разглядывает указатель. Снаружи, в гуще проводов, что-то взрывается
с черным дымом и фонтаном искр; ближайшие люди спешат укрыться. Некто в
высокой шляпе и ярко-желтой форме замечает нас и машет мегафоном. Мы
остаемся на месте. Он направляется к нам, перешагивает через несколько
носилок с человеческими телами.
- Эй, вы! - кричит он. - Кто такие и кой черт вас сюда принес?
Мародеры? Некрофилы? А? Чего вам тут надо? А ну пошли вон!
- Я ищу Третью городскую архивно-историческую библиотеку, - отвечаю
хладнокровно.
Он машет мегафоном себе за спину, указывая на картину разрушения:
- А мы, по-твоему, чем занимаемся? Понял, кретин? А теперь вали отсюда!
- Он тычет мегафоном мне в грудь и уносится, словно ураган. Я вижу, как он
спотыкается о носилки с пострадавшим, а затем направляется к расчету
громадного насоса. Мы с лифтером переглядываемся. Он закрывает двери.
- Хамло и скотина. Верно, сэр? - Похоже, он немного расстроен. - Теперь
куда, сэр? К поездам?
- Гм... Ну да... Пожалуйста. - Снова берусь за держащийся на честном
слове медный поручень, и кабина несет нас вниз. - Интересно, что там
случилось-то?
Старик пожимает плечами:
- А бог его знает, сэр. На верхних уровнях чего только не случается.
Иногда такое увидишь... - Он качает головой, присвистывает сквозь зубы. - Вы
бы, сэр, наверное, не поверили.
- Да уж, - соглашаюсь уныло. - Мог бы и не поверить.
В полдень я выигрываю гейм в теннисном клубе, потом проигрываю.
Единственная тема разговора - самолеты и их дымовая тайнопись.
Большинство посетителей клуба - технократы и бюрократы - восприняли
загадочный полет как возмутительную выходку, "с которой необходимо что-то
делать". Я спрашиваю корреспондента газеты, не слышал ли он что-нибудь о
страшном пожаре на этаже, где должна находиться Третья городская библиотека,
но он даже о такой библиотеке не слышал, а уж о какой-то аварии на верхних
ярусах - и подавно. Но он попробует выяснить.
Из клуба я звоню в "Ремонт и техобслуживание" и рассказываю о своем
телевизоре и телефоне. Обедаю в клубе, а вечером иду в театр на какую-то
муть: дочка сигнальщика влюбилась в туриста, а тот оказался сыном
железнодорожного начальника да вдобавок обрученным - это он перед свадьбой
решил гульнуть "на стороне". После второго акта я ухожу.
Дома, когда я раздеваюсь, из кармана пальто выпадает бумажный комочек.
На нем смазанный рисунок - это регистраторша в больнице показывала, как
добраться до клиники доктора Джойса. Вот как он выглядит:
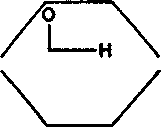 Рассматриваю, и чем-то он мне не нравится. Голова кружится, и комната
будто бы накренилась, словно я все еще в ветхой L-образной кабине лифта
рядом со стариком в ливрее, который совершает очередной опасный, не
предусмотренный инструкциями маневр. Мысли на миг расплываются и
смешиваются, как те дымные сигналы загадочных самолетов (и, обморочно
пошатываясь, я сам на мгновение кажусь себе чем-то дымным и бесформенным,
хаотичным и зыбким, как туманы, что клубятся у верхних ярусов
моста-исполина, покрывая влагой, точно потом, слои старой краски на его
фермах и балках).
Из этого странного ступора меня выдергивает звонок телефона. Я поднимаю
трубку, но слышу только знакомые регулярные гудки.
- Алло? Алло?
В ответ - гудки. Опускаю трубку. Телефон звонит снова, и все
повторяется. На сей раз я кладу трубку рядом с аппаратом и накрываю
подушкой. Включать телевизор даже не пытаюсь, знаю, что я там увижу.
Уже идя к кровати, замечаю, что все еще держу клочок бумаги. Я бросаю
его в мусорное ведро.
Рассматриваю, и чем-то он мне не нравится. Голова кружится, и комната
будто бы накренилась, словно я все еще в ветхой L-образной кабине лифта
рядом со стариком в ливрее, который совершает очередной опасный, не
предусмотренный инструкциями маневр. Мысли на миг расплываются и
смешиваются, как те дымные сигналы загадочных самолетов (и, обморочно
пошатываясь, я сам на мгновение кажусь себе чем-то дымным и бесформенным,
хаотичным и зыбким, как туманы, что клубятся у верхних ярусов
моста-исполина, покрывая влагой, точно потом, слои старой краски на его
фермах и балках).
Из этого странного ступора меня выдергивает звонок телефона. Я поднимаю
трубку, но слышу только знакомые регулярные гудки.
- Алло? Алло?
В ответ - гудки. Опускаю трубку. Телефон звонит снова, и все
повторяется. На сей раз я кладу трубку рядом с аппаратом и накрываю
подушкой. Включать телевизор даже не пытаюсь, знаю, что я там увижу.
Уже идя к кровати, замечаю, что все еще держу клочок бумаги. Я бросаю
его в мусорное ведро.