чем не думая... Пока однажды
он не дотронется до нее... И тогда -- раз, и . еще раз, и еще много-много
раз!"
Теперь все наши усилия сосредоточены на том, чтобы привести Машу в
порядок. Филмор считает, что, когда она вылечится, ее влагалище расширится.
Странная идея. Он купил ей спринцовку, перманганат, специальный шприц и все
прочее, что ему рекомендовал маленький венгерский жулик, специализирующийся
на абортах. По словам Филмора, его босс попал как-то в историю с
шестнадцатилетней девчушкой -- она-то и познакомила его с венгром, а потом,
когда босс подцепил великолепный шанкр, его опять лечил этот венгр. В Париже
знакомства и дружба завязываются чаще всего на почве секса и венерических
болезней. В общем, Маша сейчас лечится под нашим строжайшим надзором. Как-то
вечером она привела нас в полную растерянность. Она засунула в себя
суппозиторий и потеряла конец шнурка, прикрепленного к нему. "Боже мой! --
кричала она. -- Где же шнурок? Боже мой! Я не могу его найти!"
-- Ты смотрела под кроватью? -- ядовито спросил Филмор.
Наконец она нашла шнурок и успокоилась. Но только на несколько минут.
Следующее ее заявление было: "Боже мой, опять кровь! Только что кончились
месячные -- и пожалуйте! Это все от вашего дешевого шампанского! Боже мой,
вы хотите, чтобы я изошла кровью?" С этими словами она появляется в кимоно и
с полотенцем, зажатым между ногами, стараясь выглядеть аристократично, как
всегда. "У меня всю жизнь так, -- говорит она. -- Это неврастения. Бегаю
целыми днями и напиваюсь вечером. Когда приехала в Париж, я была девушкой. Я
прочла только Вийора и Бодлера. Но у меня было триста тысяч швейцарских
франков в банке, и я сходила с ума по удовольствиям, потому что в России
меня держали очень строго. Я была еще прекрасней, чем сейчас, и мужчины
падали к моим ногам... -- При этом она массирует свою округлившуюся талию.
-- Когда я приехала сюда, у меня не было живота... это все от того яда,
который здесь пьют... эти ужасные аперитивы, которые хлещут французы...
Тогда-то я и встретила своего режиссера, и он хотел, чтобы я играла в его
фильме. Он говорил, что я самое очаровательное существо в мире, и умолял
меня спать с ним каждую ночь. Я была глупенькой, невинной девушкой и
позволила ему изнасиловать себя. Мне хотелось быть актрисой, и я не знала,
что он болен... Это он наградил меня триппером... и сейчас я хочу вернуть
ему этот подарок. Это его вина, что я чуть не покончила с собой... Чего вы
смеетесь? Вы не верите, что я кончала самоубийством? Я могу показать вам
газеты... мой портрет был во всех газетах. Когда-нибудь я покажу вам русские
газеты... они замечательно все это описали... Но сейчас, мой дорогой, мне
прежде всего нужны новые платья. Не могу же я соблазнять своего режиссера в
этих обносках. И потом, я еще должна портнихе двенадцать тысяч..."
Тут Маша начинает длинный рассказ о наследстве, которое она хочет
прибрать к рукам. У нее есть молодой адвокат-француз, по ее словам, довольно
застенчивый человек, который ведет это дело. Время от времени он подкидывает
ей сотню-другую франков в счет будущего наследства. "Он очень скуп, как все
французы, -- говорит Маша. -- А я была так хороша,' когда пришла к нему, что
он не мог оторвать от меня глаз. Он все время просил, чтобы я дала ему...
Мне до того надоело, что однажды вечером я согласилась -- просто чтобы он
успокоился, а я и дальше изредка получала бы свои сто франков. -- Она
умолкает, потом начинает истерически хохотать. -- Дорогой мой, -- продолжает
она, -- то, что случилось, было безумно смешно! Однажды он звонит мне и
говорит: "Мы должны немедленно увидеться... это чрезвычайно важно!" Я
прихожу к нему, и он показывает мне медицинскую справку, что у него гонорея.
Я рассмеялась ему прямо в лицо. Ну откуда же мне было знать, что у меня еще
не прошел триппер? "Вы хотели, мсье, меня выебать, а выебала вас я!" После
этого он замолчал. Так всегда бывает в жизни... ничего не ожидаешь, и вдруг
-- трах! О, Господа, он такой идиот, что опять в меня влюбился и стал
умолять хорошо себя вести, не болтаться больше по Монпарнасу, не пить и не
блядствовать... Говорил, что без ума от меня. Хотел жениться, но семья
подняла дикий скандал и заставила его уехать в Индокитай..."
Закончив рассказ об адвокате. Маша совершенно спокойно переходит к
рассказу о приключении с лесбиянкой. "Это было так смешно, мой дорогой, как
она подобрала меня однажды ночью в кафе "Фетиш". Я, как всегда, была
абсолютно пьяна. Она стала таскать меня по разным кафе и щупать под столом.
В конце концов я не выдержала, и, когда она привезла меня к себе, я ей
позволила за двести франков. Она хотела, чтобы я переехала к ней, но мне
вовсе не улыбалось спать с ней каждую ночь... это очень ослабляет женщину.
Кроме того, сказать по правде, я не люблю сейчас лесбиянок так, как любила
их раньше. Я скорее уж буду спать с мужчиной, хотя мне и больно. Когда я
очень возбуждена, я не могу сдерживаться, мне нужно три, четыре, пять раз
подряд! Но потом у меня начинает идти кровь, а это очень вредно для здоровья
-- у меня предрасположение к малокровию. Вот почему я вынуждена позволять
лесбиянкам иногда cocaть меня.."
�12�
Когда наступили настоящие холода, княгиня исчезла. Ей было недостаточно
маленькой печурки в гостиной; спальня была как ледник, и кухня не теплее.
Только возле самой печки было тепло. Поэтому Маша нашла себе скульптора,
который, по его словам, был скопцом. Она рассказала нам об этом перед своим
отъездом. Через несколько дней Маша, правда, попыталась вернуться к нам, но
на сей раз Филмор был как гранит. Она жаловалась, что скульптор своими
поцелуями не дает ей спать по ночам. Кроме того, у него нет горячей воды для
подмывания. Но в конце концов она решила, что все-таки, может быть, ей лучше
не переезжать к нам обратно. "По крайней мере там хоть нет этого подсвечника
-- сказала она, имея ввиду Фидмора. -- Всегда этот подсвечник... он
действовал мне на нервы. Ах, почему вы не педерасты, я б тогда осталась с
вами..."
С отъездом княгини наши вечера стали другими. Часто мы сидели перед
огнем, потягивая горячий грог и вспоминая Америку. Мы говорили о ней так,
как будто совсем не собирались туда возвращаться.
Сейчас три часа ночи. С нами две шлюшонки, которые делают
сальто-мортале на полу. Филмор, совершенно голый, ходит вокруг них со
стаканом в руке. Его животик туг, как барабан, и тверд, как свищ. Все перно
и шампанское, коньяк и анжуйское, которые он хлестал с трех часов дня,
булькают в его брюхе, точно в канализационной трубе. Девочки прикладывают
ушки к его животу, точно это музыкальная шкатулка. Открой ему рот сапожным
рожком и брось жетон в эту щель, чтобы шкатулка заиграла. Когда начинается
бульканье в этой выгребной яме, я слышу, как летучие мыши срываются с
колокольни и мечта сползает в яму хитрости.
Девочки уже раздеты, и мы с Филмором изучаем пол, чтобы они не занозили
свои жопки. На них все еще туфли на высоких каблуках. Но их задницы!
Изношенные, выскобленные, начищенные наждачной бумагой, гладкие, твердые,
блестящие, точно бильярдный шар или череп прокаженного! На стене висит
портрет Моны -- она смотрит на северо-восток, где зелеными чернилами
написано "Краков". Слева от нее Дордонь, обведенная красным карандашом.
Внезапно я вижу перед собой темную волосатую расселину в блестящей
отполированной поверхности бильярдного шара:
ноги зажали мою шею борцовскими "ножницами". Один взгляд на эту темную
незашитую рану -- и голова моя раскалывается от образов и воспоминаний,
которые мною же самим были так трудолюбиво собраны, зарегистрированы,
записаны и разложены по папкам с ярлычками; все они выползают сейчас, как
муравьи из расселины в тротуаре; земля перестает вращаться, время
останавливается, причинная зависимость распадается, кишки вываливаются
наружу с какой-то дикой стремительностью, и их неожиданное выпадение
оставляет меня лицом к лицу с Абсолютом. Я снова вижу расплывшихся матерей
Пикассо с грудями, покрытыми пауками, и легендами, глубоко запрятанными в
лабйринте. И Молли Блум, лежащую на грязном матраце в бесконечности, и х..,
нарисованные красным мелом на двери уборной, и рыдающую Мадонну. Я слышу
дикий истерический смех, нижу заплеванную комнату -- и тело, которое было
черным, начинает мерцать фосфорическим блеском. Дикий, дикий, неудержимый
смех -- и эта расселина начинает тоже смеяться мне в лицо, она смеется
сквозь пушистые бакенбарды, и смех морщит складками блестящую поверхность
бильярдного шара. Великая блудница и матерь человеческая с джином в крови. Я
смотрю в этот кратер, в этот потерянный и бесследно исчезнувший мир, и слышу
звон колоколов... две монашки у дворца Станислава, запах прогорклого масла
из-под их одежды;
манифест, который не был опубликован, потому что шел дождь; война,
послужившая развитию пластической хирургии; принц Уэльский, летающий по
всему миру, чтобы украшать могилы неизвестных героев. Каждая летучая мышь,
срывающаяся с колокольни, -- это погибшее начинание, каждый торжественный
крик -- это стон, идущий из окопов обреченных. Из этой темной незашитой
раны, этой выгребной ямы, этой колыбели наводненных черными толпами городов,
где музыка мысли тонет в застывающем сале жизни, из задушенных утопий вдруг
появляется паяц, в котором соединились красота и безобразие, свет и хаос.
Когда он смотрит вниз и вбок -- это сам Сатана, а когда поднимает глаза к
небу, то видит масляного ангела, улитку с крылышками. Когда я смотрю вниз в
эту расселину, я вижу в ней знак равенства, мир в состоянии равновесия, мир,
сведенный к нулю без остатка.
Когда я смотрю вниз, в эту раздолбанную щель б...ди, я чувствую под
собой весь мир, гибнущий, истасканный мир, отполированный, как череп
прокаженного. Если бы кто-то посмел сказать все, что он думает об этом мире,
для него не осталось бы здесь места. Когда в мир является Человек, мир
наваливается на него и ломает ему хребет. Он не может жить среди этих все
еще стоящих, но подгнивших колонн, среди этих разлагающихся людей. Наш мир
-- это ложь на фундаменте из огромного зыбучего страха. Если и рождается раз
в столетие человек с жадным ненасытным взором, человек, готовый перевернуть
мир, чтобы создать новую расу людей, то любовь, которую он несет в мир,
превращают в желчь, а его самого -- в бич человечества. Если является на
свет книга, подобная взрыву, книга, способная жечь и ранить вам душу,
знайте, что она написана человеком с еще не переломанным хребтом, человеком,
у которого есть только один способ зашиты от этого мира -- слово; и это
слово всегда сильнее всеподавляющей лжи мира, сильнее, чем все орудия пыток,
изобретенные трусами для того, чтобы подавить чудо человеческой личности.
Если бы кто-то приподнял завесу над загадкой того, что сегодня называют
"щель" или "дыра", если б кто-то объяснил хотя бы частично ту тайну, которая
окружает явление, ^именуемое "непристойным", мир перестал бы существовать.
Этот непристойный, сухой, раздолбанный взгляд на вещи и придает нашей
сумасшедшей цивилизации форму кратера. Этот кратер и есть та великая зияющая
пропасть небытия, которую титаны духа и матери человечества носят между
ногами. Человек, чей дух жаден и ненасытен, человек, заставляющий визжать
всех этих подопытных кроликов, хорошо знает, что ему делать с энергией,
таящейся в половом влечении; он знает, что под панцирем безразличия всегда
можно найти безобразную глубокую незаживающую рану. И он знает, как
вонзиться в нее, как уязвить самые сокровенные ее глубины. Ему не нужны
резиновые перчатки. Он знает, что все, подвластное интеллекту, -- лишь
оболочка, и потому, отбросив ее, он идет прямо к этой открытой ране, к этому
гниющему непристойному cтpaxy. И даже если от этого совокупления родится
только кровь и гной, все равно в нем есть живое дыхание жизни. Сухой,
раздолбанный кратер, может быть, и непристоен. Паралич -- богохульство более
страшное, чем самое ужасное ругательство. И если в мире ничего не останется,
кроме этой открытой раны, мир будет жить, потому что она не бесплодна, хотя
и родит только жаб, летучих мышей и ублюдков.
В секунде оргазма сосредоточен весь мир. Наша земля -- это не сухое,
здоровое и удобное плоскогорье, а огромная самка с бархатным телом, которая
дышит, дрожит и страдает под бушующим океаном. Голая и похотливая, она
кружится среди облаков в фиолетовом мерцании звезд. И вся она -- от грудей
до мощных ляжек -- горит вечным огнем. Она несется сквозь годы и столетия, и
конвульсии сотрясают ее тело, пароксизм неистовства сметает паутину с неба,
а ее возвращение на основную орбиту сопровождается вулканическими толчками.
Иногда она затихает и похожа тогда на оленя, попавшего в западню и лежащего
там с бьющимся сердцем и округлившимися от ужаса глазами, на оленя,
боящегося услышать рог охотника и лай собак. Любовь, ненависть, отчаяние,
жалость, негодование, отвращение -- что все это значит по сравнению с
совокуплением планет? Что значат войны, болезни, ужасы, жестокости, когда
ночь приносит с собой экстаз бесчисленных пылающих солнц? И что же тогда
наши сновидения, как не воспоминания о кружащейся туманности или россыпи
звезд?
Иногда Мона, впадая в восторженность, говорила мне: "Ты большой
человек". И хотя она ушла, бросила меня погибать здесь, хотя она оставила
меня на краю завывающей пропасти, ее слова все еще звучат в моей душе и
освещают тьму подо мной. Я потерялся в толпе, шипящие огни одурманили меня,
я нуль, который видел, как все вокруг обратилось в издевку. Мона смотрела на
меня через стол подернутыми грустью глазами; тоска, которая росла в ней,
расплющивала нос о ее спину; костный мозг, размытый жалостью, превратился в
жидкость. Она была легка, как труп, плавающий в Мертвом море. Ее пальцы
кровоточили горем, и кровь обращалась в слюну. С мокрым рассветом пришел
колокольный звон, и колокола прыгали по кончикам моих нервов, и их языки
били в мое сердце со злобным железным гулом. Этот колокольный звон был
странен, но еще страннее было разрывающееся тело, эта женщина,
превратившаяся в ночь, и ее червивые слова, проевшие матрац. Я продвигался
по экватору, я слышал безобразный хохот гиен с зелеными челюстями, я видел
шакала с шелковым хвостом, ягуара и пятнистого леопарда, забытых в саду
Эдема. Потом ее тоска расширилась, точно нос приближающегося броненосца, и,
когда он стал тонуть, вода залила мне уши. Я слышал, как почти бесшумно
повернулись орудийные башни и извергли свою слюнявую блевотину; небо
прогнулось, и звезды потухли. Я видел черный кровоточащий океан и тоскующие
звезды, разрешающиеся вспухающими кусками мяса, и птицы метались в вышине, а
с неба свешивались весы со ступкой и пестиком и фигура правосудия с
завязанными глазами. Все, что здесь описано, движется на воображаемых ногах
по мертвым сферам; все, что увидено пустыми глазницами, буйно расцветает,
как весенние травы. Потом из пустоты возникает знак бесконечности; под
уходящими вверх спиралями медленно тонет зияющее отверстие. Земля и вода
соединяют цифры в поэму, написанную плотью, и эта поэма крепче стали и
гранита. Сквозь бесконечную ночь Земля несется к неизвестным мирам...
Сегодня утром я пробудился после глубокого сна с радостным проклятьем
на устах, с абракадаброй на языке, повторяя, как молитву:
Pay ее que vouldras!..Fay ce que vouldras![1] Делай что
хочешь, но пусть сделанное приносит радость. Делай что хочешь, но пусть
сделанное вызывает экстаз. Когда я повторяю эти слова, в голову мне лезут
тысячи образов -- веселые, ужасные, сводящие с ума: волк и козел, паук,
краб, сифилис с распростертыми крыльями и матка с дверцей на шарнирах,
всегда открытая и готовая поглотить все, как могила. Похоть, преступление,
святость, жизнь тех, кого я люблю, их ошибки, слова, которые они говорили,
слова, которые они не договорили, добро, которое они принесли, и зло, горе,
несогласие, озлобленность и споры, которые они породили. Но главное -- это
экстаз!
Яснее всего я вижу свой собственный череп, свой танцующий скелет,
подгоняемый ветром; мой язык сгнил, и вместо него изо рта выползают змеи и
торчат страницы рукописи, написанные в экстазе, а теперь измаранные
испражнениями. И я часть этой гнили, этих испражнений, этого безумия, этого
экстаза, которые пронизывают огромные подземные склепы плоти. Вся эта
непрошенная, ненужная пьяная блевотина будет протекать через мозги тех, кто
появится в бездомном сосуде, заключающем в себе историю рода человеческого.
Но среди народов Земли живет особая раса. она вне человечества, -- это раса
художников. Движимые неведомыми побуждениями, они берут безжизненную массу
человечества и, согревая ее своим жаром и волнением, претворяют сырое тесто
в хлеб, а хлеб в вино, а вино в песнь -- в захватывающую песнь, сотворенную
ими из мертвого компоста и инертного шлака. Я вижу, как эта особая раса
громит вселенную, переворачивает все вверх тормашками, ступает по слезам и
крови, и ее руки простерты в пустое пространство -- к Богу, до которого
нельзя дотянуться. И когда они рвут на себе волосы, стараясь понять и
схватить то, чего нельзя ни понять, ни схватить, когда они ревут, точно
взбесившиеся звери, рвут и терзают все, что стоит у них на дороге, лишь бы
насытить чудовище, грызущее их кишки, я вижу, что другого пути для них нет.
Человек, принадлежащий этой расе, должен стоять на возвышении и грызть
собственные внутренности. Для него это естественно, потому что такова его
природа. И все, что менее ужасно, все, что не вызывает подобного потрясения,
не отталкивает с такой силой, не выглядит столь безумным, не пьянит так и не
заражает, -- все это не искусство. Это -- подделка. Зато она, человечна.
Зато она примиряет жизнь и безжизненность.
__________
[1] Делай что хочешь! (старофранц.)
Сегодня я знаю свою родословную. Мне не надо изучать гороскоп или
генеалогическое древо. Я не знаю ничего, что записано в звездах или в моей
крови. Я знаю, что произошел от мифических основателей расы. Человек,
подносящий бутылку со святой водой к губам;
преступник, выставленный на обозрение на базаре; доверчивый простак,
обнаруживший, что все трупы воняют; сумасшедший, танцующий с молнией в руке;
священник, поднимающий рясу, чтобы нассать на мир; фанатик, громящий
библиотеки в поисках Слова, -- все они соединились во мне, от них моя
путаница, мой экстаз. И если я вне человечества, то только потому, что мои
мир перелился через свой человеческий край, потому, что быть человечным --
скучное и жалкое занятие, ограниченное нашими пятью чувствами, моралью и
законом, определяемое затасканными теориями и трюизмами. Я лью в глотку сок
винограда и нахожу в этом мудрость, но моя мудрость не связана с виноградом,
мое опьянение не от вина...
Может быть, для нас в мире не осталось больше надежды и мы обречены --
обречены все без исключения, если так, то соединим же наши усилия в
последний вопль агонии, вопль, наводящий ужас, вопль -- оглушительный визг
протеста, исступленный крик последней атаки. К черту жалобы! К черту
скорбные и погребальные песнопения! Долой жизнеописания и историю, музеи и
библиотеки! Пусть мертвые пожирают мертвых. И пусть живые несутся в танце по
краю кратера -- это их последняя предсмертная пляска. Но -- пляска!
"Я люблю все, что течет", -- сказал великий слепой Мильтон нашего
времени. Я думал о нем сегодня утром, когда проснулся с громким радостным
воплем; я думал о его реках и деревьях, и обо всем том ночном мире, который
он исследовал. Да, сказал я себе, я тоже люблю все, что течет: реки, сточную
канаву, лаву, сперму, кровь, желчь, слова, фраз. Я люблю воды, льющиеся из
плодного пузыря. Я люблю почки с их камнями, песком и прочими
удовольствиями; люблю обжигающую струю мочи и бесконечно текущий триппер;
люблю слова, выкрикнутые в истерике, и фразы, которые текут, точно
дизентерия, и отражают все больные образы души; я люблю великие реки, такие,
как Амазонка и Ориноко, по которым безумцы вроде Мораважина плывут сквозь
мечту и легенду в открытой лодке и тонут в слепом устье. Я люблю все, что
течет, -- даже менструальную кровь, вымывающую бесплодное семя. Я люблю
рукописи, которые текут, независимо от их содержания -- священного,
эзотерического, извращенного, многообразного или одностороннего. Я люблю
все, что течет, все, что заключает в себе время и преображение, что
возвращает нас к началу, которое никогда не кончается: неистовство пророков,
непристойность, в которой торжествует экстаз, мудрость фанатика, священника
с его резиновой литанией, похабные слова шлюхи, плевок, который уносит
сточная вода, материнское молоко и горький мед матки -- все, что течет,
тает, растворяется или растворяет; я люблю весь этот гной и грязь, текущие,
очищающиеся и забывающие свою природу на этом длинном пути к смерти и
разложению. Мое желание плыть беспредельно -- плыть и плыть, соединившись со
временем, смешав великий образ потустороннего с сегодняшним днем. Дурацкое,
самоубийственное желание, остановленное запором слов и параличом мысли.
�13�
Рождественским утром, едва забрезжил рассвет, мы вернулись с улицы
Одессы, прихватив с собой двух негритянок из телефонной компании. Мы так
устали, что сразу, не раздеваясь, повалились в постель. Моя партнерша,
которая весь вечер вела себя точно дикий леопард, заснула, пока я пытался ее
оседлать. Некоторое время я бился над ней, как над утопленником, вытащенным
из воды. Потом плюнул и тоже заснул.
Все праздники мы пили шампанское -- утром, днем и вечером; самое
дешевое и самое лучшее шампанское. После Нового года я должен был ехать в
Дижон, где мне предложили мелкую должность преподавателя английского языка в
рамках одного из так называемых франко-американских "обменов", которые, по
мысли их организаторов, должны углублять союз в взаимопонимание между
дружественными странами. Филмор был доволен больше, чем я, и не без причины.
Для меня же это было перемещение из одного чистилища в другое. У меня не
было никакого будущего; к тому же должность не предполагала жалованья.
Считалось, что я буду удовлетворен возможностью служить делу
франко-американской дружбы. Это было место для богатого маменькиного сынка.
Всю дорогу до Дижона я думал о своем прошлом. Я думал о словах, которые
мог бы сказать, но не сказал, о поступках, которые мог бы совершить, но не
совершил в те горькие тяжелые минуты, когда я, как червяк, извивался под
ногами чужих мне людей, прося корку хлеба. Я был трезв как стеклышко, но
чувство горечи от прошлых обид и унижений не покидало меня.
В своей жизни я много бродяжничал, и не только по Америке, заглядывал и
в Канаду, и в Мексику. Везде было одно и то же. Хочешь есть -- напрягайся и
маршируй в ногу. Весь мир -- это серая пустыня, ковер из стали и цемента.
Весь мир занят производством. Не важно, что он производит -- болты и гайки,
колючую проволоку или бисквиты для собак, газонокосилки или подшипники,
взрывчатку или танки, отравляющие газы или мыло, зубную пасту или газеты,
образование или церкви, библиотеки или музеи. Главное -- вперед! Время
поджимает. Плод проталкивается через шейку матки, и нет ничего, что могло бы
облегчить его выход. Сухое, удушающее рождение. Ни крика, ни писка. Salut au
monde! Салют из двадцати одного заднепроходного орудия. "Я ношу шляпу, как
это мне нравится, -- дома и на улице", -- сказал Уолт. Это говорилось еще в
те времена, когда можно было найти шляпу по размеру. Но время идет. Для того
чтобы найти шляпу по размеру сегодня, надо идти на электрический стул. Там
вам наденут железный колпак на бритую голову. Немного тесновато? Неважно.
Зато сидит крепко. _______________
[1] Привет миру! (франц.) -- поэма Уолта Уитмена.
Надо жить в чужой стране, такой, как Франция, и ходить по меридиану,
отделяющему полушарие жизни от полушария смерти, чтобы понять, какие
беспредельные горизонты простираются перед нами.
Электрическое тело! Демократическая душа! Наводнение! Матерь Господня,
что же означает вся эта ерунда? Земля засохла и потрескалась. Мужчины и
женщины слетаются, точно стаи ворон над вонючим трупом, спариваются и снова
разлетаются. Коршуны падают с неба, точно тяжелые камни. Клювы и когти --
вот что мы такое. Большой пищеварительный аппарат, снабженный насосом, чтобы
вынюхивать падаль. Вперед! Вперед без сожаления, без сострадания, без любви,
без прощения. Не проси пощады и сам никого не щади. Твое дело --
производить. Больше военных кораблей, больше ядовитых газов, больше
взрывчатки! Больше гонококков! Больше стрептококков! Больше бомбящих машин!
Больше и больше, пока вся эта ебаная музыка не разлетится на куски -- и сама
Земля вместе с нею!
Сойдя с поезда, я тут же понял, что совершил роковую ошибку.
Первый же взгляд, брошенный на лицей, заставил меня содрогнуться.
Некоторое время я в нерешительности стоял у ворот, размышляя, идти мне
дальше или повернуть назад. Но денег на обратный билет у меня не было, так
что вопрос носил чисто академический характер.
Отведенная мне комната была довольно большой, с маленькой печуркой в
углу. От печурки шла труба, изгибавшаяся под прямым углом как раз над
железной койкой. Возле двери стоял огромный ларь для угля и дров.
Оказалось, что обедать еще рано, и я повалился на кровать прямо в
пальто, а сверху натянул одеяло. Возле меня стояла неизменная шаткая
тумбочка с ночным горшком. Я поставил на стол будильник и стал следить за
движением стрелок. Печурка раскалилась докрасна, но теплее от этого не
стало. Я начал бояться, что засну и пропущу обед. Тогда придется ворочаться
всю ночь с пустым животом.
За несколько секунд до гонга я вскочил с кровати и, запрев дверь,
бросился во двор. Там я сразу заблудился. Четырехугольные здания и лестницы
походили друг на друга, как две капли воды. Вдруг я заметил энергичного
человека в котелке, шедшего мне навстречу. Я остановил его и спросил, как
пройти в столовую. Оказалось, что он-то мне и нужен. Это был сам господин
Директор. Узнав, кто я, он просиял и осведомился, хорошо ли я устроен в не
нуждаюсь ли в чем-нибудь. Я ответил, что все в порядке. Правда, в комнате
несколько прохладнее, чем хотелось бы, осмелился я добавить. Господин
Директор заверил меня, что для Дижона это весьма необычная погода. Иногда
бывают туманы и снегопад -- тогда действительно лучше какое-то время не
выходить и т.д. и т.п. Говоря все это, он поддерживал меня под локоток, и мы
шли по направлению к столовой. Господин Директор мне сразу понравился.
"Славный парень", -- думал я. Я даже предположил, что мы можем подружиться и
он в холодные вечера будет приглашать меня к себе на стакан грога. Множество
приятных мыслей пришло мне в голову по дороге к дверям столовой. Тут
господин Директор внезапно приподнял котелок, пожал мне руку и, пожелав
всего доброго, удалился. Я так растерялся, что тоже приподнял шляпу.
Но так или иначе, я нашел столовую. Она была похожа на ист-сайдскую
больницу -- белые кафельные стены, лампочки без абажуров, мраморные столы и,
конечно, огромная печь с причудливо изогнутой трубой. Обед еще не подали. В
углу толпилась кучка молодых людей, о чем-то оживленно разговаривающих. Я
подошел к ним и представился. Они приняли меня чрезвычайно радушно, даже
слишком радушно, как мне показалось. Я не мог понять, что это значит. В
столовую входили все новые и новые люди, и меня передавали все дальше и
дальше, представляя вновь пришедшим. Вдруг они окружили меня тесным кольцом,
наполнили стаканы и запели:
Однажды вечером -- извилист мысли путь!
-- Пришла идея: висельнику вдуть.
Клянусь Цирцеей -- тяжкая езда:
Повешенный качается, мудак,
Пришлось ебать его, подпрыгивая в такт.
Клянусь Цирцеей -- вечно все не так!
Ебаться в узкое подобие пизды --
Клянусь Цирцеей -- хрен сотрешь до дыр.
Ебать же непомерную лохань
-- Он скачет в закоулках, как блоха!
Дрочить вручную -- нудная труха...
Клянусь Цирцеей, вечно жизнь плоха.
________________
[1] Перевод с французского K-К.Кузьминского.
Эти надзиратели оказались веселыми ребятами. Один из них, по имени
Кроа, рыгал, как свинья, и всегда громко пукал, садясь за стол. Он мог
пукнуть тринадцать раз подряд, что, по словам его друзей, было местным
рекордом. Другой, крепыш по прозвищу Господин Принц, был известен тем, что
по вечерам, отправляясь в город, надевал смокинг. У него был прекрасный, как
у девушки, цвет лица, он не пил вина и никогда ничего не читал. Рядом с ним
сидел Маленький Поль, который не мог думать ни о чем, кроме девочек; каждый
день он повторял: "С пятницы я больше не говорю о женщинах". Он и Принц были
неразлучны. Был еще Пасселло, настоящий молодой прохвост, который изучал
медицину и брал взаймы у всех подряд. Он без остановки говорил о Ронсаре,
Вийоне и Рабле. Напротив меня сидел Моллес. Он всегда заставлял заново
взвешивать мясо, которое нам подавали, проверяя, не обжуливают ли его на
несколько граммов. Он занимал маленькую комнатку в лазарете. Его злейшим
врагом был господин Заведующий Хозяйством, что, впрочем, нисколько не
отличало его от остальных. Господина Заведующего ненавидели все. Моллес
дружил с Мозгляком. Это был человек с мрачным лицом и ястребиным профилем;
он берег каждый грош и давал деньги под проценты. Мне он напоминал гравюру
Дюрера -- соединение всех мрачных, кислых, унылых, злобных, несчастных,
невезучих и самоуглубленных дьяволов, составляющих пантеон немецких
средневековых рыцарей.
После обеда все они сразу же отправлялись в город. В лицее оставались
только дежурные по спальням. В центре города было множество кафе, пустых и
скучных, где сонные дижонские лавочники собирались поиграть в карты и
послушать музыку. Лучшее, что можно сказать об этих кафе, -- в них отличные
печки и удобные стулья. Незанятые проститутки за стакан пива или чашку кофе
охотно подсаживались к вашему столику поболтать. Но музыка была чудовищная.
В зимний вечер в такой грязной дыре, как Дижон, нет ничего хуже, чем звуки
французского оркестрика. Особенно если это один из унылых женских ансамблей.
Они не столько играли, сколько скрипели и пукали, но делали это в сухом
алгебраическом ритме и так монотонно, точно выдавливали зубную пасту из
тюбика. Отсипеть и отскрипеть за сколько-то франков в час -- и к черту
остальное! Грустно все это! Так же грустно, как если бы старик Евклид
глотнул синильной кислоты. Царство Идеи нынче настолько задавлено разумом,
что в мире ничто уже не способно породить музыку, ничто, кроме пустых мехов
аккордеона, из которых со свистом вырываются звуки, раздирающие эфир в
клочья. Говорить о музыке в Дижоне -- все равно что мечтать о шампанском в
камере смертников. Нет, к здешней музыке я был равнодушен. Более того, я
даже перестал думать о женщинах -- настолько все здесь было мрачно, холодно,
серо, безрадостно и безнадежно.
У меня была масса времени и ни гроша в кармане. Два-три часа в день я
должен был вести уроки разговорного английского -- вот и все. А зачем этим
беднягам английский язык? Мне было их жаль до слез.
Я начал с урока, посвященного физиологии любви. Рассказывал о том, как
происходит половой акт у слонов!. Мои слушатели были ошеломлены. После
первого урока английского ученики толпились у дверей, поджидая меня. Мы
великолепно поладили. Они задавали мне самые разнообразные вопросы, точно
только вчера родились, а я не просто не возражал, но даже приучал их
задавать мне самые щекотливые вопросы. Спрашивайте что хотите! -- таков был
мой лозунг. Я здесь полномочный представитель царства свободного духа. Я
здесь, чтобы пробудить ваше воображение. "В известном смысле, -- сказал один
знаменитый астроном, -- материальная вселенная как бы исчезает, подобно уже
рассказанной истории, рассеивается, подобно видению". Вот это общее мнение и
есть основа того, что называется образованием. Но я этому не верю. Я вообще
не верю тому, чем эти сукины дети норовят нас накормить.
Между уроками, если мне нечего было читать, я поднимался наверх
поболтать с классными наставниками. Эти люди были полными, абсолютными
невеждами -- особенно в области искусства. Они были почти так же
невежественны, как их ученики. Мне казалось, что я попал в маленький частный
сумасшедший дом, откуда нет выхода.
Бродя по двору с пустым брюхом, я начинал чувствовать себя слегка
помешанным. Как несчастный Карл Безумный, только у меня не было Одетт
Шандивер, с которой я мог бы сыграть в подкидного. Я должен был стрелять
сигареты у лицеистов и частенько жевал черствый хлеб на уроках. Моя печка
все время гасла, и скоро у меня не осталось щепок для растопки.
Чувство бесконечной бессмысленности охватывало меня всякий раз, когда я
подходил к воротам лицея. Снаружи он выглядел мрачным и заброшенным, внутри
-- заброшенным и мрачным. Сам воздух, казалось, был пропитан грязной
бесплодностью, туманом книжных наук. Шлак и пепел прошлого.
Через неделю после приезда мне уже казалось, что я здесь всю жизнь. Это
был какой-то липкий, назойливый, вонючий кошмар, от которого невозможно
отделаться. Думая о том, что меня ждет, я приходил в полуобморочное
состояние.
От тумана и снега, от этих холодных широт, от напряженных занятий, от
синего кофе и хлеба без масла, от супа из чечевицы, от бобов со свиным
салом, от засохшего сыра, недоваренной похлебки и мерзкого вина все
обитатели этой каторжной тюрьмы страдают запорами. И именно тогда, когда мы
начинаем лопаться от дерьма, замерзают сортирные трубы. Кучи дерьма растут,
как муравейники, и от холода превращаются в камень. По четвергам приходит
горбун с тачкой, скребком и щеткой и, волоча ногу, убирает эти замерзшие
пирамидки. В коридорах повсюду валяется туалетная бумага, она прилипает к
подошвам, как клейкая лента для мух. Когда на улице теплеет, запах дерьма
становится особенно острым. Утром мы стоим над этим спелым дерьмом с зубными
щетками в руках, и от нестерпимого смрада кружится голова. Мы стоим вокруг в
красных фланелевых рубахах и ждем своей очереди, чтобы сплюнуть в дыру;
похоже на знаменитый хор с наковальней из "Трубадура", только в
подтяжках. Ночью, когда у меня схватывает живот, я бегу вниз в сортир
господина Инспектора, около въезда во двор. Мой сортир не работает, а
стульчак всегда испачкан кровью. Сортир господина Инспектора тоже не
работает, но там можно хоть сесть.
Я слышу, как по коридору бегают крысы, как они грызут что-то над моей
головой между деревянными балками. Лампочка горит зеленовато-желтым светом,
и в комнате, которая никогда не проветривается, -- сладковатый тошнотворный
запах.
Я -- один с моим огромным пустым страхом и тоской. И со своими мыслями.
В этой комнате нет никого, кроме меня, и ничего, кроме моих мыслей и моих
страхов. Я могу думать здесь о самых диких вещах, могу плясать, плеваться,
гримасничать, ругаться, выть -- никто не узнает об этом, и никто не услышит
меня. Мысль, что я абсолютно один, сводит меня с ума. Это как роды. Все
обрезано. Все отделено, вымыто, зачищено; одиночество и нагота.
Благословение и агония. Масса пустого времени. Каждая секунда наваливается
на вас, как гора. Вы тонете в ней. Пустыни, моря, озера, океаны. Время бьет,
как топор мясника. Ничто. Мир. Я и не-я. Умахарумума. У всего должно быть
имя. Все надо выучить, попробовать, пережить.
В коей памяти возникают все женщины, которых я знал. Это как цепь,
которую я выковал из своего страдания. Каждая соединена с другой. Страх
одиночества, страх быть рожденным. Дверца матки всегда распахнута. Страх и
стремление куда-то. Это в крови у нас -- тоска по раю. Тоска по
иррациональному. Всегда по иррациональному. Наверное, это все начинается с
пупка. Перерезают пуповину, дают шлепок по заднице, и -- готово! -- вы уже в
этом мире, плывете по течению, корабль без руля. Вы смотрите на звезды, а
потом на свой собственный пуп. У вас везде вырастают глаза -- под мышками,
во рту, в волосах, на пятках. И далекое становится близким, а близкое --
далеким. Постоянное движение, выворачивание наизнанку, линька. Вас крутит в
болтает долгие годы, пока вы не попадете в мертвый, неподвижный центр, и тут
вы начинаете медленно гнить, разваливаться на части. Все, что от вас
остается, -- это имя.
�14�
Только весной мне удалось наконец вырваться из этой каторжной тюрьмы и
только благодаря счастливому обстоятельству. Карл написал мне, что в газете
освободилось место "на верхнем этаже" и что, если я хочу получить эту
работу, он пришлет мне деньги на проезд. Я немедленно телеграфировал Карлу
и, как только получил деньги, помчался на вокзал, не сказав ни слова
господину Директору и всем прочим. Я просто исчез.
Приехав, я тут же направился в гостиницу к Карлу. Он открыл мне дверь
совершенно голый. В постели, как всегда, лежала женщина. "Не обращай
внимания, -- сказал он. -- Она спит. Если тебе нужна баба, ложись с ней. Она
недурна". Он откинул одеяло, чтобы я мог ее увидеть. Однако в этот момент
меня занимало другое. Я был очень возбужден, как всякий человек, только что
сбежавший из тюрьмы, и мне хотелось все видеть и все слышать. Дорога от
вокзала теперь казалась мне длинным сном, а мое отсутствие -- несколькими
годами жизни.
Только сев и как следует осмотрев комнату, я наконец понял, что снова в
Париже. Сомневаться не приходилось -- это была комната Карла, похожая на
смесь беличьей клетки и сортира. На столе еле умещалась даже портативная
пишущая машинка, на которой он печатал свои статьи. У него так всегда,
независимо от того, один он или с бабой. Открытый словарь всегда лежал на
"Фаусте" с золотым обрезом, тут же -- кисет с табаком, берет, бутылка
красного вина, письма, рукописи, старые газеты, акварельные краски, чайник,
зубочистки, английская соль, грязные носки, презервативы и т.п. В биде
валялись апельсиновые корки и остатки бутерброда с ветчиной.
-- В шкафу есть какая-то еда, -- сказал Карл. -- Закуси. А я займусь
профилактикой.
Я нашел бутерброд и обгрызенный кусок сыра. Пока я уписывал бутерброд и
сыр, запивая их красным вином, Карл сел на кровать и вкатил себе здоровую
дозу аргирола.
-- Мне понравилось твое письмо о Гете, -- сказал он, вытираясь грязными
подштанниками. -- Я сейчас покажу тебе ответ -- я вставляю его в свою книгу.
Плохо, что ты не немец. Чтобы понять Гете, надо быть немцем. Я сейчас не
буду тебе это объяснять. Я обо всем этом напишу в своей книге... Между
прочим, у меня новая девица -- не эта, эта полоумная, -- по крайней мере
была до прошлой недели. Не знаю, вернется она или нет. Она жила здесь все
время, пока ты был в отъезде. Потом нагрянули родители и забрали ее с собой.
Они сказали, что ей всего пятнадцать. Представляешь себе? Я чуть в штаны не
наложил...
Я начал смеяться. Это очень похоже на Карла -- вляпаться в такую
историю.
-- Чего ты смеешься? Меня могут посадить в тюрьму. К счастью, я ее не
зарядил. И это странно, потому что она никогда не предохранялась. Ты знаешь,
что меня спасло? По крайней мере я так думаю. "Фауст"! Не смейся. Папаша
заметил его на столе. Он спросил меня, читаю ли я по-немецки. Потом начал
просматривать остальные книги. К счастью. Шекспир был тоже открыт. Это
произвело на него грандиозное впечатление. Он сказал, что, по его мнению, я
-- серьезный парень.
-- А сама девчонка? Она-то что сказала?
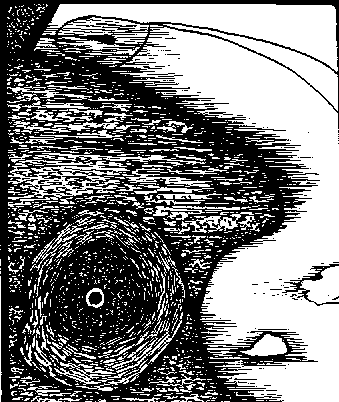 -- Она перепугалась насмерть. Понимаешь ли, когда она переехала ко мне,
у нее были небольшие часики; во всей этой суматохе мы не могли их найти, и
мать стала кричать, что, если я не найду часов, она вызове
-- Она перепугалась насмерть. Понимаешь ли, когда она переехала ко мне,
у нее были небольшие часики; во всей этой суматохе мы не могли их найти, и
мать стала кричать, что, если я не найду часов, она вызове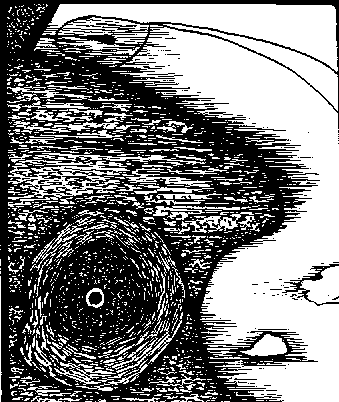 -- Она перепугалась насмерть. Понимаешь ли, когда она переехала ко мне,
у нее были небольшие часики; во всей этой суматохе мы не могли их найти, и
мать стала кричать, что, если я не найду часов, она вызове
-- Она перепугалась насмерть. Понимаешь ли, когда она переехала ко мне,
у нее были небольшие часики; во всей этой суматохе мы не могли их найти, и
мать стала кричать, что, если я не найду часов, она вызове