довать и эту
пустыню с ее бесполезной красотой. Его глаза стали искать подходящее место,
где можно было бы высадиться и вскарабкаться наверх.
Тщетная попытка!
Прозрачные стены фиорда отвесно уходили вглубь. Ни выступа, ни трещины:
два гладких ледяных зеркала от неба до зеленой пучины.
Мерно, едва уловимо покачивался ледяной плот. Фрам оттолкнулся лапой,
чтобы он вышел из фиорда и течение вынесло его к другому, более удобному для
высадки острову. Льдина накренилась, сделала полоборота и стала,
приткнувшись к прозрачной отвесной стене. Фрам уперся передними лапами и
оттолкнулся сильнее. Но вместо того чтобы направиться к выходу, льдина в
нерешительности остановилась посреди фиорда, закачалась, повернулась и не
спеша тронулась в глубь залива, в его скрытый от глаз конец.
Фрам вытянул лапы и положил на них морду.
В конце концов ему было все равно.
Пусть плывет куда хочет!
Полоска воды еще более сузилась. Свет стал слабее и мягче.
Потом ледяные стены вдруг раздвинулись, как полотнища занавеса.
Перед глазами Фрама открылась полого спускающаяся к воде полукруглая
котловина, окаймленная высокими ледяными берегами; она заканчивалась
настоящим пляжем.
Идеальное убежище, словно крепостной стеной защищенное от ветров и
океанских бурь, согреваемое полярным полуденным солнцем. Небольшой оазис
среди льдов, с пробивающейся сквозь снег травкой, с алыми и желтыми пятнами
полярных маков на зеленом бархате мха.
У самой воды стоял мальчик с удочкой.
Мальчик был одет в кожу и меха; на ногах у него были пимы -- меховые
сапоги выше колен. За поясом, в ножнах, нож по мерке хозяина; на голове --
непомерно большая меховая шапка. Лицо чугунно-бронзовое; глаза маленькие и
раскосые.
Мальчик так напряженно следил за своей удочкой, что не заметил
приближения льдины и поднял глаза лишь тогда, когда дрогнула вода.
Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам хорошо знал не
только свое клоунское ремесло, но и детей. Знал, что у него есть только один
способ рассеять страх рыболова.
Поэтому, не покидая своего ледяного плота, он принялся козырять,
кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже завертелся в вальсе.
Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Попятился, однако не
убежал.
Фрам продолжал представление, пока льдина не пристала к берегу.
Проделав великолепное сальто-мортале, он оказался рядом с маленьким
эскимосом. Тот уже раскаивался, что не бросился бежать, не позвал на помощь,
не поднял тревоги.
Но было слишком поздно.
Его ноги прилипли к земле. Голос замер в горле.
С легким вздохом он стал покорно ждать своей участи, ждать, когда
медведь, по своему медвежьему обычаю, навалится ему на грудь.
Удочка задрожала в руке. Мальчик выронил ее.
Он не смел даже нагнуться, чтобы ее поднять, так же, как не решался
бежать или крикнуть.
Фрам смотрел на него с нежностью.
Почему его так боится этот детеныш эскимоса? Ему неизвестно, что он,
Фрам, друг и радость детей? Вспомнив о своих далеких маленьких друзьях, Фрам
протянул лапу, собираясь погладить его по головке.
Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал
его последний час...
Но лапа легонько погладила сперва шапку, потом лицо мальчугана. Это
была ласка. Да, ласка! Никто и никогда еще не ласкал его так нежно в хижине,
приютившейся за обледенелой прибрежной скалой!
Мальчик с опаской открыл раскосые глаза. Нет, они не обманули его, и
это не сон: перед ним действительно медведь, самый настоящий белый медведь
из костей, мяса и шкуры. И медведь гладит его по голове!
Все было точь-в-точь, как в тех сказках, которые рассказываются в
хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Тогда все собираются
вокруг светильника с тюленьим жиром, и старики начинают сказку про
заколдованных медведей.
То прерываясь, то снова начинаясь, сказка неторопливо рассказывается
дремлющим дедом или бабкой, словно разматывается нитка с большого, путаного
клубка. И сказка эта похожа на все сказки мира.
Только там, в теплых странах, речь идет о садах с золотыми яблочками, о
медных лесах, о вещих конях и жар-птицах. Здесь же, в полярных льдах, о чем
рассказывать, как не о белых медведях?
И в самом деле, в эскимосских сказках всегда выступают заколдованные
медведи, которые были когда-то людьми и умеют говорить и у которых где-то,
еще севернее, есть свое медвежье царство.
Понемногу юный эскимос пришел в себя и осмелел. Значит, в сказках
говорится правда! -- обрадовался он. Есть такие медведи!
Словно угадав его мысли, Фрам отступил на шаг и показал три искусных
сальто-мортале, которые, он знал, безошибочно и навсегда завоевывают доверие
и любовь детворы.
Потом поднял лапой удочку и вложил ее в руку ошеломленного рыболова.
Сомнений больше быть не могло.
Это был настоящий заколдованный медведь!
Мальчик радостно засмеялся, раскрыв рот до ушей, и осмелился
дотронуться до шкуры Фрама: живой, всамделишный медведь! Не кусается, не
норовит повалить наземь и растерзать. Не ревет, а, наоборот, ласково гладит
по головке и показывает разные интересные штуки. Умеет прыгать через голову.
Во всем племени эскимосов не найти такого ловкача!
Такое чудо должны видеть и другие. Все остальные эскимосы, которые
сейчас зарывают в лед охотничью добычу за стойбищем, в другом конце
котловины. Мальчик рванулся было -- хотел сбегать туда и позвать их, -- но
Фрам остановил его, опять положив ему лапу на голову.
Ему была известна другая, более правдивая сказка, без заколдованных
медведей.
Сказка о том, как однажды охотник-эскимос застрелил медведицу, как
связанного медвежонка отнесли в стойбище и бросили в угол хижины; о том, как
он уцелел только благодаря счастливой случайности. Поэтому Фрам вовсе не
торопился знакомиться с родичами мальчика. Боялся как бы встреча не
кончилась плохо.
Повернув мальчику голову, он лапой подал ему знак стоять на месте.
Тот послушался, понимая, что заколдованному медведю нужно повиноваться.
Странным казалось только, почему он молчит. В стариковских сказках ясно
говорилось, что заколдованные медведи умеют петь, плясать и разговаривать.
Этот же всего только пляшет.
Чтобы узнать, говорит ли и этот медведь, он решил себя назвать:
-- Меня зовут Нанук. А тебя как?
Фрам заурчал в ответ. Когда-то его научили писать палочкой на песке:
"ФРАМ".
Но произнести свое имя было другое дело. Даром речи он не обладал. Он
был всего лишь дрессированным медведем, а не заколдованным.
Нанук был разочарован. Заколдованный медведь не разговаривает!
Он ждал большего. Впрочем, может быть, медведь говорит не на
эскимосском, а на другом языке, как говорят белолицые рыболовы и охотники на
тюленей, чьи корабли каждый год заходят в их фиорд, чтобы обменять крепкие
напитки, ружья, патроны, дробь, порох и бусы на шкуры белых медведей,
тюленей, песцов и черно-бурых лисиц. Такая возможность не была исключена.
На первых порах, желая удивить заколдованного медведя, он позвал его,
чтобы показать свои игрушки. Фрам последовал за ним вдоль изгиба бухты до
суженного льдами устья фиорда. Там у Нанука были спрятаны все его сокровища.
В тени, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, у него была построена из
льда и снега круглая хижина с ледяными окнами и входом, похожим на устье
печи, -- точная копия настоящих ледяных хижин, в которых живут эскимосы.
Маленькая хижина, построенная маленьким человеком.
Оттуда, засунув по локоть руку, Нанук вытащил пару маленьких,
вырезанных из кости, лыж. Потом коньки, тоже костяные. Рыболовные крючки,
клубок волосяной лески.
Желая убедиться, насколько восхищен Фрам, мальчик вскинул на него
глаза.
-- Погоди, это еще не все... -- сказал он. -- Приготовься увидеть
такое, чего ты уже наверно не ждал...
Из тайника в глубине маленькой хижины он вытащил ржавый нож с
отломанным концом, лук и стрелы с костяным наконечником, маленькое копье,
сделанное по образцу тех, которыми бьют тюленей, несколько стреляных гильз,
наконец пращу.
Достав все эти предметы, он разложил их рядком, поднялся на ноги и
уперев руку в бедро, стал ждать, что скажет, как выразит заколдованный
медведь свое изумление и одобрение.
Может быть, он думал, что одним мановением лапы тот обратит его игрушки
в настоящее, смертоносное оружие, которым охотились его отец и все его
родичи. Это вовсе не удивило бы его. Ведь именно так происходило в сказках о
заколдованных медведях! Когда встретишь такого медведя, достаточно пожелать
чего-нибудь, чтоб твое желание тотчас исполнилось. Его поэтому не удивило
бы, если бы его маленькая хижина вдруг выросла, лыжи и коньки тоже, потом
копье и лук со стрелами. Если бы сломанный нож обратился в грозный клинок, а
тот, что он носит за поясом -- другая железка, выброшенная за ненадобностью
кем-то в их хижине, -- в кинжал, которым убивают медведей.
Все это нисколько не удивило бы его.
Зато его очень удивило, что заколдованный медведь смотрит на его
сокровища совершенно равнодушно.
И в самом деле, Фрам смотрел на них с совсем другими чувствами, и,
обладай он даром речи, вероятно, мог бы много чего сказать по этому поводу.
Как непохожи были эти игрушки на те, которыми играли ребята в далеких
теплых странах!
Мячи. Серсо. Жестяные заводные автомобили. Триктрак. Разноцветные
кубики. Занимательные книжки с рассказами и с картинками. Плюшевые медведи с
бусинками вместо глаз. Смешные плюшевые обезьянки с музыкой в животе. Губные
гармошки. Паяцы на пружинах. Волшебные фонари. Воздушные шары... Да мало ли
еще чего!
Все игрушки Нанука представляли собой его будущее оружие. Оно еще не
было смертоносно, так как он изготовил его сам, по собственному разумению из
того, что было брошено другими.
Все они подражали настоящему охотничьему оружию, тому, которым ему
предстояло пользоваться через несколько лет, когда он начнет охотиться на
белых медведей, песцов и тюленей: ножи, топоры, копья, луки, стрелы...
Он жил, повинуясь суровым законам Заполярья, где охота и рыбная ловля
составляют основное занятие людей чуть не с младенческого возраста.
Так же, как и медвежонок, которого Фрам оставил на высоком берегу
острова, Нанук был прирожденным охотником.
Фрам еще раз погладил его по голове с нежностью, понятной только ему
самому.
-- Я вижу, ты ничего не говоришь, -- молвил разочарованный Нанук. --
Если ты действительно заколдованный медведь, обрати все это в охотничье
оружие. Ну пожалуйста!
Фраму хотелось ему удружить! Ему всегда было приятно доставлять ребятам
радость и удовольствие. Но этот эскимосский мальчик требовал от него
невозможного. Он попробовал развлечь его смешными цирковыми фигурами и
направить его мысли по другому руслу; отобрав у него удочку, он
сбалансировал ее на кончике носа; метнул ножом в цель, вонзив его в верхушку
игрушечной хижины из льда и снега.
Нанук не проявил особого восторга.
На что ему заколдованный медведь, который занимается шутовскими
выходками вместо того, чтобы обратить игрушечное оружие в настоящее?
Значит, это не заколдованный, а просто впавший в детство, поглупевший
медведь. Может, и вовсе лишившийся рассудка, вроде того выжившего из ума
старика в их стойбище, который то смеется, то плачет беспричинно. Зовут его
Бабук. Когда-то давно, рассказывают другие старики, он был самым искусным,
непревзойденным охотником, замечательным стрелком, рука которого ни разу не
дрогнула. Однажды он нашел на берегу выброшенный волнами ящик с какого-то
разбитого бурей корабля. В ящике оказались бутылки, а в бутылках жидкость,
которая обжигала глотку, как огонь. Охотник выпил одну бутылку, другую,
третью... Пил, пока не потерял рассудок. С тех пор он ни к чему не пригоден:
сторожит хижины, детей и женщин, когда мужчины уходят на охоту. Жалуется,
плачет, кривляется, поет, смеется, катается по земле, и никто уже больше не
спрашивает его, что ему надо. Все называют его дармоедом.
Таким был Бабук, наказание и позор своего племени. И именно таким
казался теперь мальчику этот медведь, который даже не был заколдованным:
самый обыкновенный белый медведь!
Отбросив всякую робость, Нанук посмотрел на Фрама с таким же
презрением, с каким смотрели в их племени на старого сумасшедшего Бабука.
Раз медведь этот не был заколдованным, он уже не внушал ему ни страха, ни
удивления. Какой от него прок, если он даже не умеет разговаривать, не в
силах обратить его игрушки в настоящее оружие, с которым можно было бы
побежать в стойбище и поразить всех, стариков и детей!..
Фрам почувствовал происшедшую в маленьком эскимосе перемену.
Он вопросительно заурчал, требуя, казалось, ответа:
-- Что у тебя на уме? Мне не нравится этот взгляд!
Действительно, Нанук теперь смотрел на него иначе.
В голове его зрела жестокая и честолюбивая мысль, достойная
прирожденного охотника.
В их племени убить белого медведя считалось подвигом, о котором все
потом рассказывали целый год, а то и два или больше, сопровождая рассказ
восторженными похвалами, потому что слава охотника растет пропорционально
числу убитых медведей. Что, если попробовать? Что, если спрятаться
куда-нибудь, наставить стрелу и пустить ее в глаз этому глупому,
сумасбродному медведю? Судя по виду, он особенно защищаться не станет. Одну
стрелу в глаз, другую в ухо. Это, он знал, самое верное. Все удивятся. Все
соберутся вокруг него. Не поверят своим глазам... Неужто Нанук один, без
чужой помощи, совершил такой подвиг?.. Потом все стойбище примется свежевать
добычу, и шкуру отдадут ему. Это его право! А мясо поделят между собой и
зароют в ледяном погребе, где прячутся запасы провизии на зиму, на долгую
полярную ночь. Нанук прославится на все племя. Его перестанут считать
ребенком. Молва о нем распространится и по другим племенам. И еще много,
много лет по всем эскимосским стойбищам будут говорить о его несравненном
подвиге. Еще бы! Мальчик убил медведя из игрушечного лука, игрушечной
стрелой! Чудесная сказка, которую сто лет кряду будут рассказывать старики
под вой пурги в бесконечные полярные ночи, когда вся семья собирается в
хижине вокруг плошки с тюленьим жиром.
Нанук приготовил лук, осмотрел стрелы с костяным наконечником.
Фрам смотрел на него непонимающими глазами.
В его взгляде было столько кротости, что маленький эскимос решил:
пожалуй, даже не стоит прятаться. Достаточно будет отступить на несколько
шагов, прицелиться, натянуть тетиву...
Мальчик попятился, изготовил лук.
Фрам наконец начал понимать. Его глаза загорелись хитринкой. Он смотрел
и ждал.
Нанук стрельнул. Прогудела тетива, засвистела стрела. Мальчик метил в
глаз. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее на лету,
как ловил на арене цирка брошенные ему апельсины.
Уверенность маленького эскимоса поколебалась. В голове мелькнула
тревожная мысль.
А если медведь и в самом деле заколдованный? Ведь он, Нанук, хорошо
целился. В этом он уверен -- недаром его считают лучшим среди всех ребят
племени стрелком из лука.
Стрела, вместо того чтобы вонзиться в глаз, оказалась у медведя в лапе.
И теперь медведь смотрит на него с упреком.
Не рычит, не бросается на него, чтобы раздавить лапой.
Гм! Непонятная история! Если это заколдованный медведь, что может
помешать ему мигом обратить своего обидчика в ледяную глыбу? Так в
стариковских сказках наказывают заколдованные медведи людей, когда хотят им
за что-нибудь отомстить. Посмотрят на него, сделают шаг вперед, остановятся
и опять посмотрят, -- смотрят, пока человек не застынет и не обратится в
льдину...
Рука Нанука дрожит на луке.
Но он упрям и хочет попробовать еще раз. Вскидывает лук, целится в
другой глаз, стреляет. Фрам ловит стрелу другой лапой.
Так и есть! Заколдованный медведь!
Медведь, который не боится стрел, который без всякого страха шутя
играет стрелами.
Разве может быть иначе? Как это он вообразил, что убьет такого
игрушечной стрелой? Медведь заколдованный. Никаких сомнений быть не может!
Мальчик оглянулся -- куда бежать? Но ноги его прикованы к земле. Их
приковал взгляд заколдованного медведя.
Фрам шагнул вперед.
Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой.
Нанук лишился голоса. Ему казалось, что он зовет на помощь, но голоса
своего он не слышал.
Настал смертный час.
Он ждал неминуемой гибели.
Первый взгляд заколдованного медведя обратит его ноги в лед до колен.
От второго он замерзнет по пояс. А от третьего превратится с головы до пят в
ледяную глыбу.
Когда охотники, которые сейчас зарывают в лед запасы мяса на зиму,
придут за ним, они найдут ледяного Нанука. И только так узнают, что здесь
побывал заколдованный медведь.
Теперь Фрама отделял от маленького эскимоса всего один шаг.
В глазах медведя не было гнева. Не было в них и колдовства, способного
обращать детей в ледышки. В них читалось лишь грустное удивление.
Ему хотелось проучить мальчика. Не очень строго, но все-таки проучить.
Он схватил его за шиворот. Нанук болтался в воздухе и молчал как рыба.
Может, он ждал, что его закинут в небо, где он приклеется к солнцу своими
кожаными штанишками.
Фрам хорошенько его встряхнул и несколько раз не очень сильно шлепнул
лапой пониже спины: он и сам, видно, не очень-то верил в пользу такого
наказания.
Потом поставил его на ноги. Нанук не смел пошевельнуться; и только с
врожденным коварством косился на него из-под опущенных ресниц.
Фрам подобрал лук, стрелы, копье, нож, изломал их на мелкие куски,
бросил широким веером в воду, а сам прыгнул на льдину, которая все еще
качалась у берега, и оттолкнулся лапой. Делать ему тут было нечего. Льдина
поплыла к устью фиорда.
По обе стороны высились хрустальные ледяные стены неописуемой красоты.
Сквозь них струился мягкий, ласковый свет. Все замерло в таинственной,
безмолвной неподвижности. .
Только его льдина неторопливо скользила между ледяных утесов, над их
отражением в глубине вод.
Все это было чудо как хорошо! Но покидая этот сказочный оазис,
затерянный среди полярной пустыни, незлобивый Фрам снова оставлял чуждый,
враждебный ему мир. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя
человечнее людей. Этого ему не прощали медведи, этого не могли понять многие
люди.
Вытянув лапы на своем прозрачном плоту, Фрам положил на них морду.
Хрустальные стены уходили все дальше и дальше...
А Нанук все еще стоял, как вкопанный, не решаясь ни бежать, ни подать
голоса.
Он только шевелил руками, словно желая удостовериться, что они еще не
оледенели, да еще тер кулаками глаза, чтобы убедиться, что все происшедшее
не было сном.
Когда наконец к нему вернулся голос, Фрам был уже далеко в открытом
море. Льдина несла его к другим островам.
А позже, когда Нанук рассказал о случившемся с ним неслыханном
происшествии, ему никто не поверил и он в скором времени прослыл таким
бессовестным лгунишкой, каких еще никогда не бывало среди ребят Заполярья.
 * * *
* * *
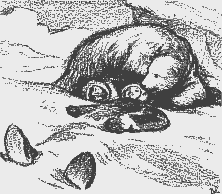 XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ревом перегонявший сугробы с одного
конца в другой. Над островами, разводьями и ледяными полями.
Двое подползли на четвереньках к вздыбленной льдине. Они надеялись
найти здесь убежище. Однако убежище оказалось обманчивым. Пурга заметала их
снегом, люди боролись с ней, стараясь не задохнуться. Но стоило высунуть из
сугроба голову, как в лицо им ударяла тонкая, словно толченое стекло,
колючая снежная пыль и забивала глаза и рот.
Их все больше сковывал мороз.
-- Эгон, ты еще чувствуешь руки?
-- Нет, Отто, давно уже не чувствую. Ни рук, ни ног...
Им приходилось кричать: из-за воя пурги они не слышали друг друга.
Усилие это было мукой для изнуренных, обессилевших людей.
-- Хлопай в ладоши, Эгон! Хлопай, не переставая, в ладоши. Шевели
пальцами, разгоняй кровь! Если кровь застынет -- конец!
Его товарищ только простонал в ответ.
Некоторое время оба молчали.
Слышалась лишь дикая свистопляска пурги, тараном бившей в торос, под
которым они искали защиты, и крутившей смерчи из стеклянистой снежной пыли.
-- Эгон... Слышишь, Эгон? Я думаю о том, что меня дома ждут двое ребят.
Никогда я их больше не увижу! Никогда... Марии скоро будет два года. Через
две недели... Она забудет слово "папа". Слышишь, Эгон? Она забудет слово
"папа"...
Эгон попробовал ответить, но пурга заткнула ему рот, залепила глаза.
Да и стоило ли говорить? Что он может сказать?
И его дома ждет дочка. Может, она сейчас греется у открытой печки и
думает об отце: "Что-то он теперь делает, мой папа?" Или разучивает
экзерсисы на фортепьяно... Она уже большая. Ей минуло семь. Ходит в школу.
Ее фотография спрятана у него между крышками часов. Но к чему сейчас все эти
воспоминания? Все потеряно! Разумнее просто ждать смерти, потому что
спасение невозможно; оно не может прийти ниоткуда, ни от кого.
Неделю назад под ними вдруг треснул лед. То, что последовало,
приготовило им эту приближавшуюся теперь смерть. Лед словно по велению злых
духов разверзся. Нарты, собак, ружья и патроны, меховые спальные мешки и
мешки с провизией -- все поглотила зеленая пучина океана... В тот же миг
полынья закрылась, а они остались в чем были, в легкой одежде, без оружия,
на пустынном ледяном поле.
Сперва они обменялись полными ужаса взглядами. Смерили глазами дали,
небо с высоко стоявшим солнцем. Потом к ним вернулось мужество -- они были
не из тех, что сдаются без борьбы.
-- До берега двое суток хода, -- сказал Отто. -- Мы шли оттуда двое
суток, не торопясь. Если мы тронемся сейчас же и будем идти, без остановки,
есть надежда дойти. Приключение, как многие другие. Будет о чем рассказывать
дома. Вспомни Нансена. Сколько он вытерпел, в каких только передрягах ни
бывал, а надежды никогда не терял. Небо ясное. Сорокавосьмичасовая прогулка
без еды и без отдыха тебя, я думаю, пугает так же мало, как и меня, Эгон.
Верно ? Мы с тобой бывали в худших переделках.
Они были закадычными друзьями и занимались охотой на белых медведей.
Уже много лет они охотились вместе в полярных льдах. Жили в разных
городах, а встречались всегда в одном и том же порту перед самым отплытием
на Север. Потом пять, а иногда и шесть месяцев жили жизнью, неизвестной
соотечественникам в далеких городах. Приключения, опасности, общие радости и
успехи связали их тесной дружбой, сделали братьями.
Рыболовное судно доставляло их на остров, где водились белые медведи.
Они построили себе там хижину и из года в год находили ее нетронутой. Она их
ждала. Там у них были теплые меховые постели и вдоволь провизии, были лампы
и книги. Тут же была устроена кладовая шкур, а рядом -- клетка для белых
медвежат.
Корабль высаживал их на берег в начале полярного дня и уходил дальше.
То же судно забирало их на обратном пути со всей добычей: шкурами убитых ими
белых медведей, песцов и черно-бурых лисиц и пойманными ими белыми
медвежатами, которых они потом продавали зоопаркам, зверинцам и циркам. В
редких случаях их доставлял на остров пароход. Это бывало тогда, когда
организовывался туристский рейс вроде того, недавнего, когда они захватили с
собой Фрама и высадили его на пустынном острове по поручению цирка
Струцкого.
Но промысловое судно неизменно заходило за ними и ждало их у острова в
конце каждой полярной осени, перед тем, как начинались вьюги и океан
покрывался ледяным панцирем. В этом году добыча была богаче обычного,
кладовая набита мехами, а в клетке сидели три белых медвежонка.
До прихода корабля оставалось еще две недели. Время проходило
незаметно. Друзья строили планы на те шесть месяцев, которые им предстояло
провести дома, в теплых странах. Там их ждут дети, которым они будут
рассказывать о своих удивительных приключениях. Этим летом они привезли с
собой в Заполярье радиоприемник и часто слушали голоса далекого мира.
Концерты, хоровое пение, известия о разных празднествах и переменах
правительств. Собаки у них были сытые, гладкие и веселые: сибирские псы,
привычные к морозу и нартам. Ничто, казалось, не угрожало благополучию
охотников.
Год этот отличался редким изобилием дичи; охота была успешной.
Оба мечтали о теплых морях, на берегах которых цветут апельсинные
деревья и зреют сочные золотистые плоды. Оба стосковались по дому, по детям,
садам, где благоухают розы.
Особенное нетерпение выказывал Эгон. Ему казалось, что они с Отто
обленились и начинают жиреть.
-- Почему бы нам не отправиться в дальний конец острова? -- предложил
он товарищу. -- Ведь нам здесь сидеть еще целых две недели. Почему бы не
провести кое-какие наблюдения и исследования? Научные общества скажут нам
спасибо... А то живем как пенсионеры!..
-- Будь по-твоему! -- согласился Отто.
Они всегда понимали друг друга с двух слов.
Приготовления длились недолго: положили белым медвежатам в клетку корма
на неделю, погрузили на нарты провизию, ружья, патроны, запрягли собак и
пустились в путь. Все предвещало приятное и веселое путешествие. Никаких
хлопот и осложнений не предвиделось.
Недалеко от их острова лежал другой, поменьше.
Там они еще издали увидели в бинокль двух разгуливающих у берега
медведей.
-- Эти будут наши! -- сказал Эгон, радостно потирая руки.
-- Ну-с, господа белые медведи, готовьтесь расстаться со шкурой! --
прибавил Отто. -- Мы сейчас пошлем вам по маленькой пульке, от которой у вас
зачешется в ушах.
С острова на остров перешли по льду. Охота удалась на славу. Два
выстрела, два убитых медведя, две навьюченные на нарты шкуры.
А как насчет ученых наблюдений?
Ими была исписана целая тетрадка. Нет, друзья не потеряли времени зря!
Беда подстерегала их на обратном пути. Лед треснул, и открывшаяся
полынья поглотила и собак, и нарты с провизией, ружьями, патронами и еще
теплыми шкурами. Поглотила и тут же закрылась, как ящик, ледяной крышкой.
Оба они были сильные и мужественные, закаленные полной риска и
неожиданностей жизнью. И хотя у них невольно сжалось сердце, они подсчитали,
что до хижины всего сорок восемь часов ходу, если идти прямо и без
остановок, и, не долго думая, выступили в поход.
-- Хорошо еще, что у меня уцелели трубка и спички! -- сказал Эгон и
даже попробовал рассмеяться.
Он закурил. Шли, посвистывая.
Потеряны были ружья, патроны, провизия, тетрадь с записями, две
великолепные медвежьи шкуры, нарты.
Печальнее всего была гибель собак. Псы эти были верными товарищами
охотников, послушные, смелые, привычные к условиям полярной жизни. Не раз
они вместе выходили из трудных, опасных положений. Собаки погибли, и их
смерть омрачила обратный путь охотников.
Эгон перестал свистеть.
-- Мне особенно жаль Сибирь! -- сказал он вполголоса. -- Помнишь, как
она спасла меня два года назад от белого медведя, который повалил меня и
вцепился мне в плечо? Шрам остался до сих пор. Сибирь впилась ему в глотку.
Дед Мартын отпустил меня, чтобы разделаться с псом. Я вскочил на ноги,
схватил ружье... Бац! Медведь перекувырнулся через голову и растянулся на
снегу...
Отто не слушал его. Остановившись, он тревожно вглядывался в небо. Дул
северный ветерок, и там, на севере, над горизонтом темнели свинцовые тучи.
-- Дело дрянь!.. -- сказал Отто и покачал головой.
Эгон промолчал. Оба ускорили шаг.
Но надвигавшаяся пурга была проворнее их.
Она догнала охотников. Через час уже нельзя было отличить небо от
ледяного покрова океана. Впереди не было видно ни зги. Они спотыкались,
падали, поднимались, ослепленные колючей, как стекло, снежной пылью. Скоро
обнаружилось, что вместо того чтобы подвигаться вперед, они кружат на месте.
Другого выхода, как укрыться за торосом, не было. Пурга крепчала...
Потянулись длинные часы... В ушах все так же свистел ветер, все так же
хлестали в лицо волны колючего снега. Руки и ноги немели. Охотники не могли
больше двигаться. Они медленно замерзали. Их ждала страшная смерть,
превращающая тело в ледяную глыбу.
Наконец стихия угомонилась, ветер стих. Еще один порыв, и небо вдруг
очистилось. Засияло клонившееся к западу солнце.
Охотники прислушались, подняли головы, то есть попытались встать. Увы,
их мышцы отказались повиноваться. Головы беспомощно упали на снег.
Изнуренные голодом, полузамерзшие, друзья были не в силах двинуться,
покинуть снежное ложе.
-- Ее зовут Мария... Она забудет слова "папа"... -- начал бредить Отто.
Потом уставился остекленевшими, вытаращенными глазами в стеклянное
небо.
Эгон лежал на боку и не видел неба. Перед ним расстилался обледенелый,
заснеженный остров, в дальнем конце которого находилась их хижина с теплыми
меховыми одеялами, запасом провизии и приемником, которому теперь уже не для
кого будет принимать из эфира позывные далекого мира.
Из глаз Эгона катились слезы и замерзали на щеках.
Но вдруг в его поле зрения возникло не иначе, как бредовое видение.
Прямо на них шел белый медведь. Но вместо того чтобы идти, как все
медведи, на четырех лапах, этот двигался прыжками, кувыркался через голову,
отдавал честь, вертелся в вальсе или шел как на параде, печатая шаг...
Эгон закрыл глаза.
Уж если начинаются галлюцинации, значит, близок конец, подумал он, и
стал ждать смерти -- жуткой смерти от мороза, когда после обманчивых видений
в сердце застывает кровь.
Едва показавшись из-под век, слезы превращались в ледяные шарики.
Дочка... Может быть, она сейчас беззаботно разыгрывает гаммы. Или
разглядывает альбом с фотографиями... Смотрит на его фотографию, которая
висит на стене. "Мамочка, как ты думаешь, папа привезет белого медвежонка,
которого он мне обещал?.. -- может, спрашивает она. -- Скажи, мамочка!..
Чего ж ты плачешь?..
Эгон почувствовал, что он погружается в тот глубокий сон, от которого
еще никто не пробуждался...
Но щеку его вдруг обдало горячее дыхание; теплый, влажный нос коснулся
его лица.
Медведь толкал человека, удивляясь его неподвижности, лизал ему щеки,
глаза, нос, пятился и, выждав немного, снова принимался лизать. Он никак не
мог понять, отчего эти люди лежат пластом, почему молчат, не просыпаются, не
поднимают рук.
Это было непонятно.
Запах их он узнал издалека. Чутье, обманывавшее его, когда речь шла о
зверях, издали возвестило ему, что здесь люди, люди из далеких, теплых
стран. Учуяв их, он побежал во всю прыть, чтобы принять дорогих гостей,
доказать им свою дружбу, приветствовать их веселым кувырканием и
сальто-мортале, что, наверно, доставит им удовольствие, чтобы отдать им
по-военному честь. И вдруг нашел их в таком странном состоянии.
Фрам отступил на три шага и замер, приложив лапу к виску:
-- Ну, же, люди!.. Меня запросто не проведешь!
Он уже узнал в одной из лежащих фигур того самого охотника, который
когда-то сопровождал его на пароходе и выпустил на свободу на пустынный
остров, позаботившись оставить на первое время запас провизии в расселине
скал. Другого способа выразить радость встречи, кроме клоунских прыжков и
кувыркания, у него не было.
Эгон открыл глаза и собрал последние силы:
-- Отто! Это же Фрам! Фрам!.. Ты слышишь меня? Фрам, из цирка
Струцкого!
-- Ее зовут Мария... -- бредил Отто. -- Она уже никого больше не
назовет папой. Она забудет это слово...
Он ничего не слышал. Он смотрел в пустое небо пустыми глазами. Только
теперь развитому общением с людьми медвежьему разуму открылся смысл
происходящего.
Не мешкая, Фрам отгреб лапами снег, уложил охотников рядом, а сам
улегся на них, согревая их своим мехом. Этому он научился в молодости от
своего дрессировщика, выступая в пантомиме. Охотники уже настолько
отрешились от всего земного и были настолько обессилены, что даже не
пытались понять, что с ними делается. Белый медведь. Правда, он когда-то
выступал в пирке, но с тех пор, конечно, одичал; чего от него ждать?
Оба много лет кряду убивали белых медведей. Теперь настал их черед.
Безоружные, обессиленные, они попались в лапы белого медведя и станут его
добычей. Но почему же он медлит, почему клыки его еще не раздробили им
черепа, как моржам и тюленям? Уж кончал бы скорее, настал бы конец этой
муке!..
-- Ее зовут Мария... -- продолжал бредить один. -- Ей скоро исполнится
два года... Она никогда больше не скажет слово "папа", никогда...
Другой повторял, как заведенный:
-- Это Фрам... Я хорошо его помню... Фрам со своими прыжками. Ну же,
Фрам, скорей... Терзай нас, кусай... Приканчивай!.. Сжалься над нами, Фрам,
не томи понапрасну, кончай разом!..
Их голоса понемногу стихли. Бред перешел в сон. Странный сон. Сон,
принесший тепло. Может, это и есть смерть? Так, говорят, умирают
замерзающие. Сначала коченеют руки и ноги, потом в жилах застывает,
останавливается кровь. А человеку, между тем, снится, что ему тепло, он
чувствует жар в лице, в груди, в глазах...
Таким был и этот сон. Сколько он длился? Целую вечность... Открыв
наконец глаза, они почувствовали на груди тяжесть теплой медвежьей шубы.
Попробовали шевельнуть руками, потом ногами. Руки слушались. Ноги тоже.
-- Эгон!
-- Отто!
Это были их голоса. Оба слышали и узнавали свой голос.
Значит, это не смерть. Не глубокий, беспробудный сон замерзающих.
Давившая на них шуба задвигалась. Поднялась сама. Их грело живое
одеяло.
Фрам стал сначала на все четыре лапы, потом поднялся на задние и
церемонно отдал честь.
Воскресшие охотники приподнялись на локтях, переглянулись и уставились
на медведя.
-- Дай-ка трубку, Отто! Все это кажется мне сном. Только трубка решит
загадку, жив я или мертв!..
Эгон и в самом деле ощупывал себя, желая убедиться, что он жив. Как
будто все было в порядке. Руки действовали, ноги тоже. С ни с чем не
сравнимым удовольствием он хрустнул суставами пальцев. А цирковой медведь
все еще стоял навытяжку, приложив лапу к голове.
-- Фрам и есть! Я ж тебе сразу сказал, что это Фрам!..
Эгон вскочил на ноги. Его шатало от голода. Он прислонился к торосу,
потом подошел заплетающимися шагами к своему избавителю.
Язык еще плохо слушался, не мог выразить мыслей, которые рождались и
росли в усталом мозгу.
-- То, что ты сделал, Фрам... То, что ты сделал, Фрам!.. -- повторил он
несколько раз, потом зарыл лицо в косматой белой шкуре и заплакал, как
ребенок.
Отто тоже поднялся.
Оба медвежатника стояли теперь, беспомощно прислонясь к груди
медведя...
Фрам осторожно отстранил их лапой. Он привык иметь дело с сильными и
гордыми людьми. Да и понимал, казалось, что сейчас не время лить слезы. У
него поблизости берлога с запасами -- добычей, отобранной у других медведей
уже известным нам способом: клоунскими прыжками и сальто-мортале, неизменно
обращавшими хозяев добычи в бегство.
Туда он и приглашал охотников.
-- Что нам делать? -- спросил Отто.
-- По-моему, его знаки имеют определенный смысл, -- ответил Эгон.
-- Держу пари, что он приглашает нас обедать... Что меня вовсе не
удивило бы!..
Он оказался прав.
Обед, который Фрам предложил своим гостям, был скромен и состоял всего
из одного блюда: тюленьего мяса, его ежедневного меню.
Охотники наелись. У них прибавилось сил. Они начали с беспокойством
поглядывать на запад, где солнце уже клонилось к горизонту. Наступали
полярные сумерки.
Это была последняя неделя полярной навигации, последняя неделя, когда
суда еще решались бороздить пустынный Ледовитый океан.
Охотниками овладела тревога: а что, если промысловое судно уже прибыло
и уйдет, не дождавшись их?
Медлить было нельзя. Взвалив на плечи по куску мороженого тюленьего
мяса, они направились в конец острова.
-- Лишь бы не повстречаться с белым медведем! -- сказал Отто, --
Безоружных, он съест нас за милую душу.
Эгон показал на Фрама, который, как огромный пес, шел рядом с ними,
покачиваясь на четырех лапах.
-- Пока этот попутчик с нами, бояться нечего!.. Уверен, что он умеет
обращаться со своими родичами. Верно, Фрам?
Услышав свою кличку, Фрам поднялся на задние лапы, козырнул, как
солдат, который говорит: "Рад стараться!", потом вернулся в прежде положение
и пошел дальше.
И если он не мог выразить это словами, то всем своим видом показывал,
что для родичей у него действительно есть средство, но куда более
безобидное, чем пули, которыми пользуются люди.
Обратный путь занял не сорок восемь, а все шестьдесят часов: усталость
заставляла охотников часто останавливаться и отдыхать.
Корабль еще не прибыл. Зато друзей ждала их хижина с теплыми меховыми
одеялами и приемником. И трое белых медвежат в клетке, которые жалобно
скулили от голода.
Фрам несколько раз обошел вокруг клетки. Сердито ворча, посмотрел на
людей, посмотрел на дверцу, потом тихонько отодвинул засов. Медвежата не
решались выйти. Фраму пришлось вытаскивать их по одному зубами. Вытащив
последнего, он дал каждому пинка: ступайте, мол, на все четыре стороны!
Охотники смотрели на эту сцену, засунув руки в карманы и попыхивая
трубками.
-- Бьюсь об заклад, что у этого медведя человеческие мозги! -- сказал
Эгон. -- Видал, как он открыл клетку? Меня это не удивило: мало ли чему он
научился у людей в своем цирке?.. Удивительно другое: как ему пришла в
голову мысль освободить медвежат, своих соплеменников?
-- Когда мы будем рассказывать об этом происшествии, над нами станут
смеяться, скажут, что это охотничьи басни. Как по-твоему, Фрам?..
Фрам заурчал в ответ. Умей медведь говорить, он, наверно, рассказал бы
о том, что в одном эскимосском стойбище у него есть знакомый мальчик,
который тоже, вероятно, прослыл великим выдумщиком, прежде чем стать
охотником. Он снова заурчал и выжидательно посмотрел на хижину, где
находилась волшебная поющая коробка.
-- Фрам просит включить радио, -- рассмеялся Эгон. -- Я не встречал
более страстного любителя музыки!..
Он вошел в хижину и включил приемник.
Из далекой теплой страны потекла по волнам эфира мелодия. Положив морду
на вытянутые лапы, Фрам слушал с закрытыми глазами. Волновала его не столько
сама музыка, сколько воспоминания, которые она будила... О далеких городах,
согретых жарким солнцем, с ярко освещенными по вечерам улицами, с парками и
цветущими садами. О ребятах, которые протягивали ему кулечки с конфетами,
чтобы он поделил их с другими, о детских ручках, которые едва осмеливались с
робкой лаской прикоснуться к его шкуре. О курносом мальчугане с сияющими
глазами, который кричал ему "Браво!" на прощальном представлении цирка в
одном из тех далеких городов.
Промысловое судно наконец прибыло и, бросив якорь в открытом море,
прислало две лодки за шкурами. По всему было видно, что капитан торопится.
Фрам смотрел и все понимал. Глаза у него были грустные.
Люди глядели на него с недоумением.
-- Жалко оставлять его здесь! -- сказал Эгон. --
XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ревом перегонявший сугробы с одного
конца в другой. Над островами, разводьями и ледяными полями.
Двое подползли на четвереньках к вздыбленной льдине. Они надеялись
найти здесь убежище. Однако убежище оказалось обманчивым. Пурга заметала их
снегом, люди боролись с ней, стараясь не задохнуться. Но стоило высунуть из
сугроба голову, как в лицо им ударяла тонкая, словно толченое стекло,
колючая снежная пыль и забивала глаза и рот.
Их все больше сковывал мороз.
-- Эгон, ты еще чувствуешь руки?
-- Нет, Отто, давно уже не чувствую. Ни рук, ни ног...
Им приходилось кричать: из-за воя пурги они не слышали друг друга.
Усилие это было мукой для изнуренных, обессилевших людей.
-- Хлопай в ладоши, Эгон! Хлопай, не переставая, в ладоши. Шевели
пальцами, разгоняй кровь! Если кровь застынет -- конец!
Его товарищ только простонал в ответ.
Некоторое время оба молчали.
Слышалась лишь дикая свистопляска пурги, тараном бившей в торос, под
которым они искали защиты, и крутившей смерчи из стеклянистой снежной пыли.
-- Эгон... Слышишь, Эгон? Я думаю о том, что меня дома ждут двое ребят.
Никогда я их больше не увижу! Никогда... Марии скоро будет два года. Через
две недели... Она забудет слово "папа". Слышишь, Эгон? Она забудет слово
"папа"...
Эгон попробовал ответить, но пурга заткнула ему рот, залепила глаза.
Да и стоило ли говорить? Что он может сказать?
И его дома ждет дочка. Может, она сейчас греется у открытой печки и
думает об отце: "Что-то он теперь делает, мой папа?" Или разучивает
экзерсисы на фортепьяно... Она уже большая. Ей минуло семь. Ходит в школу.
Ее фотография спрятана у него между крышками часов. Но к чему сейчас все эти
воспоминания? Все потеряно! Разумнее просто ждать смерти, потому что
спасение невозможно; оно не может прийти ниоткуда, ни от кого.
Неделю назад под ними вдруг треснул лед. То, что последовало,
приготовило им эту приближавшуюся теперь смерть. Лед словно по велению злых
духов разверзся. Нарты, собак, ружья и патроны, меховые спальные мешки и
мешки с провизией -- все поглотила зеленая пучина океана... В тот же миг
полынья закрылась, а они остались в чем были, в легкой одежде, без оружия,
на пустынном ледяном поле.
Сперва они обменялись полными ужаса взглядами. Смерили глазами дали,
небо с высоко стоявшим солнцем. Потом к ним вернулось мужество -- они были
не из тех, что сдаются без борьбы.
-- До берега двое суток хода, -- сказал Отто. -- Мы шли оттуда двое
суток, не торопясь. Если мы тронемся сейчас же и будем идти, без остановки,
есть надежда дойти. Приключение, как многие другие. Будет о чем рассказывать
дома. Вспомни Нансена. Сколько он вытерпел, в каких только передрягах ни
бывал, а надежды никогда не терял. Небо ясное. Сорокавосьмичасовая прогулка
без еды и без отдыха тебя, я думаю, пугает так же мало, как и меня, Эгон.
Верно ? Мы с тобой бывали в худших переделках.
Они были закадычными друзьями и занимались охотой на белых медведей.
Уже много лет они охотились вместе в полярных льдах. Жили в разных
городах, а встречались всегда в одном и том же порту перед самым отплытием
на Север. Потом пять, а иногда и шесть месяцев жили жизнью, неизвестной
соотечественникам в далеких городах. Приключения, опасности, общие радости и
успехи связали их тесной дружбой, сделали братьями.
Рыболовное судно доставляло их на остров, где водились белые медведи.
Они построили себе там хижину и из года в год находили ее нетронутой. Она их
ждала. Там у них были теплые меховые постели и вдоволь провизии, были лампы
и книги. Тут же была устроена кладовая шкур, а рядом -- клетка для белых
медвежат.
Корабль высаживал их на берег в начале полярного дня и уходил дальше.
То же судно забирало их на обратном пути со всей добычей: шкурами убитых ими
белых медведей, песцов и черно-бурых лисиц и пойманными ими белыми
медвежатами, которых они потом продавали зоопаркам, зверинцам и циркам. В
редких случаях их доставлял на остров пароход. Это бывало тогда, когда
организовывался туристский рейс вроде того, недавнего, когда они захватили с
собой Фрама и высадили его на пустынном острове по поручению цирка
Струцкого.
Но промысловое судно неизменно заходило за ними и ждало их у острова в
конце каждой полярной осени, перед тем, как начинались вьюги и океан
покрывался ледяным панцирем. В этом году добыча была богаче обычного,
кладовая набита мехами, а в клетке сидели три белых медвежонка.
До прихода корабля оставалось еще две недели. Время проходило
незаметно. Друзья строили планы на те шесть месяцев, которые им предстояло
провести дома, в теплых странах. Там их ждут дети, которым они будут
рассказывать о своих удивительных приключениях. Этим летом они привезли с
собой в Заполярье радиоприемник и часто слушали голоса далекого мира.
Концерты, хоровое пение, известия о разных празднествах и переменах
правительств. Собаки у них были сытые, гладкие и веселые: сибирские псы,
привычные к морозу и нартам. Ничто, казалось, не угрожало благополучию
охотников.
Год этот отличался редким изобилием дичи; охота была успешной.
Оба мечтали о теплых морях, на берегах которых цветут апельсинные
деревья и зреют сочные золотистые плоды. Оба стосковались по дому, по детям,
садам, где благоухают розы.
Особенное нетерпение выказывал Эгон. Ему казалось, что они с Отто
обленились и начинают жиреть.
-- Почему бы нам не отправиться в дальний конец острова? -- предложил
он товарищу. -- Ведь нам здесь сидеть еще целых две недели. Почему бы не
провести кое-какие наблюдения и исследования? Научные общества скажут нам
спасибо... А то живем как пенсионеры!..
-- Будь по-твоему! -- согласился Отто.
Они всегда понимали друг друга с двух слов.
Приготовления длились недолго: положили белым медвежатам в клетку корма
на неделю, погрузили на нарты провизию, ружья, патроны, запрягли собак и
пустились в путь. Все предвещало приятное и веселое путешествие. Никаких
хлопот и осложнений не предвиделось.
Недалеко от их острова лежал другой, поменьше.
Там они еще издали увидели в бинокль двух разгуливающих у берега
медведей.
-- Эти будут наши! -- сказал Эгон, радостно потирая руки.
-- Ну-с, господа белые медведи, готовьтесь расстаться со шкурой! --
прибавил Отто. -- Мы сейчас пошлем вам по маленькой пульке, от которой у вас
зачешется в ушах.
С острова на остров перешли по льду. Охота удалась на славу. Два
выстрела, два убитых медведя, две навьюченные на нарты шкуры.
А как насчет ученых наблюдений?
Ими была исписана целая тетрадка. Нет, друзья не потеряли времени зря!
Беда подстерегала их на обратном пути. Лед треснул, и открывшаяся
полынья поглотила и собак, и нарты с провизией, ружьями, патронами и еще
теплыми шкурами. Поглотила и тут же закрылась, как ящик, ледяной крышкой.
Оба они были сильные и мужественные, закаленные полной риска и
неожиданностей жизнью. И хотя у них невольно сжалось сердце, они подсчитали,
что до хижины всего сорок восемь часов ходу, если идти прямо и без
остановок, и, не долго думая, выступили в поход.
-- Хорошо еще, что у меня уцелели трубка и спички! -- сказал Эгон и
даже попробовал рассмеяться.
Он закурил. Шли, посвистывая.
Потеряны были ружья, патроны, провизия, тетрадь с записями, две
великолепные медвежьи шкуры, нарты.
Печальнее всего была гибель собак. Псы эти были верными товарищами
охотников, послушные, смелые, привычные к условиям полярной жизни. Не раз
они вместе выходили из трудных, опасных положений. Собаки погибли, и их
смерть омрачила обратный путь охотников.
Эгон перестал свистеть.
-- Мне особенно жаль Сибирь! -- сказал он вполголоса. -- Помнишь, как
она спасла меня два года назад от белого медведя, который повалил меня и
вцепился мне в плечо? Шрам остался до сих пор. Сибирь впилась ему в глотку.
Дед Мартын отпустил меня, чтобы разделаться с псом. Я вскочил на ноги,
схватил ружье... Бац! Медведь перекувырнулся через голову и растянулся на
снегу...
Отто не слушал его. Остановившись, он тревожно вглядывался в небо. Дул
северный ветерок, и там, на севере, над горизонтом темнели свинцовые тучи.
-- Дело дрянь!.. -- сказал Отто и покачал головой.
Эгон промолчал. Оба ускорили шаг.
Но надвигавшаяся пурга была проворнее их.
Она догнала охотников. Через час уже нельзя было отличить небо от
ледяного покрова океана. Впереди не было видно ни зги. Они спотыкались,
падали, поднимались, ослепленные колючей, как стекло, снежной пылью. Скоро
обнаружилось, что вместо того чтобы подвигаться вперед, они кружат на месте.
Другого выхода, как укрыться за торосом, не было. Пурга крепчала...
Потянулись длинные часы... В ушах все так же свистел ветер, все так же
хлестали в лицо волны колючего снега. Руки и ноги немели. Охотники не могли
больше двигаться. Они медленно замерзали. Их ждала страшная смерть,
превращающая тело в ледяную глыбу.
Наконец стихия угомонилась, ветер стих. Еще один порыв, и небо вдруг
очистилось. Засияло клонившееся к западу солнце.
Охотники прислушались, подняли головы, то есть попытались встать. Увы,
их мышцы отказались повиноваться. Головы беспомощно упали на снег.
Изнуренные голодом, полузамерзшие, друзья были не в силах двинуться,
покинуть снежное ложе.
-- Ее зовут Мария... Она забудет слова "папа"... -- начал бредить Отто.
Потом уставился остекленевшими, вытаращенными глазами в стеклянное
небо.
Эгон лежал на боку и не видел неба. Перед ним расстилался обледенелый,
заснеженный остров, в дальнем конце которого находилась их хижина с теплыми
меховыми одеялами, запасом провизии и приемником, которому теперь уже не для
кого будет принимать из эфира позывные далекого мира.
Из глаз Эгона катились слезы и замерзали на щеках.
Но вдруг в его поле зрения возникло не иначе, как бредовое видение.
Прямо на них шел белый медведь. Но вместо того чтобы идти, как все
медведи, на четырех лапах, этот двигался прыжками, кувыркался через голову,
отдавал честь, вертелся в вальсе или шел как на параде, печатая шаг...
Эгон закрыл глаза.
Уж если начинаются галлюцинации, значит, близок конец, подумал он, и
стал ждать смерти -- жуткой смерти от мороза, когда после обманчивых видений
в сердце застывает кровь.
Едва показавшись из-под век, слезы превращались в ледяные шарики.
Дочка... Может быть, она сейчас беззаботно разыгрывает гаммы. Или
разглядывает альбом с фотографиями... Смотрит на его фотографию, которая
висит на стене. "Мамочка, как ты думаешь, папа привезет белого медвежонка,
которого он мне обещал?.. -- может, спрашивает она. -- Скажи, мамочка!..
Чего ж ты плачешь?..
Эгон почувствовал, что он погружается в тот глубокий сон, от которого
еще никто не пробуждался...
Но щеку его вдруг обдало горячее дыхание; теплый, влажный нос коснулся
его лица.
Медведь толкал человека, удивляясь его неподвижности, лизал ему щеки,
глаза, нос, пятился и, выждав немного, снова принимался лизать. Он никак не
мог понять, отчего эти люди лежат пластом, почему молчат, не просыпаются, не
поднимают рук.
Это было непонятно.
Запах их он узнал издалека. Чутье, обманывавшее его, когда речь шла о
зверях, издали возвестило ему, что здесь люди, люди из далеких, теплых
стран. Учуяв их, он побежал во всю прыть, чтобы принять дорогих гостей,
доказать им свою дружбу, приветствовать их веселым кувырканием и
сальто-мортале, что, наверно, доставит им удовольствие, чтобы отдать им
по-военному честь. И вдруг нашел их в таком странном состоянии.
Фрам отступил на три шага и замер, приложив лапу к виску:
-- Ну, же, люди!.. Меня запросто не проведешь!
Он уже узнал в одной из лежащих фигур того самого охотника, который
когда-то сопровождал его на пароходе и выпустил на свободу на пустынный
остров, позаботившись оставить на первое время запас провизии в расселине
скал. Другого способа выразить радость встречи, кроме клоунских прыжков и
кувыркания, у него не было.
Эгон открыл глаза и собрал последние силы:
-- Отто! Это же Фрам! Фрам!.. Ты слышишь меня? Фрам, из цирка
Струцкого!
-- Ее зовут Мария... -- бредил Отто. -- Она уже никого больше не
назовет папой. Она забудет это слово...
Он ничего не слышал. Он смотрел в пустое небо пустыми глазами. Только
теперь развитому общением с людьми медвежьему разуму открылся смысл
происходящего.
Не мешкая, Фрам отгреб лапами снег, уложил охотников рядом, а сам
улегся на них, согревая их своим мехом. Этому он научился в молодости от
своего дрессировщика, выступая в пантомиме. Охотники уже настолько
отрешились от всего земного и были настолько обессилены, что даже не
пытались понять, что с ними делается. Белый медведь. Правда, он когда-то
выступал в пирке, но с тех пор, конечно, одичал; чего от него ждать?
Оба много лет кряду убивали белых медведей. Теперь настал их черед.
Безоружные, обессиленные, они попались в лапы белого медведя и станут его
добычей. Но почему же он медлит, почему клыки его еще не раздробили им
черепа, как моржам и тюленям? Уж кончал бы скорее, настал бы конец этой
муке!..
-- Ее зовут Мария... -- продолжал бредить один. -- Ей скоро исполнится
два года... Она никогда больше не скажет слово "папа", никогда...
Другой повторял, как заведенный:
-- Это Фрам... Я хорошо его помню... Фрам со своими прыжками. Ну же,
Фрам, скорей... Терзай нас, кусай... Приканчивай!.. Сжалься над нами, Фрам,
не томи понапрасну, кончай разом!..
Их голоса понемногу стихли. Бред перешел в сон. Странный сон. Сон,
принесший тепло. Может, это и есть смерть? Так, говорят, умирают
замерзающие. Сначала коченеют руки и ноги, потом в жилах застывает,
останавливается кровь. А человеку, между тем, снится, что ему тепло, он
чувствует жар в лице, в груди, в глазах...
Таким был и этот сон. Сколько он длился? Целую вечность... Открыв
наконец глаза, они почувствовали на груди тяжесть теплой медвежьей шубы.
Попробовали шевельнуть руками, потом ногами. Руки слушались. Ноги тоже.
-- Эгон!
-- Отто!
Это были их голоса. Оба слышали и узнавали свой голос.
Значит, это не смерть. Не глубокий, беспробудный сон замерзающих.
Давившая на них шуба задвигалась. Поднялась сама. Их грело живое
одеяло.
Фрам стал сначала на все четыре лапы, потом поднялся на задние и
церемонно отдал честь.
Воскресшие охотники приподнялись на локтях, переглянулись и уставились
на медведя.
-- Дай-ка трубку, Отто! Все это кажется мне сном. Только трубка решит
загадку, жив я или мертв!..
Эгон и в самом деле ощупывал себя, желая убедиться, что он жив. Как
будто все было в порядке. Руки действовали, ноги тоже. С ни с чем не
сравнимым удовольствием он хрустнул суставами пальцев. А цирковой медведь
все еще стоял навытяжку, приложив лапу к голове.
-- Фрам и есть! Я ж тебе сразу сказал, что это Фрам!..
Эгон вскочил на ноги. Его шатало от голода. Он прислонился к торосу,
потом подошел заплетающимися шагами к своему избавителю.
Язык еще плохо слушался, не мог выразить мыслей, которые рождались и
росли в усталом мозгу.
-- То, что ты сделал, Фрам... То, что ты сделал, Фрам!.. -- повторил он
несколько раз, потом зарыл лицо в косматой белой шкуре и заплакал, как
ребенок.
Отто тоже поднялся.
Оба медвежатника стояли теперь, беспомощно прислонясь к груди
медведя...
Фрам осторожно отстранил их лапой. Он привык иметь дело с сильными и
гордыми людьми. Да и понимал, казалось, что сейчас не время лить слезы. У
него поблизости берлога с запасами -- добычей, отобранной у других медведей
уже известным нам способом: клоунскими прыжками и сальто-мортале, неизменно
обращавшими хозяев добычи в бегство.
Туда он и приглашал охотников.
-- Что нам делать? -- спросил Отто.
-- По-моему, его знаки имеют определенный смысл, -- ответил Эгон.
-- Держу пари, что он приглашает нас обедать... Что меня вовсе не
удивило бы!..
Он оказался прав.
Обед, который Фрам предложил своим гостям, был скромен и состоял всего
из одного блюда: тюленьего мяса, его ежедневного меню.
Охотники наелись. У них прибавилось сил. Они начали с беспокойством
поглядывать на запад, где солнце уже клонилось к горизонту. Наступали
полярные сумерки.
Это была последняя неделя полярной навигации, последняя неделя, когда
суда еще решались бороздить пустынный Ледовитый океан.
Охотниками овладела тревога: а что, если промысловое судно уже прибыло
и уйдет, не дождавшись их?
Медлить было нельзя. Взвалив на плечи по куску мороженого тюленьего
мяса, они направились в конец острова.
-- Лишь бы не повстречаться с белым медведем! -- сказал Отто, --
Безоружных, он съест нас за милую душу.
Эгон показал на Фрама, который, как огромный пес, шел рядом с ними,
покачиваясь на четырех лапах.
-- Пока этот попутчик с нами, бояться нечего!.. Уверен, что он умеет
обращаться со своими родичами. Верно, Фрам?
Услышав свою кличку, Фрам поднялся на задние лапы, козырнул, как
солдат, который говорит: "Рад стараться!", потом вернулся в прежде положение
и пошел дальше.
И если он не мог выразить это словами, то всем своим видом показывал,
что для родичей у него действительно есть средство, но куда более
безобидное, чем пули, которыми пользуются люди.
Обратный путь занял не сорок восемь, а все шестьдесят часов: усталость
заставляла охотников часто останавливаться и отдыхать.
Корабль еще не прибыл. Зато друзей ждала их хижина с теплыми меховыми
одеялами и приемником. И трое белых медвежат в клетке, которые жалобно
скулили от голода.
Фрам несколько раз обошел вокруг клетки. Сердито ворча, посмотрел на
людей, посмотрел на дверцу, потом тихонько отодвинул засов. Медвежата не
решались выйти. Фраму пришлось вытаскивать их по одному зубами. Вытащив
последнего, он дал каждому пинка: ступайте, мол, на все четыре стороны!
Охотники смотрели на эту сцену, засунув руки в карманы и попыхивая
трубками.
-- Бьюсь об заклад, что у этого медведя человеческие мозги! -- сказал
Эгон. -- Видал, как он открыл клетку? Меня это не удивило: мало ли чему он
научился у людей в своем цирке?.. Удивительно другое: как ему пришла в
голову мысль освободить медвежат, своих соплеменников?
-- Когда мы будем рассказывать об этом происшествии, над нами станут
смеяться, скажут, что это охотничьи басни. Как по-твоему, Фрам?..
Фрам заурчал в ответ. Умей медведь говорить, он, наверно, рассказал бы
о том, что в одном эскимосском стойбище у него есть знакомый мальчик,
который тоже, вероятно, прослыл великим выдумщиком, прежде чем стать
охотником. Он снова заурчал и выжидательно посмотрел на хижину, где
находилась волшебная поющая коробка.
-- Фрам просит включить радио, -- рассмеялся Эгон. -- Я не встречал
более страстного любителя музыки!..
Он вошел в хижину и включил приемник.
Из далекой теплой страны потекла по волнам эфира мелодия. Положив морду
на вытянутые лапы, Фрам слушал с закрытыми глазами. Волновала его не столько
сама музыка, сколько воспоминания, которые она будила... О далеких городах,
согретых жарким солнцем, с ярко освещенными по вечерам улицами, с парками и
цветущими садами. О ребятах, которые протягивали ему кулечки с конфетами,
чтобы он поделил их с другими, о детских ручках, которые едва осмеливались с
робкой лаской прикоснуться к его шкуре. О курносом мальчугане с сияющими
глазами, который кричал ему "Браво!" на прощальном представлении цирка в
одном из тех далеких городов.
Промысловое судно наконец прибыло и, бросив якорь в открытом море,
прислало две лодки за шкурами. По всему было видно, что капитан торопится.
Фрам смотрел и все понимал. Глаза у него были грустные.
Люди глядели на него с недоумением.
-- Жалко оставлять его здесь! -- сказал Эгон. -- * * *
* * *
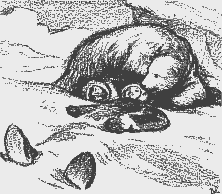 XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ревом перегонявший сугробы с одного
конца в другой. Над островами, разводьями и ледяными полями.
Двое подползли на четвереньках к вздыбленной льдине. Они надеялись
найти здесь убежище. Однако убежище оказалось обманчивым. Пурга заметала их
снегом, люди боролись с ней, стараясь не задохнуться. Но стоило высунуть из
сугроба голову, как в лицо им ударяла тонкая, словно толченое стекло,
колючая снежная пыль и забивала глаза и рот.
Их все больше сковывал мороз.
-- Эгон, ты еще чувствуешь руки?
-- Нет, Отто, давно уже не чувствую. Ни рук, ни ног...
Им приходилось кричать: из-за воя пурги они не слышали друг друга.
Усилие это было мукой для изнуренных, обессилевших людей.
-- Хлопай в ладоши, Эгон! Хлопай, не переставая, в ладоши. Шевели
пальцами, разгоняй кровь! Если кровь застынет -- конец!
Его товарищ только простонал в ответ.
Некоторое время оба молчали.
Слышалась лишь дикая свистопляска пурги, тараном бившей в торос, под
которым они искали защиты, и крутившей смерчи из стеклянистой снежной пыли.
-- Эгон... Слышишь, Эгон? Я думаю о том, что меня дома ждут двое ребят.
Никогда я их больше не увижу! Никогда... Марии скоро будет два года. Через
две недели... Она забудет слово "папа". Слышишь, Эгон? Она забудет слово
"папа"...
Эгон попробовал ответить, но пурга заткнула ему рот, залепила глаза.
Да и стоило ли говорить? Что он может сказать?
И его дома ждет дочка. Может, она сейчас греется у открытой печки и
думает об отце: "Что-то он теперь делает, мой папа?" Или разучивает
экзерсисы на фортепьяно... Она уже большая. Ей минуло семь. Ходит в школу.
Ее фотография спрятана у него между крышками часов. Но к чему сейчас все эти
воспоминания? Все потеряно! Разумнее просто ждать смерти, потому что
спасение невозможно; оно не может прийти ниоткуда, ни от кого.
Неделю назад под ними вдруг треснул лед. То, что последовало,
приготовило им эту приближавшуюся теперь смерть. Лед словно по велению злых
духов разверзся. Нарты, собак, ружья и патроны, меховые спальные мешки и
мешки с провизией -- все поглотила зеленая пучина океана... В тот же миг
полынья закрылась, а они остались в чем были, в легкой одежде, без оружия,
на пустынном ледяном поле.
Сперва они обменялись полными ужаса взглядами. Смерили глазами дали,
небо с высоко стоявшим солнцем. Потом к ним вернулось мужество -- они были
не из тех, что сдаются без борьбы.
-- До берега двое суток хода, -- сказал Отто. -- Мы шли оттуда двое
суток, не торопясь. Если мы тронемся сейчас же и будем идти, без остановки,
есть надежда дойти. Приключение, как многие другие. Будет о чем рассказывать
дома. Вспомни Нансена. Сколько он вытерпел, в каких только передрягах ни
бывал, а надежды никогда не терял. Небо ясное. Сорокавосьмичасовая прогулка
без еды и без отдыха тебя, я думаю, пугает так же мало, как и меня, Эгон.
Верно ? Мы с тобой бывали в худших переделках.
Они были закадычными друзьями и занимались охотой на белых медведей.
Уже много лет они охотились вместе в полярных льдах. Жили в разных
городах, а встречались всегда в одном и том же порту перед самым отплытием
на Север. Потом пять, а иногда и шесть месяцев жили жизнью, неизвестной
соотечественникам в далеких городах. Приключения, опасности, общие радости и
успехи связали их тесной дружбой, сделали братьями.
Рыболовное судно доставляло их на остров, где водились белые медведи.
Они построили себе там хижину и из года в год находили ее нетронутой. Она их
ждала. Там у них были теплые меховые постели и вдоволь провизии, были лампы
и книги. Тут же была устроена кладовая шкур, а рядом -- клетка для белых
медвежат.
Корабль высаживал их на берег в начале полярного дня и уходил дальше.
То же судно забирало их на обратном пути со всей добычей: шкурами убитых ими
белых медведей, песцов и черно-бурых лисиц и пойманными ими белыми
медвежатами, которых они потом продавали зоопаркам, зверинцам и циркам. В
редких случаях их доставлял на остров пароход. Это бывало тогда, когда
организовывался туристский рейс вроде того, недавнего, когда они захватили с
собой Фрама и высадили его на пустынном острове по поручению цирка
Струцкого.
Но промысловое судно неизменно заходило за ними и ждало их у острова в
конце каждой полярной осени, перед тем, как начинались вьюги и океан
покрывался ледяным панцирем. В этом году добыча была богаче обычного,
кладовая набита мехами, а в клетке сидели три белых медвежонка.
До прихода корабля оставалось еще две недели. Время проходило
незаметно. Друзья строили планы на те шесть месяцев, которые им предстояло
провести дома, в теплых странах. Там их ждут дети, которым они будут
рассказывать о своих удивительных приключениях. Этим летом они привезли с
собой в Заполярье радиоприемник и часто слушали голоса далекого мира.
Концерты, хоровое пение, известия о разных празднествах и переменах
правительств. Собаки у них были сытые, гладкие и веселые: сибирские псы,
привычные к морозу и нартам. Ничто, казалось, не угрожало благополучию
охотников.
Год этот отличался редким изобилием дичи; охота была успешной.
Оба мечтали о теплых морях, на берегах которых цветут апельсинные
деревья и зреют сочные золотистые плоды. Оба стосковались по дому, по детям,
садам, где благоухают розы.
Особенное нетерпение выказывал Эгон. Ему казалось, что они с Отто
обленились и начинают жиреть.
-- Почему бы нам не отправиться в дальний конец острова? -- предложил
он товарищу. -- Ведь нам здесь сидеть еще целых две недели. Почему бы не
провести кое-какие наблюдения и исследования? Научные общества скажут нам
спасибо... А то живем как пенсионеры!..
-- Будь по-твоему! -- согласился Отто.
Они всегда понимали друг друга с двух слов.
Приготовления длились недолго: положили белым медвежатам в клетку корма
на неделю, погрузили на нарты провизию, ружья, патроны, запрягли собак и
пустились в путь. Все предвещало приятное и веселое путешествие. Никаких
хлопот и осложнений не предвиделось.
Недалеко от их острова лежал другой, поменьше.
Там они еще издали увидели в бинокль двух разгуливающих у берега
медведей.
-- Эти будут наши! -- сказал Эгон, радостно потирая руки.
-- Ну-с, господа белые медведи, готовьтесь расстаться со шкурой! --
прибавил Отто. -- Мы сейчас пошлем вам по маленькой пульке, от которой у вас
зачешется в ушах.
С острова на остров перешли по льду. Охота удалась на славу. Два
выстрела, два убитых медведя, две навьюченные на нарты шкуры.
А как насчет ученых наблюдений?
Ими была исписана целая тетрадка. Нет, друзья не потеряли времени зря!
Беда подстерегала их на обратном пути. Лед треснул, и открывшаяся
полынья поглотила и собак, и нарты с провизией, ружьями, патронами и еще
теплыми шкурами. Поглотила и тут же закрылась, как ящик, ледяной крышкой.
Оба они были сильные и мужественные, закаленные полной риска и
неожиданностей жизнью. И хотя у них невольно сжалось сердце, они подсчитали,
что до хижины всего сорок восемь часов ходу, если идти прямо и без
остановок, и, не долго думая, выступили в поход.
-- Хорошо еще, что у меня уцелели трубка и спички! -- сказал Эгон и
даже попробовал рассмеяться.
Он закурил. Шли, посвистывая.
Потеряны были ружья, патроны, провизия, тетрадь с записями, две
великолепные медвежьи шкуры, нарты.
Печальнее всего была гибель собак. Псы эти были верными товарищами
охотников, послушные, смелые, привычные к условиям полярной жизни. Не раз
они вместе выходили из трудных, опасных положений. Собаки погибли, и их
смерть омрачила обратный путь охотников.
Эгон перестал свистеть.
-- Мне особенно жаль Сибирь! -- сказал он вполголоса. -- Помнишь, как
она спасла меня два года назад от белого медведя, который повалил меня и
вцепился мне в плечо? Шрам остался до сих пор. Сибирь впилась ему в глотку.
Дед Мартын отпустил меня, чтобы разделаться с псом. Я вскочил на ноги,
схватил ружье... Бац! Медведь перекувырнулся через голову и растянулся на
снегу...
Отто не слушал его. Остановившись, он тревожно вглядывался в небо. Дул
северный ветерок, и там, на севере, над горизонтом темнели свинцовые тучи.
-- Дело дрянь!.. -- сказал Отто и покачал головой.
Эгон промолчал. Оба ускорили шаг.
Но надвигавшаяся пурга была проворнее их.
Она догнала охотников. Через час уже нельзя было отличить небо от
ледяного покрова океана. Впереди не было видно ни зги. Они спотыкались,
падали, поднимались, ослепленные колючей, как стекло, снежной пылью. Скоро
обнаружилось, что вместо того чтобы подвигаться вперед, они кружат на месте.
Другого выхода, как укрыться за торосом, не было. Пурга крепчала...
Потянулись длинные часы... В ушах все так же свистел ветер, все так же
хлестали в лицо волны колючего снега. Руки и ноги немели. Охотники не могли
больше двигаться. Они медленно замерзали. Их ждала страшная смерть,
превращающая тело в ледяную глыбу.
Наконец стихия угомонилась, ветер стих. Еще один порыв, и небо вдруг
очистилось. Засияло клонившееся к западу солнце.
Охотники прислушались, подняли головы, то есть попытались встать. Увы,
их мышцы отказались повиноваться. Головы беспомощно упали на снег.
Изнуренные голодом, полузамерзшие, друзья были не в силах двинуться,
покинуть снежное ложе.
-- Ее зовут Мария... Она забудет слова "папа"... -- начал бредить Отто.
Потом уставился остекленевшими, вытаращенными глазами в стеклянное
небо.
Эгон лежал на боку и не видел неба. Перед ним расстилался обледенелый,
заснеженный остров, в дальнем конце которого находилась их хижина с теплыми
меховыми одеялами, запасом провизии и приемником, которому теперь уже не для
кого будет принимать из эфира позывные далекого мира.
Из глаз Эгона катились слезы и замерзали на щеках.
Но вдруг в его поле зрения возникло не иначе, как бредовое видение.
Прямо на них шел белый медведь. Но вместо того чтобы идти, как все
медведи, на четырех лапах, этот двигался прыжками, кувыркался через голову,
отдавал честь, вертелся в вальсе или шел как на параде, печатая шаг...
Эгон закрыл глаза.
Уж если начинаются галлюцинации, значит, близок конец, подумал он, и
стал ждать смерти -- жуткой смерти от мороза, когда после обманчивых видений
в сердце застывает кровь.
Едва показавшись из-под век, слезы превращались в ледяные шарики.
Дочка... Может быть, она сейчас беззаботно разыгрывает гаммы. Или
разглядывает альбом с фотографиями... Смотрит на его фотографию, которая
висит на стене. "Мамочка, как ты думаешь, папа привезет белого медвежонка,
которого он мне обещал?.. -- может, спрашивает она. -- Скажи, мамочка!..
Чего ж ты плачешь?..
Эгон почувствовал, что он погружается в тот глубокий сон, от которого
еще никто не пробуждался...
Но щеку его вдруг обдало горячее дыхание; теплый, влажный нос коснулся
его лица.
Медведь толкал человека, удивляясь его неподвижности, лизал ему щеки,
глаза, нос, пятился и, выждав немного, снова принимался лизать. Он никак не
мог понять, отчего эти люди лежат пластом, почему молчат, не просыпаются, не
поднимают рук.
Это было непонятно.
Запах их он узнал издалека. Чутье, обманывавшее его, когда речь шла о
зверях, издали возвестило ему, что здесь люди, люди из далеких, теплых
стран. Учуяв их, он побежал во всю прыть, чтобы принять дорогих гостей,
доказать им свою дружбу, приветствовать их веселым кувырканием и
сальто-мортале, что, наверно, доставит им удовольствие, чтобы отдать им
по-военному честь. И вдруг нашел их в таком странном состоянии.
Фрам отступил на три шага и замер, приложив лапу к виску:
-- Ну, же, люди!.. Меня запросто не проведешь!
Он уже узнал в одной из лежащих фигур того самого охотника, который
когда-то сопровождал его на пароходе и выпустил на свободу на пустынный
остров, позаботившись оставить на первое время запас провизии в расселине
скал. Другого способа выразить радость встречи, кроме клоунских прыжков и
кувыркания, у него не было.
Эгон открыл глаза и собрал последние силы:
-- Отто! Это же Фрам! Фрам!.. Ты слышишь меня? Фрам, из цирка
Струцкого!
-- Ее зовут Мария... -- бредил Отто. -- Она уже никого больше не
назовет папой. Она забудет это слово...
Он ничего не слышал. Он смотрел в пустое небо пустыми глазами. Только
теперь развитому общением с людьми медвежьему разуму открылся смысл
происходящего.
Не мешкая, Фрам отгреб лапами снег, уложил охотников рядом, а сам
улегся на них, согревая их своим мехом. Этому он научился в молодости от
своего дрессировщика, выступая в пантомиме. Охотники уже настолько
отрешились от всего земного и были настолько обессилены, что даже не
пытались понять, что с ними делается. Белый медведь. Правда, он когда-то
выступал в пирке, но с тех пор, конечно, одичал; чего от него ждать?
Оба много лет кряду убивали белых медведей. Теперь настал их черед.
Безоружные, обессиленные, они попались в лапы белого медведя и станут его
добычей. Но почему же он медлит, почему клыки его еще не раздробили им
черепа, как моржам и тюленям? Уж кончал бы скорее, настал бы конец этой
муке!..
-- Ее зовут Мария... -- продолжал бредить один. -- Ей скоро исполнится
два года... Она никогда больше не скажет слово "папа", никогда...
Другой повторял, как заведенный:
-- Это Фрам... Я хорошо его помню... Фрам со своими прыжками. Ну же,
Фрам, скорей... Терзай нас, кусай... Приканчивай!.. Сжалься над нами, Фрам,
не томи понапрасну, кончай разом!..
Их голоса понемногу стихли. Бред перешел в сон. Странный сон. Сон,
принесший тепло. Может, это и есть смерть? Так, говорят, умирают
замерзающие. Сначала коченеют руки и ноги, потом в жилах застывает,
останавливается кровь. А человеку, между тем, снится, что ему тепло, он
чувствует жар в лице, в груди, в глазах...
Таким был и этот сон. Сколько он длился? Целую вечность... Открыв
наконец глаза, они почувствовали на груди тяжесть теплой медвежьей шубы.
Попробовали шевельнуть руками, потом ногами. Руки слушались. Ноги тоже.
-- Эгон!
-- Отто!
Это были их голоса. Оба слышали и узнавали свой голос.
Значит, это не смерть. Не глубокий, беспробудный сон замерзающих.
Давившая на них шуба задвигалась. Поднялась сама. Их грело живое
одеяло.
Фрам стал сначала на все четыре лапы, потом поднялся на задние и
церемонно отдал честь.
Воскресшие охотники приподнялись на локтях, переглянулись и уставились
на медведя.
-- Дай-ка трубку, Отто! Все это кажется мне сном. Только трубка решит
загадку, жив я или мертв!..
Эгон и в самом деле ощупывал себя, желая убедиться, что он жив. Как
будто все было в порядке. Руки действовали, ноги тоже. С ни с чем не
сравнимым удовольствием он хрустнул суставами пальцев. А цирковой медведь
все еще стоял навытяжку, приложив лапу к голове.
-- Фрам и есть! Я ж тебе сразу сказал, что это Фрам!..
Эгон вскочил на ноги. Его шатало от голода. Он прислонился к торосу,
потом подошел заплетающимися шагами к своему избавителю.
Язык еще плохо слушался, не мог выразить мыслей, которые рождались и
росли в усталом мозгу.
-- То, что ты сделал, Фрам... То, что ты сделал, Фрам!.. -- повторил он
несколько раз, потом зарыл лицо в косматой белой шкуре и заплакал, как
ребенок.
Отто тоже поднялся.
Оба медвежатника стояли теперь, беспомощно прислонясь к груди
медведя...
Фрам осторожно отстранил их лапой. Он привык иметь дело с сильными и
гордыми людьми. Да и понимал, казалось, что сейчас не время лить слезы. У
него поблизости берлога с запасами -- добычей, отобранной у других медведей
уже известным нам способом: клоунскими прыжками и сальто-мортале, неизменно
обращавшими хозяев добычи в бегство.
Туда он и приглашал охотников.
-- Что нам делать? -- спросил Отто.
-- По-моему, его знаки имеют определенный смысл, -- ответил Эгон.
-- Держу пари, что он приглашает нас обедать... Что меня вовсе не
удивило бы!..
Он оказался прав.
Обед, который Фрам предложил своим гостям, был скромен и состоял всего
из одного блюда: тюленьего мяса, его ежедневного меню.
Охотники наелись. У них прибавилось сил. Они начали с беспокойством
поглядывать на запад, где солнце уже клонилось к горизонту. Наступали
полярные сумерки.
Это была последняя неделя полярной навигации, последняя неделя, когда
суда еще решались бороздить пустынный Ледовитый океан.
Охотниками овладела тревога: а что, если промысловое судно уже прибыло
и уйдет, не дождавшись их?
Медлить было нельзя. Взвалив на плечи по куску мороженого тюленьего
мяса, они направились в конец острова.
-- Лишь бы не повстречаться с белым медведем! -- сказал Отто, --
Безоружных, он съест нас за милую душу.
Эгон показал на Фрама, который, как огромный пес, шел рядом с ними,
покачиваясь на четырех лапах.
-- Пока этот попутчик с нами, бояться нечего!.. Уверен, что он умеет
обращаться со своими родичами. Верно, Фрам?
Услышав свою кличку, Фрам поднялся на задние лапы, козырнул, как
солдат, который говорит: "Рад стараться!", потом вернулся в прежде положение
и пошел дальше.
И если он не мог выразить это словами, то всем своим видом показывал,
что для родичей у него действительно есть средство, но куда более
безобидное, чем пули, которыми пользуются люди.
Обратный путь занял не сорок восемь, а все шестьдесят часов: усталость
заставляла охотников часто останавливаться и отдыхать.
Корабль еще не прибыл. Зато друзей ждала их хижина с теплыми меховыми
одеялами и приемником. И трое белых медвежат в клетке, которые жалобно
скулили от голода.
Фрам несколько раз обошел вокруг клетки. Сердито ворча, посмотрел на
людей, посмотрел на дверцу, потом тихонько отодвинул засов. Медвежата не
решались выйти. Фраму пришлось вытаскивать их по одному зубами. Вытащив
последнего, он дал каждому пинка: ступайте, мол, на все четыре стороны!
Охотники смотрели на эту сцену, засунув руки в карманы и попыхивая
трубками.
-- Бьюсь об заклад, что у этого медведя человеческие мозги! -- сказал
Эгон. -- Видал, как он открыл клетку? Меня это не удивило: мало ли чему он
научился у людей в своем цирке?.. Удивительно другое: как ему пришла в
голову мысль освободить медвежат, своих соплеменников?
-- Когда мы будем рассказывать об этом происшествии, над нами станут
смеяться, скажут, что это охотничьи басни. Как по-твоему, Фрам?..
Фрам заурчал в ответ. Умей медведь говорить, он, наверно, рассказал бы
о том, что в одном эскимосском стойбище у него есть знакомый мальчик,
который тоже, вероятно, прослыл великим выдумщиком, прежде чем стать
охотником. Он снова заурчал и выжидательно посмотрел на хижину, где
находилась волшебная поющая коробка.
-- Фрам просит включить радио, -- рассмеялся Эгон. -- Я не встречал
более страстного любителя музыки!..
Он вошел в хижину и включил приемник.
Из далекой теплой страны потекла по волнам эфира мелодия. Положив морду
на вытянутые лапы, Фрам слушал с закрытыми глазами. Волновала его не столько
сама музыка, сколько воспоминания, которые она будила... О далеких городах,
согретых жарким солнцем, с ярко освещенными по вечерам улицами, с парками и
цветущими садами. О ребятах, которые протягивали ему кулечки с конфетами,
чтобы он поделил их с другими, о детских ручках, которые едва осмеливались с
робкой лаской прикоснуться к его шкуре. О курносом мальчугане с сияющими
глазами, который кричал ему "Браво!" на прощальном представлении цирка в
одном из тех далеких городов.
Промысловое судно наконец прибыло и, бросив якорь в открытом море,
прислало две лодки за шкурами. По всему было видно, что капитан торопится.
Фрам смотрел и все понимал. Глаза у него были грустные.
Люди глядели на него с недоумением.
-- Жалко оставлять его здесь! -- сказал Эгон. --
XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ревом перегонявший сугробы с одного
конца в другой. Над островами, разводьями и ледяными полями.
Двое подползли на четвереньках к вздыбленной льдине. Они надеялись
найти здесь убежище. Однако убежище оказалось обманчивым. Пурга заметала их
снегом, люди боролись с ней, стараясь не задохнуться. Но стоило высунуть из
сугроба голову, как в лицо им ударяла тонкая, словно толченое стекло,
колючая снежная пыль и забивала глаза и рот.
Их все больше сковывал мороз.
-- Эгон, ты еще чувствуешь руки?
-- Нет, Отто, давно уже не чувствую. Ни рук, ни ног...
Им приходилось кричать: из-за воя пурги они не слышали друг друга.
Усилие это было мукой для изнуренных, обессилевших людей.
-- Хлопай в ладоши, Эгон! Хлопай, не переставая, в ладоши. Шевели
пальцами, разгоняй кровь! Если кровь застынет -- конец!
Его товарищ только простонал в ответ.
Некоторое время оба молчали.
Слышалась лишь дикая свистопляска пурги, тараном бившей в торос, под
которым они искали защиты, и крутившей смерчи из стеклянистой снежной пыли.
-- Эгон... Слышишь, Эгон? Я думаю о том, что меня дома ждут двое ребят.
Никогда я их больше не увижу! Никогда... Марии скоро будет два года. Через
две недели... Она забудет слово "папа". Слышишь, Эгон? Она забудет слово
"папа"...
Эгон попробовал ответить, но пурга заткнула ему рот, залепила глаза.
Да и стоило ли говорить? Что он может сказать?
И его дома ждет дочка. Может, она сейчас греется у открытой печки и
думает об отце: "Что-то он теперь делает, мой папа?" Или разучивает
экзерсисы на фортепьяно... Она уже большая. Ей минуло семь. Ходит в школу.
Ее фотография спрятана у него между крышками часов. Но к чему сейчас все эти
воспоминания? Все потеряно! Разумнее просто ждать смерти, потому что
спасение невозможно; оно не может прийти ниоткуда, ни от кого.
Неделю назад под ними вдруг треснул лед. То, что последовало,
приготовило им эту приближавшуюся теперь смерть. Лед словно по велению злых
духов разверзся. Нарты, собак, ружья и патроны, меховые спальные мешки и
мешки с провизией -- все поглотила зеленая пучина океана... В тот же миг
полынья закрылась, а они остались в чем были, в легкой одежде, без оружия,
на пустынном ледяном поле.
Сперва они обменялись полными ужаса взглядами. Смерили глазами дали,
небо с высоко стоявшим солнцем. Потом к ним вернулось мужество -- они были
не из тех, что сдаются без борьбы.
-- До берега двое суток хода, -- сказал Отто. -- Мы шли оттуда двое
суток, не торопясь. Если мы тронемся сейчас же и будем идти, без остановки,
есть надежда дойти. Приключение, как многие другие. Будет о чем рассказывать
дома. Вспомни Нансена. Сколько он вытерпел, в каких только передрягах ни
бывал, а надежды никогда не терял. Небо ясное. Сорокавосьмичасовая прогулка
без еды и без отдыха тебя, я думаю, пугает так же мало, как и меня, Эгон.
Верно ? Мы с тобой бывали в худших переделках.
Они были закадычными друзьями и занимались охотой на белых медведей.
Уже много лет они охотились вместе в полярных льдах. Жили в разных
городах, а встречались всегда в одном и том же порту перед самым отплытием
на Север. Потом пять, а иногда и шесть месяцев жили жизнью, неизвестной
соотечественникам в далеких городах. Приключения, опасности, общие радости и
успехи связали их тесной дружбой, сделали братьями.
Рыболовное судно доставляло их на остров, где водились белые медведи.
Они построили себе там хижину и из года в год находили ее нетронутой. Она их
ждала. Там у них были теплые меховые постели и вдоволь провизии, были лампы
и книги. Тут же была устроена кладовая шкур, а рядом -- клетка для белых
медвежат.
Корабль высаживал их на берег в начале полярного дня и уходил дальше.
То же судно забирало их на обратном пути со всей добычей: шкурами убитых ими
белых медведей, песцов и черно-бурых лисиц и пойманными ими белыми
медвежатами, которых они потом продавали зоопаркам, зверинцам и циркам. В
редких случаях их доставлял на остров пароход. Это бывало тогда, когда
организовывался туристский рейс вроде того, недавнего, когда они захватили с
собой Фрама и высадили его на пустынном острове по поручению цирка
Струцкого.
Но промысловое судно неизменно заходило за ними и ждало их у острова в
конце каждой полярной осени, перед тем, как начинались вьюги и океан
покрывался ледяным панцирем. В этом году добыча была богаче обычного,
кладовая набита мехами, а в клетке сидели три белых медвежонка.
До прихода корабля оставалось еще две недели. Время проходило
незаметно. Друзья строили планы на те шесть месяцев, которые им предстояло
провести дома, в теплых странах. Там их ждут дети, которым они будут
рассказывать о своих удивительных приключениях. Этим летом они привезли с
собой в Заполярье радиоприемник и часто слушали голоса далекого мира.
Концерты, хоровое пение, известия о разных празднествах и переменах
правительств. Собаки у них были сытые, гладкие и веселые: сибирские псы,
привычные к морозу и нартам. Ничто, казалось, не угрожало благополучию
охотников.
Год этот отличался редким изобилием дичи; охота была успешной.
Оба мечтали о теплых морях, на берегах которых цветут апельсинные
деревья и зреют сочные золотистые плоды. Оба стосковались по дому, по детям,
садам, где благоухают розы.
Особенное нетерпение выказывал Эгон. Ему казалось, что они с Отто
обленились и начинают жиреть.
-- Почему бы нам не отправиться в дальний конец острова? -- предложил
он товарищу. -- Ведь нам здесь сидеть еще целых две недели. Почему бы не
провести кое-какие наблюдения и исследования? Научные общества скажут нам
спасибо... А то живем как пенсионеры!..
-- Будь по-твоему! -- согласился Отто.
Они всегда понимали друг друга с двух слов.
Приготовления длились недолго: положили белым медвежатам в клетку корма
на неделю, погрузили на нарты провизию, ружья, патроны, запрягли собак и
пустились в путь. Все предвещало приятное и веселое путешествие. Никаких
хлопот и осложнений не предвиделось.
Недалеко от их острова лежал другой, поменьше.
Там они еще издали увидели в бинокль двух разгуливающих у берега
медведей.
-- Эти будут наши! -- сказал Эгон, радостно потирая руки.
-- Ну-с, господа белые медведи, готовьтесь расстаться со шкурой! --
прибавил Отто. -- Мы сейчас пошлем вам по маленькой пульке, от которой у вас
зачешется в ушах.
С острова на остров перешли по льду. Охота удалась на славу. Два
выстрела, два убитых медведя, две навьюченные на нарты шкуры.
А как насчет ученых наблюдений?
Ими была исписана целая тетрадка. Нет, друзья не потеряли времени зря!
Беда подстерегала их на обратном пути. Лед треснул, и открывшаяся
полынья поглотила и собак, и нарты с провизией, ружьями, патронами и еще
теплыми шкурами. Поглотила и тут же закрылась, как ящик, ледяной крышкой.
Оба они были сильные и мужественные, закаленные полной риска и
неожиданностей жизнью. И хотя у них невольно сжалось сердце, они подсчитали,
что до хижины всего сорок восемь часов ходу, если идти прямо и без
остановок, и, не долго думая, выступили в поход.
-- Хорошо еще, что у меня уцелели трубка и спички! -- сказал Эгон и
даже попробовал рассмеяться.
Он закурил. Шли, посвистывая.
Потеряны были ружья, патроны, провизия, тетрадь с записями, две
великолепные медвежьи шкуры, нарты.
Печальнее всего была гибель собак. Псы эти были верными товарищами
охотников, послушные, смелые, привычные к условиям полярной жизни. Не раз
они вместе выходили из трудных, опасных положений. Собаки погибли, и их
смерть омрачила обратный путь охотников.
Эгон перестал свистеть.
-- Мне особенно жаль Сибирь! -- сказал он вполголоса. -- Помнишь, как
она спасла меня два года назад от белого медведя, который повалил меня и
вцепился мне в плечо? Шрам остался до сих пор. Сибирь впилась ему в глотку.
Дед Мартын отпустил меня, чтобы разделаться с псом. Я вскочил на ноги,
схватил ружье... Бац! Медведь перекувырнулся через голову и растянулся на
снегу...
Отто не слушал его. Остановившись, он тревожно вглядывался в небо. Дул
северный ветерок, и там, на севере, над горизонтом темнели свинцовые тучи.
-- Дело дрянь!.. -- сказал Отто и покачал головой.
Эгон промолчал. Оба ускорили шаг.
Но надвигавшаяся пурга была проворнее их.
Она догнала охотников. Через час уже нельзя было отличить небо от
ледяного покрова океана. Впереди не было видно ни зги. Они спотыкались,
падали, поднимались, ослепленные колючей, как стекло, снежной пылью. Скоро
обнаружилось, что вместо того чтобы подвигаться вперед, они кружат на месте.
Другого выхода, как укрыться за торосом, не было. Пурга крепчала...
Потянулись длинные часы... В ушах все так же свистел ветер, все так же
хлестали в лицо волны колючего снега. Руки и ноги немели. Охотники не могли
больше двигаться. Они медленно замерзали. Их ждала страшная смерть,
превращающая тело в ледяную глыбу.
Наконец стихия угомонилась, ветер стих. Еще один порыв, и небо вдруг
очистилось. Засияло клонившееся к западу солнце.
Охотники прислушались, подняли головы, то есть попытались встать. Увы,
их мышцы отказались повиноваться. Головы беспомощно упали на снег.
Изнуренные голодом, полузамерзшие, друзья были не в силах двинуться,
покинуть снежное ложе.
-- Ее зовут Мария... Она забудет слова "папа"... -- начал бредить Отто.
Потом уставился остекленевшими, вытаращенными глазами в стеклянное
небо.
Эгон лежал на боку и не видел неба. Перед ним расстилался обледенелый,
заснеженный остров, в дальнем конце которого находилась их хижина с теплыми
меховыми одеялами, запасом провизии и приемником, которому теперь уже не для
кого будет принимать из эфира позывные далекого мира.
Из глаз Эгона катились слезы и замерзали на щеках.
Но вдруг в его поле зрения возникло не иначе, как бредовое видение.
Прямо на них шел белый медведь. Но вместо того чтобы идти, как все
медведи, на четырех лапах, этот двигался прыжками, кувыркался через голову,
отдавал честь, вертелся в вальсе или шел как на параде, печатая шаг...
Эгон закрыл глаза.
Уж если начинаются галлюцинации, значит, близок конец, подумал он, и
стал ждать смерти -- жуткой смерти от мороза, когда после обманчивых видений
в сердце застывает кровь.
Едва показавшись из-под век, слезы превращались в ледяные шарики.
Дочка... Может быть, она сейчас беззаботно разыгрывает гаммы. Или
разглядывает альбом с фотографиями... Смотрит на его фотографию, которая
висит на стене. "Мамочка, как ты думаешь, папа привезет белого медвежонка,
которого он мне обещал?.. -- может, спрашивает она. -- Скажи, мамочка!..
Чего ж ты плачешь?..
Эгон почувствовал, что он погружается в тот глубокий сон, от которого
еще никто не пробуждался...
Но щеку его вдруг обдало горячее дыхание; теплый, влажный нос коснулся
его лица.
Медведь толкал человека, удивляясь его неподвижности, лизал ему щеки,
глаза, нос, пятился и, выждав немного, снова принимался лизать. Он никак не
мог понять, отчего эти люди лежат пластом, почему молчат, не просыпаются, не
поднимают рук.
Это было непонятно.
Запах их он узнал издалека. Чутье, обманывавшее его, когда речь шла о
зверях, издали возвестило ему, что здесь люди, люди из далеких, теплых
стран. Учуяв их, он побежал во всю прыть, чтобы принять дорогих гостей,
доказать им свою дружбу, приветствовать их веселым кувырканием и
сальто-мортале, что, наверно, доставит им удовольствие, чтобы отдать им
по-военному честь. И вдруг нашел их в таком странном состоянии.
Фрам отступил на три шага и замер, приложив лапу к виску:
-- Ну, же, люди!.. Меня запросто не проведешь!
Он уже узнал в одной из лежащих фигур того самого охотника, который
когда-то сопровождал его на пароходе и выпустил на свободу на пустынный
остров, позаботившись оставить на первое время запас провизии в расселине
скал. Другого способа выразить радость встречи, кроме клоунских прыжков и
кувыркания, у него не было.
Эгон открыл глаза и собрал последние силы:
-- Отто! Это же Фрам! Фрам!.. Ты слышишь меня? Фрам, из цирка
Струцкого!
-- Ее зовут Мария... -- бредил Отто. -- Она уже никого больше не
назовет папой. Она забудет это слово...
Он ничего не слышал. Он смотрел в пустое небо пустыми глазами. Только
теперь развитому общением с людьми медвежьему разуму открылся смысл
происходящего.
Не мешкая, Фрам отгреб лапами снег, уложил охотников рядом, а сам
улегся на них, согревая их своим мехом. Этому он научился в молодости от
своего дрессировщика, выступая в пантомиме. Охотники уже настолько
отрешились от всего земного и были настолько обессилены, что даже не
пытались понять, что с ними делается. Белый медведь. Правда, он когда-то
выступал в пирке, но с тех пор, конечно, одичал; чего от него ждать?
Оба много лет кряду убивали белых медведей. Теперь настал их черед.
Безоружные, обессиленные, они попались в лапы белого медведя и станут его
добычей. Но почему же он медлит, почему клыки его еще не раздробили им
черепа, как моржам и тюленям? Уж кончал бы скорее, настал бы конец этой
муке!..
-- Ее зовут Мария... -- продолжал бредить один. -- Ей скоро исполнится
два года... Она никогда больше не скажет слово "папа", никогда...
Другой повторял, как заведенный:
-- Это Фрам... Я хорошо его помню... Фрам со своими прыжками. Ну же,
Фрам, скорей... Терзай нас, кусай... Приканчивай!.. Сжалься над нами, Фрам,
не томи понапрасну, кончай разом!..
Их голоса понемногу стихли. Бред перешел в сон. Странный сон. Сон,
принесший тепло. Может, это и есть смерть? Так, говорят, умирают
замерзающие. Сначала коченеют руки и ноги, потом в жилах застывает,
останавливается кровь. А человеку, между тем, снится, что ему тепло, он
чувствует жар в лице, в груди, в глазах...
Таким был и этот сон. Сколько он длился? Целую вечность... Открыв
наконец глаза, они почувствовали на груди тяжесть теплой медвежьей шубы.
Попробовали шевельнуть руками, потом ногами. Руки слушались. Ноги тоже.
-- Эгон!
-- Отто!
Это были их голоса. Оба слышали и узнавали свой голос.
Значит, это не смерть. Не глубокий, беспробудный сон замерзающих.
Давившая на них шуба задвигалась. Поднялась сама. Их грело живое
одеяло.
Фрам стал сначала на все четыре лапы, потом поднялся на задние и
церемонно отдал честь.
Воскресшие охотники приподнялись на локтях, переглянулись и уставились
на медведя.
-- Дай-ка трубку, Отто! Все это кажется мне сном. Только трубка решит
загадку, жив я или мертв!..
Эгон и в самом деле ощупывал себя, желая убедиться, что он жив. Как
будто все было в порядке. Руки действовали, ноги тоже. С ни с чем не
сравнимым удовольствием он хрустнул суставами пальцев. А цирковой медведь
все еще стоял навытяжку, приложив лапу к голове.
-- Фрам и есть! Я ж тебе сразу сказал, что это Фрам!..
Эгон вскочил на ноги. Его шатало от голода. Он прислонился к торосу,
потом подошел заплетающимися шагами к своему избавителю.
Язык еще плохо слушался, не мог выразить мыслей, которые рождались и
росли в усталом мозгу.
-- То, что ты сделал, Фрам... То, что ты сделал, Фрам!.. -- повторил он
несколько раз, потом зарыл лицо в косматой белой шкуре и заплакал, как
ребенок.
Отто тоже поднялся.
Оба медвежатника стояли теперь, беспомощно прислонясь к груди
медведя...
Фрам осторожно отстранил их лапой. Он привык иметь дело с сильными и
гордыми людьми. Да и понимал, казалось, что сейчас не время лить слезы. У
него поблизости берлога с запасами -- добычей, отобранной у других медведей
уже известным нам способом: клоунскими прыжками и сальто-мортале, неизменно
обращавшими хозяев добычи в бегство.
Туда он и приглашал охотников.
-- Что нам делать? -- спросил Отто.
-- По-моему, его знаки имеют определенный смысл, -- ответил Эгон.
-- Держу пари, что он приглашает нас обедать... Что меня вовсе не
удивило бы!..
Он оказался прав.
Обед, который Фрам предложил своим гостям, был скромен и состоял всего
из одного блюда: тюленьего мяса, его ежедневного меню.
Охотники наелись. У них прибавилось сил. Они начали с беспокойством
поглядывать на запад, где солнце уже клонилось к горизонту. Наступали
полярные сумерки.
Это была последняя неделя полярной навигации, последняя неделя, когда
суда еще решались бороздить пустынный Ледовитый океан.
Охотниками овладела тревога: а что, если промысловое судно уже прибыло
и уйдет, не дождавшись их?
Медлить было нельзя. Взвалив на плечи по куску мороженого тюленьего
мяса, они направились в конец острова.
-- Лишь бы не повстречаться с белым медведем! -- сказал Отто, --
Безоружных, он съест нас за милую душу.
Эгон показал на Фрама, который, как огромный пес, шел рядом с ними,
покачиваясь на четырех лапах.
-- Пока этот попутчик с нами, бояться нечего!.. Уверен, что он умеет
обращаться со своими родичами. Верно, Фрам?
Услышав свою кличку, Фрам поднялся на задние лапы, козырнул, как
солдат, который говорит: "Рад стараться!", потом вернулся в прежде положение
и пошел дальше.
И если он не мог выразить это словами, то всем своим видом показывал,
что для родичей у него действительно есть средство, но куда более
безобидное, чем пули, которыми пользуются люди.
Обратный путь занял не сорок восемь, а все шестьдесят часов: усталость
заставляла охотников часто останавливаться и отдыхать.
Корабль еще не прибыл. Зато друзей ждала их хижина с теплыми меховыми
одеялами и приемником. И трое белых медвежат в клетке, которые жалобно
скулили от голода.
Фрам несколько раз обошел вокруг клетки. Сердито ворча, посмотрел на
людей, посмотрел на дверцу, потом тихонько отодвинул засов. Медвежата не
решались выйти. Фраму пришлось вытаскивать их по одному зубами. Вытащив
последнего, он дал каждому пинка: ступайте, мол, на все четыре стороны!
Охотники смотрели на эту сцену, засунув руки в карманы и попыхивая
трубками.
-- Бьюсь об заклад, что у этого медведя человеческие мозги! -- сказал
Эгон. -- Видал, как он открыл клетку? Меня это не удивило: мало ли чему он
научился у людей в своем цирке?.. Удивительно другое: как ему пришла в
голову мысль освободить медвежат, своих соплеменников?
-- Когда мы будем рассказывать об этом происшествии, над нами станут
смеяться, скажут, что это охотничьи басни. Как по-твоему, Фрам?..
Фрам заурчал в ответ. Умей медведь говорить, он, наверно, рассказал бы
о том, что в одном эскимосском стойбище у него есть знакомый мальчик,
который тоже, вероятно, прослыл великим выдумщиком, прежде чем стать
охотником. Он снова заурчал и выжидательно посмотрел на хижину, где
находилась волшебная поющая коробка.
-- Фрам просит включить радио, -- рассмеялся Эгон. -- Я не встречал
более страстного любителя музыки!..
Он вошел в хижину и включил приемник.
Из далекой теплой страны потекла по волнам эфира мелодия. Положив морду
на вытянутые лапы, Фрам слушал с закрытыми глазами. Волновала его не столько
сама музыка, сколько воспоминания, которые она будила... О далеких городах,
согретых жарким солнцем, с ярко освещенными по вечерам улицами, с парками и
цветущими садами. О ребятах, которые протягивали ему кулечки с конфетами,
чтобы он поделил их с другими, о детских ручках, которые едва осмеливались с
робкой лаской прикоснуться к его шкуре. О курносом мальчугане с сияющими
глазами, который кричал ему "Браво!" на прощальном представлении цирка в
одном из тех далеких городов.
Промысловое судно наконец прибыло и, бросив якорь в открытом море,
прислало две лодки за шкурами. По всему было видно, что капитан торопится.
Фрам смотрел и все понимал. Глаза у него были грустные.
Люди глядели на него с недоумением.
-- Жалко оставлять его здесь! -- сказал Эгон. --