Юрий Никонычев. Грезы Скалигера
---------------------------------------------------------------
© Copyright Юрий Никонычев
From: leonessa@mtu-net.ru
Date: 13 Jul 2003
---------------------------------------------------------------
РОМАН
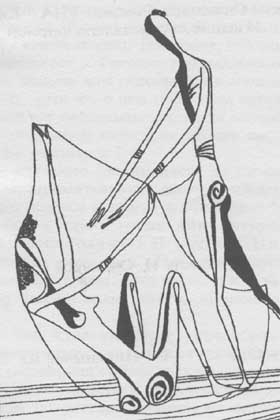 МОСКВА
РИА "КЛАДЕЗЬ"
1998
ББК 84 Р 7
Н 63
Никонычев Юрий Васильевич
Н 63 Грезы Скалигера. Роман. - РИА "Кладезь", 1998
Издание осуществлено фирмой "Раэль"
Н 4702010202
ю 34/ 03 / - 98 без объявления
художник И. Ситников
ISBN - 5 - 85470 - О12 - 3 Љ Никонычев Ю. В.
МОСКВА
РИА "КЛАДЕЗЬ"
1998
ББК 84 Р 7
Н 63
Никонычев Юрий Васильевич
Н 63 Грезы Скалигера. Роман. - РИА "Кладезь", 1998
Издание осуществлено фирмой "Раэль"
Н 4702010202
ю 34/ 03 / - 98 без объявления
художник И. Ситников
ISBN - 5 - 85470 - О12 - 3 Љ Никонычев Ю. В.
О романе Юрия Никонычева "Грезы Скалигера"
Начну с названия. Мне знакомо имя Жюля Сезара Скалигера (1484-1558),
которого, впрочем, по-настоящему звали Джулио Бордони. Но, увы, автор закона
о трех единствах, заложивший основы классицизма, не имеет никакого отношения
к заглавному герою романа. Равно как и Скалигеры (делла Скала) -
представители Вероны в ХIV веке. Впрочем, мы все-таки попадем в ХIV век,
правда не в Италию, но во Францию, что, в данном конкретном случае,
безразлично. Или все же не совсем? Ибо упомянутый Скалигер (Жюль Сезар) был
другом и собеседником гениального Мишеля Нострадамуса, ставшего необычно
популярным у нас после его блистательно оправдавшегося пророчества насчет 73
лет и 7 месяцев большевизма. Суть не в том, насколько близка к истине
произвольная интерпретация нострадамова катрена. Важен фон: событийный,
мистический, предчувствуемый - какой угодно. Тем более, что основное
действие романа все же протекает в России, неотделимо от ее великой и
страшной судьбы. Вольно или невольно, но заголовок уже создает определенную
ауру, хотя ни о чем подобном автор вроде бы даже не помышляет. Или все же
помышляет, задав определенный вектор, продумав все до последней точки, но не
дав ни единой вехи, за которую стоило бы уцепиться?
Нет, я не случайно "зациклился" на названии. С каждым поворотом фабулы,
стремительным, подчас шокирующим, я ловил себя на мысли, что хочется
отторгнуть эти самые "грезы". Грезить можно о райских кущах, тогда как
читатель постоянно обрушивается в преисподнюю. И какую! Ничего общего с
исчисленными по "музыке сфер" Пифагора ярусами и "Inferno" Данте мы в ней не
обнаружим. Зато налицо все до боли знакомые приметы нашего бытия: нынешнего,
прошлого и, как знать, грядущего.
Казалось бы, куда уместнее употребить вместо грез - метаморфозы,
бесконечные превращения по замкнутому кругу. Все же есть она - эта надмирная
орбита, некий птоломеев эпицикл!
Кстати, о трех единствах классического искусства. Вроде бы от них и
следа не осталось. Роман безоглядно может быть причислен к категории
современной прозы, постмодернизма, коли угодно. Но это еще и мистическая, в
самом прямом смысле, проза, ибо автор настойчиво выбрасывает нас из
пространства-времени. Действие протекает всюду и нигде: в прошлом,
настоящем, будущем и опять же - нигде. Это вечное ТЕПЕРЬ, где все замкнуто
во всем. Пожалуй, тут и кроется завораживающее своеобразие романа,
удивительно сочетающего в себе вневременность и жгучую, пронизанную
неподдельной болью, современность.
Несмотря на обилие персонажей, это, в сущности, роман с единственным
героем. Как некогда Каин, он убил брата, но убил ли? Во вневременности нет
смерти. Мертвые оживают и вмешиваются в сюжет, меняя свой текучий облик.
Отец и сын - лишь различные ипостаси ЕДИНОГО (почти по Плотину), учитель и
ученик - тоже. Равно как и претерпевающая те же метаморфозы женственность
-стихия, но не конкретное лицо: Лиза, Грета, Анела, Фора...
Меняются имена - они условны, страны - тоже условны (Франция, Германия,
Австралия ), ибо, как в триединстве классицизма, у ВЕЧНОГО ТЕПЕРЬ свои
жесткие законы и ограничения. "Я чувствовал, как к нам прыгали Грета, Анела,
Лиза, Фора, Ликанац, Куринога и многочисленные сотворенные мной персонажи
больного мозга ", - на мой взгляд, в этом признании героя романа таится
гениальный просчет. О том, что повествовательная ткань являет собой поток
сознания, пусть больной и отягощенный чисто фрейдистскими комплексами,
читатель поймет и без такого конкретного указания. Оно отсекает некий
глубинный план, достаточно мастерски обозначенный. То самое ЕДИНОЕ, что
зовут кто космосом, кто информационным полем. Читателю нужно оставить этот
как бы само собой сложившийся подтекст, на чем и стоит-то роман, что и
составляет его потрясающее и завораживающее своеобразие.
Роман Юрия Никонычева "Грезы Скалигера" превосходен, выпол-нен на
едином дыхании. Если спросят о жанре, я бы сказал - мистический реализм.
Еремей Парнов
Когда меня окликают по имени, я не оборачиваюсь. Мне безразлично все: в
какой стране я живу, десятилетия какого века приютили мое телесное существо,
куда и к кому я иду, и каким будет мое последнее слово тому первому, кто
окликает меня по имени, несмотря на то, что я не оборачиваюсь. Подбегает,
хватает за плечо, заглядывает в глаза и все только для того, чтобы
почувствовать себя не одиноким в уличной толпе. Я смотрю равнодушными
бесцветными глазами на его покрасневшее от быстрой ходьбы лицо, на
вспотевшую подкрашенную прядь русых волос, и вижу ту бездну, зияющую
риторическими вопросами, которую ни он, ни я никогда не сможем преодолеть,
чтобы хоть на миг почувствовать себя единым организмом, в котором каждый из
нас исполняет свою роль.
-Юлий ! Вы не узнаете меня?
Я продолжаю свое движение вперед, отстранив назойливого незнакомца
левой рукой в черной лайковой перчатке. После смерти родителей, случившейся
в один год, я перестал узнавать своих близких и знакомых. Осознание того,
что мое место в роковой очереди продвинулось, заставило меня вычеркнуть из
памяти всех. Я не стал безжалостным, циничным, надменным. Я превратился в
холодное зеркало, все отражающее, но ничего не вбирающее в себя.
- Юлий! Вы не узнаете меня?
Он отражается во мне щуплой козлоногой фигурой, укутанной в
старомодное, с нафталиновым запашком, ратиновое пальто. В его блеклых глазах
печаль и тоска.
- Что вам угодно?
- Слава богу, вы меня узнали! - С надеждой на что-то вдохновенно
выкликивает мой преследователь. Да, я его помню -своего школьного учителя по
литературе. Я его помню, но я его забыл.
- Я знаю, у вас умерли родители. Жизнь, к сожалению, чревата смертью.
Но Вы ведь очень молоды и у Вас еще будут новые родители. Глаза учителя
радостно вспыхнули и вновь погрузились в темное варево печали и тоски.
Когда умер отец, спустя одиннадцать месяцев после смерти матери, мне
исполнилось семьдесят пять лет, столько же, сколько было отцу в день его
похорон. За одиннадцать месяцев я постарел сразу на целое десятилетие,
потому что, когда умерла мать, мне исполнилось столько же, сколько было ей -
шестьдесят пять. Через неделю после похорон отца я встретился со своей
любовницей -чувственной продавщицей из галантерейного магазина. Она, не
скрывая неприязни, после нескольких моих немощных попыток овладеть ею,
сказала: "Скалигер, ты стал дряблым мерзким старикашкой". Я взглянул на тот
предмет, который явился причиной ее негодования, и понял все отчаяние
старости.
Я продолжал свое движение вперед, но учитель, повиснув на моей руке,
все чаще и чаще спотыкался, и когда его кто-то случайно задел из густой
встречно текущей толпы горожан, учитель неловко подпрыгнул и рухнул на
грязный осенний асфальт. Я склонился над ним и заметил в его глазах тень
постепенно опускающегося занавеса смерти, который каким-то странным образом
захватил и меня. Через несколько мгновений взгляд учителя должен был
погаснуть и тогда вся тяжесть его дряхлой телесности незримым прыжком
оседлала бы меня. Я пустился наутек с места происшествия. Хоть отец мой был
очень пожилым человеком, но бегал он замечательно, в чем я лишний раз смог
убедиться на самом себе.
Все мои ночи - без снов, а дни полны сновидений. Измочаленный, мокрый
от обильного пота, встаю утром с одинокой постели и иду умываться. Смотрю в
зеркало и вижу - зеркало: бесцветные глаза, бледное лицо, легкие ключицы.
Где я? А, только что встал с постели и пришел умываться в ванную. Сосед по
квартире уже стучится в тонкую перегородку двери: "Юлий! Выходи! Черт бы
тебя побрал...". Сосед недавно закончил курсы по экстрасенсорике и слово его
внушительно: меня в самом деле забирает нечто.
- Ты кто? - спрашиваю я.
- Я твой отец.
- А где же мама?
- Она еще раз умерла. После смерти в нашем мире она умерла и здесь.
- А где это - здесь?
- В серафических слоях околоземного пространства.
- Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь мне.
- Не надо понимать, ты попробуй почувствовать. Приблизься ко мне.
Я медленно потянулся к светлому маленькому облачку, которое называло
себя моим отцом. Моя трепещущая плоть неожиданно оказалась в крепких
стариковских объятиях: теплота сыновнего чувства овладела мной и несколько
благодарных слезинок блескучими искорками вспыхнули в неправильном круге из
двух туманностей.
- Как я по тебе скучаю, сынок!
- Отец, дорогой мой отец!
4
Облачко исчезло, а я оказался в собственном теле, которое дремало в
кресле перед телевизором, и тотчас увидел все, что с ним происходило: оно
шло по пыльной деревенской дороге, сквозь желтые плешины которой прорастали
острые кусочки изумрудной зеленой травы. На вытянутых руках моего тела
возлежал мертвый отец. Руки его болтались, как плети, и били по коленям
моего тела, мешая ему продвигаться вперед. Седая голова отца запрокинулась и
остро торчавший маленький кадык напоминал птичий клюв. Ослепительно сияло
летнее солнце, шумела тяжелая листва невидимого леса, откуда, наверное, и
доносилось чистое пение райских птиц.
Дорога все становилась уже и круче. Тело мое стало задыхаться и тяжело
кашлять. В сплевываемой слюне алела кровь.
- Юлий, ты устал?
- Кто спрашивает меня?
- Твоя мать, Юлий.
- Мамочка, где ты?
- Подними голову, сынок. - Я задрал голову и в ослепительно ярком небе
увидел прекрасное лицо матери.
- Мама, я не перестаю любить тебя. Отец сказал, что ты умерла в
серафических слоях околоземного пространства. Я не понял его. Объясни мне -
что это такое?
- Это невозможно объяснить, это надо пережить.
- И ты, мама, не хочешь говорить со мной.
- Взгляни на свои руки... - Я взглянул и увидел, что более половины
тела отца покрылось острым золотым оперением и с каждым моим шагом оно
покрывалось им все больше и больше.
Через десяток шагов тело отца конвульсивно задергалось, потом
спрыгнуло с моих вытянутых рук и побежало само по пыльной разбитой
дороге, размахивая голыми руками и ногами, похожее на страуса в золотом
оперении.
В полном одиночестве, обескураженный и усталый, я стоял на дороге,
которой не видно было конца. Я заплакал.
- Сынок, не плачь. Ты все сам скоро поймешь.
Я еще раз задрал голову и опять в ослепительно ярком небе увидел
прекрасное лицо матери, а рядом с ним счастливое выражение отца,
превратившегося в золотую птицу.
- Сынок, мы теперь навсегда вместе. Навсегда.
- Не исчезайте ! - панически закричал я. - Я не могу жить без вас,
возьмите меня с собой.
Но почерневшее небо отстраненно встретило мои крики.
5
На старой пожелтевшей фотографии на фоне винной палатки и изможденного
от городской липкой пыли облезлого дуба стоим мы с братом: оба в кургузых
светлых кепочках, мешковатых пальтишках с фабрики "Большевичка", чему-то
счастливо улыбаемся, и у каждого в лацкане торчит ватный ком белоснежной
розы. Когда я прочитал на обратной стороне фотографии надпись, то сразу
вспомнил, что улыбались мы не по своей воле, не от детского счастья, а
оттого, что дворовый художник Стенькин, снимавший нас по просьбе матери,
угрожающе показал нам свой квадратный кулак и сказал, что если мы не
улыбнемся, то он за себя не отвечает, не отвечает за свою хреновую жизнь и
за наше безоблачное детство, но отвечает перед искусством и поэтому размажет
наши бараньи мозги по стенке. Мы улыбнулись, а потом уже, когда Стенькин
довольный съемкой, пошел к палатке соображать на троих, мой младший брат
заплакал, рассопливился и за неимением носового платка я вытирал ему нос
своей пышной белой розой.
Здоровый стриженый Стенькин стоял у палатки с подвыпившими мужиками,
задирал проходящих женщин, а одну, тонкую и красивую, в светлом плаще,
остановил и после недолгого с ней разговора повел в свою комнату, где я
однажды был и кроме картин, подрамников, разбросанных холстов и старого,
обитого зеленым плюшем, дивана ничего интересного не обнаружил.
Послала меня к нему родная тетка, белокурая хохотушка с маленькими
детскими пальчиками, которые вечно были заляпаны фиолетовыми чернилами. Она
училась в финансовом техникуме и часто из-за города, где жила с нашей
бабушкой, приезжала к моим родителям и оставалась на день-два, а то и на всю
неделю. В Стенькина она влюбилась сразу и позировала ему бесплатно в
обнаженном виде.
- Юленька, - сказала она мне однажды, нежно гладя мои вихры своими
фиолетовыми пальчиками, - проберись незаметно к Стенькину и изрежь картину,
где я лежу голой на плюшевом диване.
- Теть Клав, он же меня убьет, если застанет.
- А ты сделай так, чтобы не застал.
- Не-ет ! Я не пойду.
- Ну поднимись-ка ! - Я встал со стула. Мы были с ней почти одного
роста: я - высокий стройный подросток двенадцати лет, она -
восемнадцатилетняя студентка техникума со смеющимися карими глазами и
крупной грудью. Тетя Клава прижала меня к себе. - Тебе хорошо ? - спросила
она резким холодным тоном.
Я молчал. Мне не было хорошо, но мне было непонятно и любопытно. Ее
тяжелая грудь упиралась в меня, а руки ловко и быстро забрались под рубашку,
а потом в брюки. Я вздрогнул от холодного цепкого прикосновения.
6
Когда Стенькин в который раз куражился перед мужиками и проходящими
мимо женщинами у винной палатки, я по водосточной трубе пробрался через окно
в его комнату. Картину, изображающую голую женщину на плюшевом диване, я не
нашел, зато в столе увидел кипу порнографических фотокарточек, от которых
еле смог оторваться. На одной из них я узнал тетю Клаву: в черных чулках и
пионерском галстуке, голяком сидящую на дворницкой метле. Эту фотокарточку я
аккуратно засунул за пазуху.
- Ну как? - нетерпеливо спросила меня тетя Клава, дожидавшаяся под
окном.
-Все в порядке, -соврал я. -Картина уничтожена.
Спустя полчаса я стал настоящим мужчиной.
На метле было не очень-то удобно летать. Я сидел сзади и держался за
полные упругие плечи тети Клавы. Ее белокурые длинные волосы от теплого
ветра налипали на мое лицо и я никак не мог их стряхнуть, боясь освободить
хотя бы одну руку, чтобы не упасть. Внизу стоял поддатый Стенькин, рядом с
ним гогочущие мужики, сопровождавшие шумными возгласами каждую женщину,
которая шла вместе со Стенькиным в его комнату. Тетя Клава ловким манером
перемахнула вокруг метлы и уже сидела ко мне лицом. Каким оно было
счастливым!
- Юленька! Ты не забудешь меня, когда станешь взрослым?
- Но это же так нескоро.
- Какой ты глупый. Ты будешь стареть не сам по себе. Твоя старость
скрывается в твоих близких и знакомых.
- Что же мне делать?
- Тебе нельзя никого любить. Никого.
- Как же я без вас всех: без мамы, папы, брата, тебя, бабушки?
- Ты будешь умирать с каждым из нас. Твое детство уже умерло во мне.
Держись, - сказала весело тетя Клава, - я буду тебя раздевать.
Она скинула с моих плеч рубашку, стянула брюки и все это комом бросила
вниз. Затем сняла со своей шеи галстук и повязала его мне.
- Будь готов!
- Всегда готов, -ответил я и выставил кривым углом локоть.
Внизу мою одежду с любопытством рассматривал Стенькин и, изредка
вскидывая свою стриженую голову в выси небесные, плевался в сторону двух
летающих молодых людей.
- Клавка, - кричал он, - спускайся. Все, что я у тебя увидел отсюда,
возбудило во мне желание творить.
- Держи карман шире!
Стенькин широко распахнул карман своего вельветового пиджака, и тетя
Клава с метлы нырнула в него.
Когда я бежал легкой трусцой семидесятипятилетнего умершего моего отца
по осеннему асфальту от умирающего учителя, я думал только об одном: как бы
не опоздать уйти из-под власти смертного тлена знакомого мне человека. Бежал
я долго, до тех пор, пока одеревеневшие ноги отца, несущие меня, не
отказались двигаться дальше. Я сел на Гоголевском бульваре на заляпанную
дождевыми каплями давно не крашенную скамью и жадно закурил.
Подул легкий сырой ветер, что-то невнятное прошуршала листва серых
деревьев и сиреневая горстка пепла упала на мои колени. Я стряхнул ее левой
рукой в лайковой перчатке.
- Папаша! Закурить не найдется?
Я посмотрел равнодушными бесцветными глазами на юное существо в черной
курточке из искусственной кожи, поймал на себе ее лукавый взгляд кошачьих
желтых глаз.
- У тебя что? Желтуха? - спросил я.
- Папаша, в твоем возрасте вредно заниматься медициной.
- Какой я тебе папаша, - возмутился я, - мне всего-то двадцать пять.
- Посмотри на себя, старый хер! - и существо протянуло мне маленькое
измызганное зеркальце.
То, что я увидел, меня не удивило: бесцветные глаза, бледное лицо.
Легких ключиц в маленьком зеркале увидеть не удалось. Правда, бледное лицо
было испещрено множеством морщинок.
Я вернул зеркальце и протянул пачку сигарет нахальному смеющемуся
существу с накрашенными желтыми глазами.
Черная курточка, как я назвал эту юную девицу, уселась рядом со мной,
закурила и, закинув ногу на ногу, спросила:
- Выпить хочешь?
- У тебя что - все с собой?
- Нет. Но ты дашь денег и я быстренько сбегаю. Вон, видишь -ларек.
Черная курточка отсутствовала минут двадцать. Я успел за это время
выкурить три сигареты, трижды выругаться и трижды проклясть свою
доверчивость. Она появилась неожиданно, обхватила мою шею ладошками и пьяно
протянула:
- А это-о я.
В руках у нее был набитый доверху продуктами и заморским питьем большой
пакет из плотной бумаги.
- Ты что? Ларек ограбила?
- Нет. Просто там оказался мужчина не равнодушный к женской красоте.
Ведь я красивая? - спросила Черная курточка.
- Твои глаза, как два лимона. . .
- То-то,- оборвала она мои комплименты. - Пошли ко мне домой. Там и
выпьем.
Мое бледное лицо теперь уже со множеством мелких морщин выразило
крайнее неудовольствие.
- Ты боишься?
- О, если бы это было возможно!
Пока я раздумывал, идти или не идти, Черная курточка, неожиданно
взвизгнув, прыгнула ко мне на колени и спрятала лицо на моей груди,
укутанной черным шелковым шарфом.
- Он идет! - с ужасом проговорила она, указывая рукой в сторону Арбата.
Я увидел быстро и решительно приближавшегося чернявого человечка,
пламенно жестикулирующего и изрыгающего непонятные словосочетания. Черная
курточка тихонько провыла:
- Я у него двести долларов украла в ларьке.
- Ты должна их вернуть!
- Мяу-мяу...
На моих коленях сидела великолепно-красивая сиамская кошка, впивающаяся
лаковыми коричневыми коготками в мой шарф.
- Куда дэл суку?
- Товарищ, сука у меня на коленях.
- Ты у меня сейчас зад цэловать будэшь, - сказал решительный чернявый
человек и принялся расстегивать собственные штаны.
Я снял с левой руки черную лайковую перчатку. Газообразная голубая
ладонь трепетала на осеннем ветру, склоняясь то в одну, то в другую сторону.
Потом она постепенно принимала все более жесткую форму и, наконец, стала
похожей на мощный выброс гудящего пламени из газовой горелки. Я прикоснулся
им к торговцу из ларька и он лопнул, как мыльный пузырь. Никто из проходящих
по бульвару людей ничего не заметил, только все с удовольствием
принюхивались к запахам дымных углей и жареного шашлыка.
- Возвращайся, - сказал я кошке, столкнув ее с колен.
- Мяу!
- Тогда веди к себе.
Черная курточка жила недалеко. Когда мы с ней вошли в подъезд, на нее
набросился огромный кот. Я стал пинать его ногами, но кот был не из
трусливых и никакого внимания на мои слабые толчки стариковскими ногами не
обращал.
- У, кобелина! - взвыла моя сиамская предводительница. Пока я
безуспешно боролся с котом, она опять стала лукавой смеющейся Черной
курточкой. Приподнявшись с четверенек, взяла первым делом пакет с питьем и
закусками в свои руки.
- Нам на третий этаж, - как ни в чем не бывало, сказала она. Под
огромным котом расплывалась темная лужа.
В детстве я учил себя общению с людьми. Прежде чем с кем - либо
вступить в беседу, я думал о том, что могу сказать интересного своему
собеседнику, как не заставить его краснеть, если я скажу то, о чем он
никогда не слышал или о чем не имеет собственного понятия. Поэтому я
старательно учил себя болтать ни о чем, но так, чтобы это было всем понятно.
Школьный учитель по литературе меня спрашивал:
- Скалигер! Ты очень способный молодой человек, но у тебя нет
принципов, и поэтому вряд ли ты достигнешь высот в какой-либо сфере
деятельности. Почему ты не хочешь обрести принципы?
- Омар Ограмович, я ищу свободы и покоя.
- Ссылки на классиков неуместны. Отвечай по существу: хочешь ты или не
хочешь обрести принципы?
- Безусловно, Омар Ограмович.
- Тогда после уроков пойдем со мной и я тебе их дам.
Его козлоногая фигурка в ратиновом пальто, высоколобая темная голова с
подкрашенной русой прядью вызывали во мне чувство брезгливости. Мы шли с ним
по Гоголевскому бульвару, потом свернули в переулок и остановились перед тем
подъездом, где нас с Черной курточкой встретил огромный кот.
- Нам на третий этаж, - сказал Омар Ограмович и прикоснулся к моей
румяной щеке мягкой лягушачьей ладонью. Меня тут же стошнило.
Когда я и Черная курточка поднялись на третий этаж, пока она искала
ключи от двери по карманам, резко раздвигая и сдвигая молнии, я говорил ей
об Омаре Ограмовиче.
- Это мой дед. Он сегодня умер на улице, а ты сбежал.
- Я устал. Открывай дверь.
Черная курточка, так и не найдя ключа в своих бесчисленных карманах,
толкнула дверь ногой, и она бесшумно упала внутрь квартиры со всей дверной
коробкой.
- Если у тебя такая сила, чего же ты испугалась продавца?
- Я хотела, чтобы ты помолодел, убив его. Но ты не смог проникнуться к
нему симпатией, ведь он тебе сразу стал грубить.
- Ты знаешь все мои секреты?
Черная курточка приблизилась ко мне и потрепала мою морщинистую щеку
мягкой лягушачьей ладонью.
- О-о! - тяжко выдохнул я. - Вы настигли меня, учитель?!
Черная курточка выложила все содержимое пакета на круглый пыльный стол
в центре маленькой уютной комнаты, в которой помимо
стола еще находился двустворчатый желтый шкаф и три желтых кресла.
-- Ты должен говорить со мной о художнике Стенькине. Ведь он мой дядя.
- Художник Стенькин украл мою тетку. После того, как она прыгнула к
нему в карман, я ее больше не видел.
- Тетка давала тебе плохие советы.
- Но я ее любил.
- И поэтому ты стал катастрофически стареть.
- Да. Но мое детство, отрочество, юность перешли сюда, - и я указал
Черной курточке на свою левую ладонь в лайковой перчатке.
-Как ты наивен. Стенькин тоже был чрезвычайно наивен, поскольку
перепутал свою кисть со своей мужской достопримечательностью. Твоя тетка
буквально высосала его. Посмотри!
Черная курточка подошла к единственному окну в комнате, раздвинула
тяжелые желтые шторы и я увидел Хованское кладбище.
- Вон его могила.
Я вгляделся в сырой полумрак. Под табличкой: "Художник Стенькин" на
глубине метров двух лежал гроб без верхней крышки. В гробу находился живой
осунувшийся Стенькин, а на нем извивающаяся полная голая женщина с длинными
белокурыми волосами; в ней я узнал свою родную тетку. Она была похожа на
большую розовую пиявку.
- Зачем же ты спрашиваешь о своем Стенькине, если сама лучше меня
знаешь о его судьбе? - хрипло спросил я Черную курточку.
- Ты должен был вспомнить о нем, чтобы спасти его сейчас. Спаси его и
себя.
- Каким образом? И от чего я его должен спасти?
- Ни он, ни твоя тетка не умрут окончательно, пока ты не проникнешься
любовью к каждому из них, к таким, какими ты их увидел.
- Хорошо. Я люблю их. Люблю.
Как только я произнес эту фразу, осунувшийся Стенькин и моя розовая
тетка превратились в два скелета, сцепившихся в неразлучном объятии. Черная
курточка вновь зашторила окно и, повернувшись ко мне, устремилась в мою
сторону козлоногой фигуркой Омар Ограмовича, посверкивая желтыми глазами.
Отцовская немощь слетела с меня, и я ощутил небывалый подъем сил. Мне
впомнилась моя недавняя встреча с толстой чувственной продавщицей из
галантерейного магазина. О, я бы сейчас ей доказал, что я не мерзкий
старикашка.
Бедная одинокая женщина.
Жизнь не стоит на месте, а смерть всегда стоит и ждет. Жизнь можно
обмануть жизнью, а смерть смертью не обманешь. Смерть входит в смерть, а
жизнь никогда не соответствует другой жизни. Кто кого выдергивает из пустоты
безмолвия и заставляет вращаться вокруг мертвой планеты: я ли слово, или
слово - меня? Кто из нас мертв более? Кто тихой сапой крадется по жизни с
косой смерти, не говоря ни слова, тот уже рождается мертвым. Если он
произнесет хотя бы одно слово, на него сразу же обратят внимание и тень
неизвестности не поможет ему скрыться от любопытных глаз спутников по бытию.
Я молчал до четырех лет, а потом слово выудило меня их хаоса и прорвало мою
артикуляционную замкнутость фаллическим извержением оформленного смысла.
- Фора! - крикнул я и огляделся.
Слово прозвучало красиво и, стукнувшись о потолок, упало в мои руки
круглым литым предметом. Я подошел к раскрытому окну и бросил его в майские
запахи порхающего голубого воздуха: "Фора!" взвизгнул предмет. Через минуту
перед моим окном стояла девочка в оранжевом спортивном костюмчике, держа в
руке резиновый кругляш.
- Ты меня звал?
- Фора?
- Да, я Фора.
Я перелез через подоконник и оказался в нашем дворе на Шаболовке.
- На, возьми мое имя назад, - сказала она, протянув кругляш. - Спрячь
его подальше и, как только захочешь увидеть меня, брось его и скажи: "Фора!"
- Фора!
- Начинай говорить, Скалигер!
- Что в имени тебе моем?
- Разговорился. . . Пошли играть.
Я и Фора залезли в песочницу и стали лепить пирожки. Ее полная фигурка
в оранжевом шерстяном костюмчике, пунцовые маленькие губки и веселый смех
заставили меня поверить в то, что я действительно живу.
- Ой, стеклышко! Ой, мушка! - то и дело вскрикивала она, радуясь всякой
всячине.
- Фора, полезли на сараи загорать.
Наш двор был окольцован сараями, покрытыми искрящейся мягкой толью. Она
была горяча и пахла нездешними местами. Мы лежали с Форой рядом и смотрели
на небо.
Я лежал и думал о том, что перейдя из тьмы в свет, из немоты и
безмолвия в шумы и звуки жизни, я занял не свойственное для себя место за
органом бытия и вынужден буду нажимать клавиши его, не понимая ничего в
высшей гармонии поступательного процесса жизни. Я жалел себя, потому что
Фора, распечатав мои уста, умела наслаждаться каждой звенящей секундой
жизни, а я бы все же предпочел молчание, потому что слова, подобно
насытившимся пчелам, разворовывали мед моей субстанции, унося его неведомо в
какие пределы, неведомо кому.
-- Зачем ты это сделала? - спросил я Фору.
- Я здесь ни при чем. Ты насквозь пронизан словами. Рано или поздно, но
ты бы заговорил. И разве возможно нам с тобой уклониться от слов, когда они
буквально кишат вокруг.
- Эй, засранцы! Вы че там делаете? - неожиданно спросил нас инвалид
Семен Кругликов, одетый в китель, в галифе и в сандалетах на босу ногу.
- Вот видишь, Скалигер, - сказала Фора. - Ты еще не то услышишь.
Я подполз к краю крыши сарая и внимательно посмотрел на Семена
Кругликова. Вид у него был воинственный, и настроен он был решительно,
энергично потрясая суковатой палкой из леса, приспособленной им под клюшку.
- Пошел вон, старый хрен! - сказал я.
Захлебнувшись от негодования, Семен Кругликов схватил проходившего мимо
художника Стенькина за интимное место и потянул его в подъезд. Через
несколько минут из подъезда выбежал расхристанный Стенькин, а за ним с гиком
и свистом, потрясая снятыми галифе и сверкая тощей задницей, пустился в
преследование Семен Кругликов.
Семен Кругликов, пробежав несколько десятков метров, запыхавшись и
растеряв свои сандалеты, еле переводя дыхание, остановился у одиноко
растущего перед домом дуба. Он прижался к нему мокрым низким лбом, обхватил
узловатыми в наколках руками и громко зарыдал. Плечи его сотрясались от
свистящих всхлипов и в такт им, подергивался старый выгоревший китель,
приоткрывая впалые ягодицы инвалида.
Нарыдавшись вволю, Семен Кругликов отцепился от запыленного дуба и
натянул галифе. С трагическим выражением на лице он подошел к винной
палатке, купил бутылку дешевого портвейна и выпил ее тут же залпом. Потом
сел на перевернутый ящик, оперся небритым подбородком на свою суковатую
палку и стал смотреть на прохожих. Семен Кругликов любил жизнь и любил
смерть. Он одинаково радовался рождению ребенка в знакомой семье и смерти
кого-либо из близких ему людей. И то и другое всегда представлялось ему
торжественным и таинственным актом, через который проявляла себя некая
высшая сила.
Вот вчера заходил он к своему сослуживцу Акиму Пиродову в гости. Вместе
работали на главпочтамте вплоть до пенсии. Посидели, поговорили, телевизор
посмотрели, в картишки перекинулись и расстались, как и всегда, до завтра. А
сегодня с утра узнал от сожительницы его Анфисы Стригаловой, что забрали
Акима в больницу в бесчувственном состоянии, где он и скончался, не приходя
в себя.
- Как же я теперь жить-то буду? А, Семен? - причитала Анфиса.
Семен Кругликов вежливо гладил шершавой ладонью ее культурную спину и
молчал. Он не любил утешать.
-- Что ж ты молчишь-то, Семен?
- Скажу кратко: готов тебя принять к себе.
Анфиса благодарно прижалась к впалой груди Семена Кругликова и чмокнула
его накрашенными губами в небритую щеку.
Умер Аким Пиродов и досталась как бы в наследство от него Семену
Кругликову культурная женщина Анфиса Стригалова.
"Так и случается в жизни: от тех, кто уходит на тот свет, - имеется
прибыток, а от тех, кто рождается, - одни убытки", размышлял инвалид Семен
Кругликов, прихлебывая из блюдца, крепко заваренный чай, который налила ему
уважительная Анфиса. Вышел Семен Кругликов во двор, чтоб, глядя на майскую
природу, погоревать и одновременно порадоваться тем изменениям, которые
произошли в его скучной жизни, но, увидев, как два малыша ползают по его
сараю, впал в негодование:
- Эй, засранцы! Вы че там делаете?
Случившееся с ним потом Семен Кругликов не осознал ни в тот момент,
когда кинулся хватать за интимное место художника Стенькина и тащить его в
подъезд, ни тогда, когда, запыхавшись, рыдал у дуба без галифе, подрыгивая
тощим задом.
- Позор! Какой позор! - сдавленно простонал Семен Кругликов, сидя на
ящике из-под бутылок.
Но, как это ни странно, ему показалось, что никто из гогочущих мужиков
у винной палатки, никто из прохожих на улице не видели его постыдных гонок
за художником Стенькиным.
- Не сошел ли я с ума? - задал себе вопрос Кругликов и еще раз обозрел
местность вокруг. Напротив него метрах в тридцати громыхал трамвай,
толпились на остановке по-весеннему одетые люди и улыбались; некоторые
женщины стояли, держа в руках голубенькие букетики цветов. На
противоположной стороне улицы в цветной очереди за продуктами у магазина
приятно выделялась культурная женщина Анфиса Стригалова, которая отныне
будет ложиться с ним в большую постель каждую ночь. Заметив, что на нее
смотрит Кругликов, он помахала ему рукой, высоко задрав ее, так что
показалось темное пятно под мышкой.
- Да нет, не сошел. Все в порядке, - ободрил себя Кругликов и помахал в
ответ Анфисе большой суковатой палкой. Но в этот момент, пока он своей
дорогой женщине посылал привет, рядом с ней объявился Стенькин, с
взлохмаченной головой и в разорванной рубашке. Художник настойчиво вытягивал
Анфису из очереди, что-то убежденно говорил ей и, указывая на Семена
Кругликова, выразительно крутил пальцем у своего виска. Семен хотел было
встать и направиться к Стенькину, чтобы попытаться объяснить ему, что в
случившемся с ним он сам ничего толком не может понять, но оторваться от
ящика не достало сил. Бутылка портвейна оказала свое действие на ноги
инвалида.
Анфиса, поначалу недоверчиво слушая Стенькина, потом, изредка взгядывая
на безуспешно пытающегося встать с ящика Семена Кругликова, на его странную
улыбку на осоловевшем лице, вдруг резко подхватила Стенькина под локоть и
пошла с ним к ближайшей подворотне. Кругликов увидел в последний раз
культурную спину своей Анфисы, которую ловко облапил Стенькин, в раскорячку
скачущий рядом с ней, поскольку между ног его болталась заляпанная краской
ссохшаяся кисть.
- Что ты со мной сделал, засранец?
- Это он к тебе обращается, Скалигер, - сказала мне Фора.
Мог ли я предполагать, что только-только научившись говорить, уже смогу
давать своим словам столь действенное наполнение повелевающим движением и
энергией. Я не готов был еще нести подобную тяжесть и, видя переживания
инвалида Семена Кругликова, страдал.
- Что с тобой, Скалигер? - любопытствовала Фора. - Ты его жалеешь?
- Не его я жалею, а себя. Мне будет трудно и одиноко жить. Меня никто
не сможет понять, никто не сможет любить.
- Не бойся. Я останусь с тобой навсегда, до самого конца твоего пути.
Не бойся, - успокаивала меня Фора.
- Но ты же не из нашего мира. Ведь ты не человек?
- Ты тоже.
- Ты обманываешь меня, Фора. Я не верю тебе.
- Может быть. Ты пока - человек, но уже теряешь свою человеческую
сущность. Твоя ладонь уже превращается в пламя.
Я взглянул на левую ладонь и увидел, как она светится изнутри алым
газообразным маревом.
- У тебя рука гения. Все будут послушны твоему слову.
- Ты заставила меня говорить, ты заставляешь меня сочинять. Но я хочу
простой жизни. Я хочу жить и умереть, как все.
- Скалигер! У тебя нет другого выхода. Ты уже своим словом
уничтожил ум и душу этого бедняги.
Я посмотрел на Семена Кругликова. Слюни, обильные и тягучие, текли по
его небритому подбородку. Он сидел на ящике и указывал суковатой палкой,
плача и улыбаясь одновременно, на то место, где только его мутному взору
представлялась сотрясающая его сознание картина: на низкой скамеечке лежала
его культурная женщина Анфиса в обнаженном виде, взяв себя левой рукой за
правую грудь и резко оттянув ее за крупный красный сосок, как будто
предлагала ее кому-то, широко улыбаясь, а рядом стоял в раскорячку художник
Стенькин, который кистью, торчащей меж его сухопарых ног, мазал тело Анфисы
лиловой краской.
- О-о ! - взревел Семен Кругликов и пополз на четвереньках через
трамвайную линию, туда, где возлежала его дорогая Анфиса.
- А-а, инвалидишка. На чужое позарился. На любовь друга, - вспрыгнул на
его тощую спину невесть откуда взявшийся Аким Пиродов.
Пиродов был в сером габардиновом костюме, в белой рубашке и лаковых
ботинках, то есть во всей своей парадной одежде, которую, не пожалев,
отнесла в морг Анфиса.
- Аким! Смотри, что он с нашей Анфисой вытворяет! - орал Семен
Кругликов, не обращая внимания на толчки и удары Акима Пиродова.
- И до него доберемся! Разговорчики!
Мертвец и инвалид упорно стремились к Анфисе Стригаловой. Ум умершего и
душа помешанного образовали некое единство, которое не принадлежало ни к
посюстороннему, ни к потустороннему мирам. Оказавшись в объятиях мистики и
реальности, они все же еще находились во власти своего чувства к Анфисе,
которая и была для них третьей реальностью, от потери которой сходят с ума
или умирают.
- Фора, что я могу сделать для них?
- Для Пиродова ничего не надо делать - это фантом. А для инвалида
спасение в смерти.
- Тогда пусть он умрет, - сказал я.
В тот же миг прогремевший трамвай разрезал тело Семена Кругликова на
две части, каждая из которых все же судорожно еще несколько мгновений
продвигалась вперед к Анфисе. Взлетевший вверх Аким Пиродов вытащил из
кармана пиджака лайковую перчатку и бросил ее мне.
- Теперь ты погиб безвозвратно, Скалигер, - сказала мне Фора, когда я
натянул брошенную мне перчатку на левую пламенеющую ладонь.
- Бедная одинокая женщина, - сказал я Форе и сильно прижал ее к себе.
- Ну дай поспать еще, Скалигер, - лениво протянула Фора, - ты меня
просто замучил.
- Я видел странный сон: будто ты маленькая, и я тоже, и мы вместе с
тобой лежим не в постели, как сейчас, а на крыше сарая.
- И ты меня трахаешь, - буркнула Фора.
- Грубая ты женщина, С тобой толком поговорить нельзя.
- А ты не говори, ты люби меня, Скалигерчик, - Фора повернулась ко мне
лицом. Ее полные чувственные губы, тяжелый прохладный живот действовали на
меня неотразимо.
Я познакомился с ней еще до смерти отца, случайно заглянув в
галантерейный магазин в поисках лезвий. Она сразу бросилась мне в глаза
своей влекущей пышностью и цветущим здоровьем, и странным для страстного
тела и томного лица бесцветным взглядом, наполненных как бы дистиллированной
водой, глазниц. Она как будто бы ждала меня и на мое неуклюжее приветствие
ответила быстро и согласно. Вечером того же дня мы уже встретились в моей
комнате, где, ни слова не говоря, быстро разделись и отдались друг другу.
- Где ты блуждал, Скалигер? - спрашивала Фора, прижимаясь.
- Ты хочешь спросить, - где я был, когда тебя не было?
- Вот именно.
- Я рождался и умирал. Рождался и умирал. И так каждый день.
- Ну а сейчас ты родился или умер?
- Я постарел.
Фора не поняла меня. Она долго рассказывала о себе, а я запомнил только
одно: она говорит не то, что думает. Мне было все равно. Мне хотелось
одного: спокойного отношения к себе. И Фора мне именно это и дала. Она почти
каждый вечер после работы приходила ко мне в комнату, готовила ужин, потом
раздевалась и ложилась в постель. Мы почти ни о чем не говорили, и я
блаженствовал.
- Я думал, что такие любовницы, как ты, перевелись.
- Что ж тебя удивляет во мне? - спрашивала Фора.
- Твоя неприхотливость и внешнее равнодушие.
- Я этого добиваюсь с трудом. Ты мне стал очень дорогим. Я не хочу,
чтобы ты бросил меня.
Я и не думал ее бросать. Мне было с ней хорошо. За день до смерти отца
Фора сказала мне:
- Твой отец скоро должен умереть.
- Скоро? Когда?
- Завтра в шесть утра. Ты не должен идти к нему.
- Почему?
- Я не знаю. Я чувствую, что не должен.
Я Форе не поверил. Но все же пришел к отцу в восемь. На мой звонок в
дверь никто не открыл. Чувствуя что-то неладное, я пошел к соседям по
лестничной площадке, перелез через их балкон на балкон отца, открыл фрамугу
и увидел его лежащим на боку с приоткрытым ртом, посиневшими губами. Тело
его было похоже на тело маленького старого мальчика. Слезы подкатили к моим
глазам. Я сел рядом с ним на постель и зажал лицо руками.
- Отец! Дорогой мой отец!
Никто не ответил мне на мой сдавленный крик.
- Такой красивый! Прямо краше, чем живой был, - ласково приговаривала
пожилая крутобедрая соседка по лестничной площадке Ангелина Ротова, со
слезами на глазах прощаясь с моим отцом.
- Милый, такой милый! - повторила она, приглаживая пухлой ладонью
упруго-проволочную прядь его враз обесцветившихся волос.
Когда отца стали накрывать крышкой гроба, я заметил как он неожиданно и
быстро ухмыльнулся и хотел было что-то сказать, но наглухо надвинутая крышка
и стуки молотка, вбивающего в нее гвозди, лишили его последнего слова. Я не
находил себе места в опустевшей двухкомнатной квартире родителей. Перебирал
фотографии, разные записи, пожелтевшие рецепты и со всей очевидностью понял,
что я стал сиротой на земле. И осознание этого чувства даже придало мне
какую-то неизъяснимую легкость и неведомое до сей поры мужество перед
жизнью.
Мои родители ушли навсегда из этого мира и я не смогу им уже причинить
никакого вреда ни своими неудачами, ни болезнью, ни смертью.
Человек боится смерти не потому, что его уже не будет в земном мире, а
потому, что, когда его не будет, будут еще жить без него близкие его и
тосковать по нему. Когда круг близких людей оставляет мир, и нет более
никого, кому бы ты смог поведать свои боли и радости, твое существование на
земле становится для тебя утомительным и недорогим.
Комок плоти твоего рода переходит в иной мир и ты не можешь его
уравновешивать в мире земном, тем более, когда остаешься почти одинок. Ты
должен последовать за целой большей его частью, которая втягивает тебя в
воронку небытия. Какие сны в том смертном сне приснятся? Чему ухмыльнулся
умерший отец? Сомнительному комплименту Ангелины Ротовой, или, может быть,
тому, что увидел внезапно перед собой, когда гробовая крышка оборвала нить
света, которая все еще связывала нас живых и его, - мертвого? Эйфория
обрушившегося сиротства вскружила мне голову: я плакал и смеялся, я кричал и
пел один, в пустой двухкомнатной квартире родителей, покинувших меня
навсегда за одиннадцать месяцев.
Я вышел на балкон. Дул порывистый октябрьский ветер. Вдалеке подковой
горела реклама и бенгальскими огнями искрилась бетонная громада
района-новостройки. С седьмого этажа я видел, как внизу колебались от резких
низовых струй воздуха красно-желтые кустарники, отражаясь мальчишечьими
кострами в фиолетовых зеркалах луж. Плотный красочный мир выталкивал меня из
себя. Я перелез через ограду балкона и прыгнул вниз.
- Тебя там не ждут, - сказала мне Фора.
- Где там? - спросил я.
- Там, куда ты хотел попасть, не дождавшись своего срока.
- А где же я сейчас?
- На крыше сарая.
Я осмотрелся: передо мной стояла Фора в оранжевом спортивном
костюмчике, а я, в самом деле, лежал на толевой крыше сарая. Шаболовка
гремела трамваями, майский свежий воздух был наполнен запахом расцветающей
сирени и пением и щебетом птиц. Фора подала мне руку: "Подымайся". Я
протянул ей свою кисть в лайковой черной перчатке и, как только она взялась
за нее, меня тут же пронзила нестерпимая боль.
- Мамочка! - заорал я.
- Юлий, я здесь. А ну слезайте с крыши. Идите есть.
Внизу во дворе стояла мама в голубой футболке и белой юбочке, загорелая
и красивая. Она протянула ко мне руки и я, чуть спустившись с крыши по
шаткой лестнице, прыгнул в ее объятия. Фора последовала за мной.
- Где тебя носит, Юлий?
- Мама, мы с Форой ловили жучков и бабочек.
- Какие вы еще глупые!
- Мы не глупые, мы - маленькие, - возразила Фора и принялась с
аппетитом есть фасолевый суп.
- Да-да, конечно, - поспешно согласилась моя мама и вышла на кухню.
- Почему ты возражаешь моей маме? Она же не знает, кто ты в самом деле.
- Прости, Скалигер. Я тоже должна сейчас уйти.
- А как же я?
- Ах ты мой хорошенький, - дверь в комнату приоткрылась и в нее
проскользнула и села рядом со мной на скрипнувший стул дочь Анфисы
Стригаловой - тощая чернявая девица Капитолина.
- А где же Фора ? - воскликнул я.
- Ты чего, белены объелся? Здесь никого не было.
Я прикусил язык. Капитолина доела мой фасолевый суп и посадила к себе
на коленки. Они были у нее острыми, как колышки.
- Мне неудобно. Мне больно, - хныкал я, ерзая в ее руках.
- Ах, бедненький. Ах, попочка толстенькая бо-бо. А ну-ка, давай я подую
на бо-бо.
Она стянула с меня штанишки и стала горячо дуть. А потом принялась
целовать, цепкими ладошками стискивая ягодицы.
- А теперь мне. А теперь меня, - шепотом пробормотала она и всунула мне
в руку большой желтый дверной ключ. - Мне вот здесь бо-бо, - сказала она
быстро, указывая пальчиком на ярко-сопливое черненькое местечко между
смуглых ног, сняв сначала серые несвежие трусики.
- Сними варежку, дурак! - закричала Капитолина, когда я сунул ключ в
пылающее жаром отверстие.
- Не могу.
- О! Сильнее, сильнее! - стонала Капитолина, вся извиваясь своим
полувзрослым телом.
Из отверстия текла пахучая липкая жидкость, и я все быстрей вращал свой
золотой ключик, открывая неведомые мне доселе дверцы девичьей страсти.
Приглядевшись, я увидел, как под сводами багрово-алой пещеры сидят молодые и
старые мужчины, переговариваются между собой и с удивлением смотрят на
витиеватую бородку вращающегося ключа.
- Выходите! Вы свободны!
- Как тебя зовут, наш освободитель?
- Юлий Скалигер.
- Приветствуем тебя! - хором произнесли они и потянулись к выходу из
пещеры. Прыгая из нее, в полете они принимали нормальные размеры и быстро
покидали комнату, где мы с Капитолиной, в конце концов, остались опять одни.
- Что ты сделал? - рыдала Капитолина. - Ты оставил меня без мужчин, без
ласки, без любви.
Он лежала передо мной и из отверстия веяло мертвым холодом. Я снял с
левой руки лайковую перчатку и сунул в него багровую ладонь.
- Я люблю тебя, жизнь, - прохрипела Капитолина и испустила дыхание.
- Скалигер, ты плохо кончишь, - сказала мне невесть откуда появившаяся
Фора. - Сначала Семен Кругликов, теперь Капитолина. Кто следующий?
Я ничего не ответил и закрыл глаза.
В чем мое счастье? Почему я вечно недоволен собой и жизнью? Почему
только в жизни других мне заметны радости и наслаждения? Тщетно я ищу ответа
на эти вопросы. Да и нужны ли мне они? Жизнь каждого существа, как нить в
огромном спутанном клубке человеческих существований, которую нельзя ни
вытянуть, ни потянуть с тем, чтобы не нарушить покой и свободу тебе
подобных. Проползаешь ты среди бездн трагедий, расщелин драм, комедиантствуя
и приспосабливаясь, прежде всего не к себе, а к другим, чтобы они случайно,
в гневе ли, в нетерпении ли, не оборвали
нить твоей жизни... Ты должен любить себе подобных, ублажать их и
предвосхищать все их желания и мысли, чтобы, не дай бог, они в отрешенности
своей не прекратили своего бытия. Кто знает: где кончается и где начинается
твоя или чужая жизнь и судьба. Уничтожая себя, ты, возможно, уничтожаешь
радующегося солнцу аборигена далекой Австралии, а он, погибая в пасти
крокодила, одновременно рвет твою нить жизни. Все и всюду уравновешивается:
смерть рождением, рождение смертью.
" Юлий, что с тобой? Почему ты здесь?
Я открыл глаза и обнаружил себя лежащим на балконе. На меня внимательно
и строго смотрел брат.
" Я себя плохо почувствовал. Вышел проветрится. Да, видно, сознание
потерял.
" Мужайся, брат.
" Ты моложе, а меня поддерживаешь.
" Я просто тебя люблю.
" Не надо, не надо меня любить. Как мне надоела ваша любовь!
" Ладно, ладно. А помнишь белую розу? Ты мне ею сопли вытирал.
" Я все помню, но я бы хотел все забыть.
Мы сидели с братом за столом в пустой родительской квартире. Я
чувствовал себя опустошенным. Четырехлетний мальчик, обретший слово,
лазающий по крышам и наслаждающийся майским солнцем и ласковой любовью
матери, молодой и красивой, остался вне меня. Он не вернулся со мной в эту
реальность, в гнетущий сырой день, где присутствует только жизнь, тоскливая,
мелкая, вызывающая отвращение, как склизкий дождевой червь, раздавленный
неосторожно чьей-то ногой на асфальте. Я будто разрешился от бремени
светлого фантастического счастья детства, которое постоянно присутствовало
во мне, томило и вызывало в мозгу ноющую ностальгическую боль по картинам
минувшего, но не канувшего в нечто, бытия.
" Брат мой!
" Что? Что, Юлий?
" Я хотел покончить с собой, но мне не позволила Фора.
" Фора? Каким образом? Я только от нее, она у тебя дома. Почему ты не
возвращаешься к себе?
" Я не о той Форе.
Брат не слышал меня и не понимал. Он смотрел на меня глазами
матери, которая умерла в серафических слоях околоземного пространства.
Она смотрела из глазниц брата на меня с жалостью и мертвой любовью.
" Мама! " воскликнул я и протянул к ней руки.
" Юлий, ты еще не в себе. Отдохни и возвращайся домой, " сказал мне
несколько оторопевший брат, " тебя Фора ждет.
" Та Фора, о которой ты говоришь, предрекла смерть отцу.
" Скалигер, этого не может быть. Ты сходишь с ума.
Что я? Где я? Лес деревьев, лес людей, лес слов, среди которых я
блуждаю почти год и не нахожу выхода к себе, существуя одновременно в
прошлом и настоящем, и в то же самое время где-то сбоку пространства и
времени, в какой-то щели, где плодятся и развиваются эмбрионы моих
чувствований и ощущений, а потом эти гиперборейские монстры выходят через
меня моими слезами и криками, поцелуями и горячечной страстью, шершавой
шелушащейся кожей и слюдой ломающихся ногтей. И я не могу воспрепятствовать
их неумолимому натиску, избавиться от всесокрушающего утробного рыка тяжелой
плоти, вызревшей из абстрактной сущности и втиснувшейся в меня с тем, чтобы
никогда я не смог оказаться рядом со своими родителями.
" Белеет парус одинокий в тумане моря голубом! " Юлий, не напрягайся.
Расслабься.
Пальцы моей левой руки скрючились. Боль была невыносимой. Я снял
перчатку. Вся кисть была покрыта мокнущими синюшными язвами экземы. Брат
посмотрел на руку, и глаза его наполнились слезами.
" Как ты болен, Юлий!
" Ты не смеешь так говорить. Ты, который не отдал последний долг отцу.
Я быстро схватил со стола кухонный нож и вонзил его брату в горло. Я
оттащил его в маленькую комнату и положил на тахту, не вытаскивая ножа.
В квартиру позвонили и я, открыв дверь, увидел перед собой всю в черном
крутобедрую соседку Ангелину Ротову.
" У вас шум был, Юльчик?
Она прошла в комнату и по-хозяйски расположилась за столом. Налила
фужер вина, посмотрела его на свет, словно проверяла " есть ли водяные знаки
или нет, " и выпила единым махом.
" Горе, Юльчик. Большое горе, " сокрушаясь, заговорила она. " Жалко.
Такой человек хороший и ласковый. Вы, наверно, очень страдаете, Юльчик?
Она посмотрела на меня, и я увидел ее толстые мокрые губы, широко
расставленные карие глаза и живое алчное лицо сорокалетней женщины.
" Да, я очень страдаю. Но не один только я.
" Да-да, конечно, и брат ваш тоже страдает.
" Он лежит в маленькой комнате и не может прийти в себя от горя. Ему
так горько, что он не успел к похоронам.
" Он спит?
" Нет.
" Если бы я была на вашем месте, я бы не очень на него обиделась
" Да, я знаю, что вы хотели быть вначале на месте моей матери.
" Это сплетни, Юльчик!
" Не лгите Ангелина. Я вас понимаю: сначала пристраиваете тело, а потом
душу? Не так ли?
" Я не могу с вами больше говорить, Юльчик. Я ухожу.
Ротова привстала со стула и привычным движением огладила свои
великолепные бедра руками.
Я бросился на нее с жаром онанирующего юнца, лихорадочно задирая вверх
ее шелковую черную юбку. Ослепительной вспышкой сверкнула полоска
белоснежной кожи, перехваченная черным кольцом чулка и цветной резинкой.
" Вы зверь, Юльчик, " томно простонала Ротова и увлекла меня на пол.
Мне никто теперь не скажет: "Скалигер, ты стал дряблым мерзким
старикашкой", " думал я, насилуя соседку.
Убийство брата дало мне новые силы, вернуло былую мощь, которую я
потерял, как только оказался рядом с умершим отцом. Должно быть развившийся
сперматозоид отца, обретший облик моего брата, вошел в меня так же, как нож
в горло убитого, и сделал меня вновь молодым и полным сил.
" Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?
Я услышал под собой тяжкие хрипы. Конвульсивный оргазм для Ангелины
закончился смертью.
" мечтала всегда так умереть, " сказала мне Ротова, когда встала с пола
и направилась в комнату, где лежал мертвый брат.
На мертвом теле брата сидел брат, целый и невредимый, и с улыбкой
смотрел на меня.
" Кто бы мог подумать, Юлий, что ты так безнравственен.
" Учи теперь других. Вот Ангелину хотя бы.
" А меня учить нечему, " вмешалась Ангелина. " Я ученая. Мужчин надо
уважать и ублажать, а особенно таких, как Юльчик. " Она послала мне
воздушный поцелуй. " А ты бы помалкивал, " обратилась она к брату. " Мне
отсюда все видно теперь. Ишь, как ты с Форой обошелся.
" Что? " закричал я. " Что ты видишь, Ангелина?
" Вижу, как он ее на постель сначала завалил, а потом тоже изнасиловал.
" И ты, брат?
" Да, так вышло. Случайно. Я приехал к тебе, а она сказала, что ты из
квартиры родителей не выходишь. Потом выпить принесла. Давай, говорит,
помянем папашу. Все вышло случайно.
" Ты подлец! " закричал я призраку.
" Это он подлец, " и призрак указал прозрачным пальцем на брата,
лежащего под одеялом с ножом в горле. " Что ты так волнуешься? Ты же
отомстил. Хотя, если из-за каждой проститутки убивать братьев, то их скоро
не будет в природе.
" Я любил ее, как сорок тысяч братьев!
" Никуда не денется твоя Офелия, тьфу, Фора.
" А она уже идет, " прибавила Ангелина и неожиданно перелетела к
призраку на колени.
" Глупая ты все же женщина, Ангелина! " воскликнул призрак брата, когда
умершая Ротова попыталась теперь обнять его. " Призраки не могут любить друг
друга.
" Юльчик, помоги нам.
" Что я еще должен сделать?
" Затащи мое тело на тело брата, " сказала Ангелина. " Мы будем мертвые
любить друг друга.
" Ты надеешься через смерть войти в жизнь?
" Какие глупости ты говоришь, Юльчик, " рассмеялась призрачная Ротова.
" Я надеюсь в этом состоянии испытать страсть.
Я сделал все так, как хотела призрачная Ангелина. Ее мертвое тело я
затащил на тело брата. Два безжизненных тела, как две куклы, лежали друг на
дружке, а рядом два призрака весело кружились, взявшись за руки. Аппетитные
ляжки в черных чулках и тугой обширный зад мертвой Ангелины вызвал во мне
сильнейшую похоть и я, вспрыгнув на нее, овладел Ротовой. Призраки
расхохотались.
Я видел перед собой только темный круглый затылок Ангелины и синюшное
лицо брата, из шеи которого все еще текла кровь. Я почувствовал, что всего
лишь десять минут назад, насилуя живую Ангелину, я был значительно сильнее и
энергичней, что в тело мое, после ее смерти подо мной, перелилась утомленная
жизненная субстанция сорокалетней женщины.
" О, гадина, прохрипел я и, выхватив нож из горла брата, вонзил его в
жирный загривок мертвой Ротовой.
" Безумец, безумец! " истошно завопил женский голос.
Соскочив с Ангелины, я увидел в проеме двери Фору в распахнутом мокром
плаще, с диким страхом смотрящую на меня.
" Не пугайся, Фора. Это просто мертвые куклы. А сами они веселятся и
водят хоровод. Посмотри, " я протянул руку по направлению к призракам,
которые уже не кружились, а наблюдали за нами.
" Я не вижу ничего. Ты бредишь. Ты сошел с ума.
" Не говори так, или я тебя убью.
" Ты садист и сумасшедший, Скалигер!
" Что ты слушаешь эту подстилку, " сказал мне призрак брата. " Она
недостойна быть твоей любовницей, тем более любимой. Уничтожь ее!
" Да, она любит не тебя, Юльчик, а весь ваш род, " съязвила призрачная
Ангелина.
Фора смотрела на мое бледное лицо и ничего не понимала: на нем резко и
быстро сменялись выражения любви и ненависти, лучезарного счастья и черной
меланхолии. Она не слышала голоса призраков и пошла ко мне навстречу. Я
протянул к ней свою левую, покрытую язвами кисть. Она заплакала и прижала ее
к своим губам.
" Уйдем от них, " сказала мне маленькая четырехлетняя Фора в оранжевом
спортивном костюмчике.
" Ты стала прежней?
" Да. Ты тоже будешь прежним.
" Нет. Мой мальчик покинул меня.
" Ты ошибаешься. Я здесь.
Я пригляделся и увидел в темноте большой комнаты себя, сидящего за
столом рядом с мамой и отцом. Я бросился к родителям.
" Не трожь их. Это даже не призраки, а тени призраков. Сами они за
серафическими слоями околоземного пространства. Туда редко кто попадает, -
сказал мне четырехлетний Юлий. " Посиди с нами.
" Фора и Юлий, - обратился я к малышам. " Я запутался в жизни. Я
запутался в смерти. Я не понимаю, кто жив, а кто мертв. Что со мной
происходит? Я убил брата, но он оказался братом не здесь, а там. Я
изнасиловал Ангелину, а ее призрак насилует мертвое тело брата. Я вижу свое
детство, которого у меня никогда не было. Я вижу вас, но это я сам и
девочка, невесть откуда взявшаяся.
Фора приложила свой пальчик к пунцовым маленьким губкам.
" Мы ничем не можем помочь тебе. После ухода своих родителей ты
оказался между жизнью и смертью. А это пространство нам не подвластно.
Смертная скука всю жизнь провести в Ажене и, ничего не добившись ни от
бога, ни от людей, встретить здесь свой смертный час. Я, рожденный в
солнечной Италии в семье скромного горожанина Бордони, пылким воображением и
представить не мог, что умру на французской земле дряхлым лекарем, чуть ли
не до последнего дня своей безрадостной жизни ставя грелки и клизмы
благочестивым согражданам.
"Боже! " обращался я к ночным небесам, " за какие прегрешения ты
ниспослал на меня невзрачные наряды жизни и заставил усердствовать на столь
не лестном для души моей поприще, угнетающем ее и безденежьем, и людским
зловонием. Для того ли ты вдунул бессмертную душу в смертное тело мое, чтобы
оно бродило по пыльным улочкам городка, прихрамывая и позвякивая серебряными
денье, которые набросали любезные сограждане в карманы камзола, и,
зарабатывая лишь на хлеб насущный, забывая порой следовать тому, что было
определено его облику, служить слову''.
" Не печалься, Бордони! " утешал меня священник, бедный мессир Жан
Мелен. " У тебя еще все впереди.
Как мне было не поверить служителю Бога, который, покряхтывая, между
тем освобождал от сутаны свой желеобразный розовый зад, для того, чтобы я в
его геморроидальный анус вставил гуттаперчевый клюв клизмы, смазанный
подсолнечным маслом.
" Ты, Бордони, " превосходный лекарь. И даст Бог все образуется в твоей
душе и найдет она свое пристанище. А пока ищи пристанище телу своему. Ищи
половину свою в мире божьем, " так наставлял меня бедный мессир Жан Мелен,
не платя ни лиарда за мои труды. - Тебе двадцать пять лет. Пора пустить семя
и укорениться в этой жизни. Ступай с Богом!
Куда идти? Известно, что от тоски да от скуки одна дорога " в кабак.
Подсядешь на скамью к молотильщику зерна Жакино и сапожнику Пьеру, закажешь
себе за десять су кружку пенящегося кларета и витаешь в мечтах о славе, о
любимой.
" Боже, как хорошо!
" Ты что вздыхаешь, Бордони? " спросит сапожник Пьер и ласково ударит в
плечо кулачищем, который размером своим ничуть не уступает кружке.
" Да, ты сегодня, Бордони, не в порядке. Хворь в тебе сидит, "
подхватывает молотильщик зерна Жакино и бьет меня в другое плечо.
" Да вы что? " слабо сопротивляюсь я, а самому приятно, что эти грубые
парни интересуются моим настроением. " Мессир Жан Мелен советует мне
жениться.
" Священник глупость не присоветует, " оживленно откликается Пьер. "
Только ты ведь еще молод. Куда же спешить?
" Ему надо спешить, " высказывается Жакино. " У него характер нежный.
Есть у меня на примете одна товарка, Николь. В самый раз тебе, Бордони, "
вдовушка, молодая и кое-что из имущества имеется: дом, хозяйство, лавка.
Согласен жениться?
Пенящийся кларет забрался уже в мой мозг и игриво щекочет извилины
голубиными перышками. Я счастливо улыбнулся и согласно кивнул головой. Пьер
и Жакино дружно обняли меня и до позднего вечера пили кларет за мою будущую
семейную жизнь, и выпили его целых три пинты.
Утром мы проснулись в стоге сена на окраине города. Ласково светило
летнее солнце, в голубом небе чирикали серенькие пичужки, свежестью пахла
сочная зеленая трава. Рядом с нами бродили, бодро кудахтая и стуча клювами в
траву, две ядреные курочки. Давно следящий за ними Пьер изловчился, накрыл
их плащом и быстро свернул им головы. Через некоторое время я, Жакино и Пьер
сидели у потухающего костра и ели жирную зажаренную курятину, запивая
холодной ключевой водой из бутыли.
Славно подкрепившись, мы пустились в неближний путь в городок
Монтобран, куда сердце мое стремилось, подобно птице, возвращающейся из
теплых краев к родимым пределам. Душа моя ликовала, и я с братской любовью
смотрел на высокого и стройного Жакино и коренастого Пьера, которые подарили
мне свою дружбу и участие, решив позаботится о моей судьбе. Похохатывая,
перекидываясь солеными словечками между собой, они весело похлопывали меня
по плечам, расписывая прелести семейного существования. Я слушал их
внимательно и не обижался, когда они подтрунивали надо мной. Ближе к вечеру,
когда распухшим кровавым помидором закатное солнце маячило над зыбкой линией
померкшего горизонта, мы вошли в Монтобран.
" Прежде чем идти к Николь, мы должны привести себя в порядок. Ну и,
конечно, надо ей что-нибудь подарить! " предложил Жакино. " Она хоть и
вдовушка, но капризна и своенравна.
" Где мы все это сделаем? " поинтересовался Пьер. " Да у нас и денег
нет!
" Не отчаивайтесь! " бодро воскликнул Жакино. " Лекари и сапожники
нужны везде и всегда. Пойдемте-ка!
Миновав несколько полутемных улочек, я и Пьер под предводительством
неунывающего Жакино оказались у огромных дубовых ворот с чугунным кольцом.
За забором брехала, по меньшей мере, стая беснующихся собак.
" К кому мы пришли, Жакино? " спросил Пьер.
" О, это один из самых замечательных людей города " цирюльник Жан
Понтале, " ответил Жакино и принялся колотить в ворота чугунным кольцом.
На стук к запертым воротам под разливанный лай взбесившейся своры собак
кто-то подбежал и спросил:
" Кто там?
" Я, Жакино! Молотильщик зерна! Мне нужен Жан Понтале, " громко ответил
наш друг.
Через некоторое время, в которое слуга ходил к хозяину узнавать,
пускать или не пускать незваных гостей, загремели снимаемые с ворот запоры,
и мы проникли через образовавшуюся щель во двор цирюльника, " козлоногого
старикашки лет восьмидесяти пяти, стоявшего перед домом и ласково
улыбавшегося нам.
" Здравствуй, Понтале! " приветствовал его Жакино.
" Здравствуй, здравствуй, сукин сын, " дребезжащим голоском
ответствовал Понтале. " Ты, я вижу, не один. Опять пришел буйствовать и
пьянствовать?
" Нет, нет! " замахал ручищами Жакино. " Мы с сапожником Пьером ведем
жениться нашего друга лекаря Бордони на здешней товарке Николь. Ты ведь ее
знаешь?
" Как же! " одобрительно отозвался Жан Понтале.
" Вот и счастливчик, " вытолкнул меня навстречу цирюльнику
бесцеремонный Жакино.
Старик зыркнул на меня своими желтыми глазами и сдавленно простонал:
"Юлий, вы не узнаете меня?". Я опешил и не нашелся, что ему на это ответить.
С месяц тому назад я в глубочайшей тайне от всех начал писать, следуя своему
призванию, трактат о слове. Не желая, чтобы кто-либо догадался о моем
увлечении, я обозначил на титульной странице своего сочинения имя автора:
"Юлий Скалигер". "Каким образом старик смог узнать о моем труде и имени,
взятом у правителей Вероны?" " смущенно думал я.
" Я " Бордони, лекарь из Ажена!
" Ничуть не сомневаюсь, милейший Бордони, " живо откликнулся хозяин
дома и широким жестом пригласил всех нас пройти в комнаты. " Жакино и Пьер,
подкрепитесь с дороги бодрящим ипокрасом, а жених Бордони должен быть трезв,
" продолжал Жан Понтале, и по его приказу юркий слуга принес два деревянных
фужера, доверху наполненных чудесным напитком, и мои друзья осушили их.
" Бордони, мне необходимо переговорить с вами наедине, " обратился ко
мне цирюльник. Я взглянул на своих друзей. Они уже клевали носами, сидя на
лавке, и не обращали на нас внимания. Я махнул рукой и пошел вслед за
стариком, который привел меня в небольшую комнату, где помимо круглого
пыльного стола находился еще двухстворчатый желтый шкаф и три желтых кресла.
" Я уже здесь когда-то был! " воскликнул я с удивлением.
" Да, Скалигер! Ты не ошибаешься.
" Но когда?
" Ты только будешь здесь через пятьсот лет.
" А кто же вы тогда, Понтале?
" Я в будущем был твоим школьным учителем Омар Ограмовичем, который
встретил тебя после долгих лет разлуки и скончался рядом с тобой на осенней
улице. А ты оставил меня и убежал, но я настиг тебя в образе своей внучки,
имеющей привычку иногда превращаться в сиамскую кошку.
" Цирюльник, ты бредишь! " воскликнул я.
" Нет, Скалигер. Когда тебе через несколько веков исполнится двенадцать
лет, я буду любить тебя и укорять в том, что у тебя нет принципов. И ты
согласишься получить их, и получишь вот в такой же комнате у меня на Арбате,
" с усмешкой закончил Жан Понтале и потянулся к моей щеке мягкой лягушачьей
ладонью.
" О, мерзкий старикан! " только и смог выговорить я с отвращением.
Козлоногая фигурка цирюльника, посверкивая желтыми глазами, устремилась ко
мне и сжала мое тело в костлявых объятиях. Во мне все напряглось, и я
почувствовал, как из меня выбежал двенадцатилетний подросток и заметался по
комнате в поисках выхода. Жан Понтале тотчас оттолкнул меня в желтое кресло
и в мгновение ока настиг мальчишку, и принялся срывать с него одежду. Он
насиловал мое отрочество с наслаждением, покрываясь сладостной испариной,
страстно лопоча непристойности, крепко придерживая молочный зад костистыми
лягушачьими ладонями. Вначале испугавшийся было подросток теперь ловко
подхватывал каждое движение цирюльника, вертко и упруго принимая всем телом
его размашистые горячие толчки. Я, словно бездыханная кукла, сидел в желтом
кресле и отрешенно наблюдал за актом содомии.
" За этот грех, Понтале, ты окажешься в аду!
" Ты прав, Скалигер, " отвечал мне старик, не прекращая насиловать
подростка, " через пятьсот лет и ты, и я, и многие другие будем жить в аду.
А пока через твой юный зад я соприкасаюсь с тем будущим, где сдохну в толпе
на улице, брошенный тобой.
Многое из того, что мне говорил цирюльник, я не понимал. Слова его о
будущем, где мы с ним должны встретиться, где он окажется моим учителем,
который меня изнасилует, являлись для меня лишь свидетельством того, что
цирюльник Жан Понтале либо безумный старик, либо дьявол, явившийся в
человеческом образе. Но то, что он совершал сейчас с двенадцатилетним юнцом,
вышедшим ему навстречу из меня, предстало во всей своей циничной полноте. Я
страдал, видя, как мой малолетний двойник явно вошел во вкус этого действа и
то и дело поворачивал свое бледное лицо, улыбающееся и просящее, к
неутихающему развратному старику.
" Я вижу, что ты страдаешь, Скалигер, " обратился ко мне цирюльник, как
только насытился мальчишкой. " Не делай этого. Твое настоящее прекрасно: ты
сочиняешь свой трактат, который переживет твою нынешнюю плоть и перенесет
твой дух в иные сферы, и даст тебе возможность не зависеть ни от времени, ни
от пространства. А пока прими этого отрока обратно, " и Жан Понтале
подтолкнул ко мне стройного обнаженного подростка.
Он вошел в меня, как входят в реку, бесшумно и быстро, и исчез. Я
ощутил себя неким бездонным колодцем, в котором зияющая глубина вечного
времени и бесконечного пространства жадно вобрали в себя вошедшую плоть
изнасилованного подростка, летящего теперь в феерической круговерти
столетий.
Образовавшийся гулкий коридор бытия, как падающая звезда, пронзил мое
сознание, и я пожелал исчезнуть в самом себе, но тело мое мне не
повиновалось, похожее на большой сафьяновый футляр от медицинского
инструментария, который так всегда некстати торчит из моей походной сумки
лекаря. "Если будущее таково, что меня там подвергнут насилию, " думал я, "
и что я приму это и еще к тому же испытаю удовольствие, если оно таково, что
меня будет преследовать в нем безумный старик-учитель с лягушачьими
ладонями, то стоит ли желать этого будущего? Я отрекаюсь от него и желаю
навсегда остаться в настоящем, в котором рядом со мной молотильщик зерна
Жакино и простодушный сапожник Пьер, в котором бедный мессир Жан Пелен,
страстный и жадный до клизм, желает мне семейного тихого счастья. Где же
вдовушка Николь? Где мои друзья?".
" Скалигер, я знаю, о чем ты думаешь, " тихо сказал Понтале. " Твои
друзья спят. И будут спать еще очень долго " до тех пор, пока я тебе не
расскажу все о себе. Ты еще не являешься тем Скалигером, который должен
явиться в будущем. Ты им пока только назвался в тиши своей комнаты,
обозначив свое имя на титульном листе работы. Ты " лишь эмбрион настоящего
Скалигера, который сможет совершенно спокойно миновать ловушки времени и
пространства, совместить в себе образ младенца и старца, грешника и святого,
в равной мере возвысить молчание и слово. Когда мы там встретились с тобой,
" я умер, но умер, уйдя в прошлое. Я не смог одолеть серафические слои
околоземного пространства и вновь начал свой путь здесь " в Монтобране,
поскольку знал, что где-то рядом обитаешь ты, " исток будущего Скалигера. Я
ждал тебя многие тысячи дней и ночей и дождался. Я вытащил из тебя твое
отрочество и изнасиловал его, потому что только таким образом смогу
соприкоснуться с грядущим, где мне нет места. Я родился здесь в Монтобране и
прошел тяжкий путь познания, брея чужие подбородки, щеки, черепа. Я из
будущего своего вернулся в прошлое и живу в этом ненавистном мне прошлом,
помня все до мельчайших подробностей из будущего. О, если бы ты знал, что за
муки я испытываю!
Никому еще из людей не удавалось пережить все то, что переживаю я:
начать свой жизненный путь в полном сознании во чреве пьяной нищенки,
которая зачала от проходящего мимо распутного бестолкового школяра.
Разрешившись от бремени, нищенка подбросила меня семье цирюльника Клода
Понтале, в которой я рос, постигая незнакомый мне мир. Что-то меня удивляло,
что-то вызывало во мне смех, но я все же смог приспособиться к восьмидесяти
пяти годам жизни в ином веке. У меня было несколько жен, но все они умерли
при родах, потому что я являюсь биоорганизмом иного времени. Я понял, что
обычный путь проникновения в будущее для меня отрезан. Брея подбородки и
черепа монтобранцев, я скопил денег, укрепил дом Понтале, нанял слугу и стал
ждать: из своего будущего я знал, что фамилия Скалигер может относиться
только к тебе, живущему в Ажене лекарю, который в тайне от всех пишет
трактат о слове. Мой Скалигер из будущего и ты, Бордони, нарекшийся
Скалигером нынешним - одно лицо. Только ты, Бордони, не ведаешь о своем
двойнике из грядущего, не знает этого и Скалигер - мой лучший ученик,
хладнокровно бросивший меня на улице мертвым.
Твое появление поможет мне вернуться в свое время, Бордони.
Изнасилованный мною твой двенадцатилетний образ теперь стремительно летит
сквозь время с моей спермой в будущее, где я вновь стану Омар Ограмовичем и
буду учить тебя принципам. Эту ночь ты должен провести, не выходя из желтой
комнаты, точно такой же, какая существует там, где гуляет твой двойник,
Скалигер.
Я слушал цирюльника, посверкивающего желтыми глазами, и думал, что
слушаю сумасшедшего. "Черт меня дернул, " негодовал я, " пойти с этим
Жакино. Что же мне делать?" " я взглянул на старика.
" Тебе ничего не надо делать, " сказал мне Жан Понтале, " пробудешь
здесь до утра. За это время моя сперма преодолеет в твоем образе пять веков.
И ты, и я окажемся в будущем, где прекрасно узнаем друг друга, но здесь ты
умрешь. И не жалей об этом: таких олухов, как Жакино, Пьер имеется и там в
достаточном количестве.
" Но я же шел знакомиться с вдовушкой Николь. Я хотел жениться и
укорениться в этой жизни, как мне посоветовал мессир Жан Пелен. А
получается, что я умру, не увидев Николь и не оставив о себе памяти никому
из знавших меня? Нет, мерзкий старик, так не пойдет.
Я решительно двинулся к двери, но в два прыжка настигший меня цирюльник
сильными когтистыми пальцами ухватил меня за одежду и, как щенка, отшвырнул
в желтое кресло.
После короткого молчания, перемежаемого сменой масок выразительной
покрасневшей от натуги физиономии, Жан Понтале произнес:
" Хорошо. Ты проведешь это время вместе с Николь.
Цирюльник вышел и позвал слугу, который, ворча и пререкаясь с хозяином,
отправился за Николь.
"Ты искал и жаждал приключений, Бордони, ты их нашел, " говорил я сам
себе, сидя одиноко в пустой желтой комнате. " Если сумасшедший старик, в
самом деле, является вестником из будущего и мой двенадцатилетний образ, как
он выражается, летит в то будущее, где окажемся он и я, только я буду
малолетним подростком в полной его власти, развращенным и послушным, а не
полным сил двадцатипятилетним Бордони, взявшим имя Скалигера, то значит,
целых тринадцать лет он еще будет преследовать меня и помыкать мной. Нет,
этого допустить нельзя," " взволнованно решил я и стал думать, как можно
переиграть ненавистного цирюльника. Мысли лихорадочно суетились в голове,
как жирные мотыльки вокруг желтого абажура, но ни одна из них не
удовлетворяла меня. Я был в отчаянии, когда дверь в комнату отворилась и
вошла в сопровождении козлоногого старца высокая девушка в голубом платье с
отложным белым воротничком, с накинутой на плечи вишневой кашемировой шалью.
Старик подвел ко мне Николь, с подозрением тщательно осмотрел всю
комнату и сказал:
" Скалигер, в твоем распоряжении три часа. Не вздумай исчезнуть. Это
тебе не поможет.
С этими словами он еще ближе подтолкнул ко мне молчащую и испуганную
Николь и исчез за дверью. Я услышал, как слуга задвигает засов с наружной
стороны двери.
" Кто вы? " обратилась ко мне Николь.
" Я " Бордони, лекарь из Ажена.
" А почему он назвал вас Скалигером?
" Это мой псевдоним. Я ведь помимо клизм и кровопусканий пишу еще
трактат о слове.
Николь несколько оживилась.
" А почему этот мерзкий старикан привел меня к вам?
" Разве он вам ничего не сказал?
" Нет.
" Видите ли, сударыня. Мне недавно исполнилось двадцать пять лет. И мой
священник бедный мессир Жан Пелен посоветовал мне искать свою половину в
этой жизни. Я послушался его и, следуя в Монтобран с друзьями Жакино и
Пьером, захотел прежде всего навестить вас, поскольку молотильщик зерна
Жакино сказал мне, что знает вас и что вы прекрасная молодая женщина. И он
не солгал.
Николь засмеялась, скинула с плеч кашемировую шаль, и я увидел
восхитительный вырез платья, обнажавший лилейную нежную кожу изящной шейки.
" Но, желая вас чем-нибудь порадовать, Жакино предложил зайти сначала к
цирюльнику, чтобы одолжить у него денег и купить вам какой-нибудь подарок.
Старик нас встретил приветливо. И накормил, и напоил, да так, что мои друзья
никак не проснутся. А меня он совершенно поверг в изумление. Наговорил мне
такого, от чего у меня волосы дыбом встали.
И я, более не собираясь сдерживаться, со всеми подробностями рассказал
милой Николь все, о чем говорил со мной Жан Понтале.
" Я рада тому, что вы так искренни со мной, Скалигер. Позвольте мне
именно так вас называть. Вы оказались в сложном положении, потому что Жан
Понтале не простой цирюльник и не выживший из ума старик. Нет! Все, что он
вам говорил " все это истинная правда. Мне рассказывал о нем мой дедушка,
купец Жеан Гиу, который очень хорошо и долго знал Жана Понтале. Так вот, мой
дедушка приходился дальним родственником Клоду Понтале и часто бывал у него
здесь в этом доме, когда в нем не было еще Жана, которого подбросила
распутная нищенка и скрылась.
Однажды мой дедушка, будучи еще десятилетним мальчиком, остался играть
с годовалым Жаном, пока все взрослые занимались делами по дому. И вдруг, как
мне потом рассказывал Жеан Гиу, подходит к нему маленький Жан твердой
походкой взрослого человека и говорит: "Я уже два года провел среди вас и
смертельно хочу вернуться к себе". " "Куда же? " спрашивает недоуменно
ошарашенный происходящим Жеан. " Куда это к себе? ". ""К себе на Арбат, к
своим ученикам, к своему любимому Скалигеру".
Дальше, как мне рассказывал дедушка, он замолк, потому что в комнату
вошел Клод Понтале. Жан неловко шлепнулся на пол и заплакал. А Клод Понтале
отругал своего родственника. Я все это запомнила потому, что дедушка
рассказал мне это за несколько дней до своей кончины, чрезвычайно
растроенный тем, что после смерти моего мужа Гийома, за мной стал ухаживать
Жан Понтале и сказал моему дедушке, что хотел бы, чтобы его внучка вышла за
него замуж. Жеан Гиу очень любил меня и отказал мерзкому старикану,
догадываясь о его нечистой душе. Но через несколько дней мой дедушка
внезапно скончался и я думаю, что это произошло не без помощи Жана Понтале.
" Так что вы мне посоветуете, Николь? " нетерпеливо спросил я.
- Вы мне нравитесь, Скалигер, и я помогу вам, но не надо торопиться.
Николь подошла ближе ко мне, сидящему в кресле, и села на мои колени.
Она была почти воздушна и пахла полевыми цветами.
Любовь! Она вспыхивает ветвистой короной молнии, царственно освещая
темные пространства души и планеты, она пронзает глаза трагической болью
закатного горизонта, над которым колеблются багровые сполохи страсти и тоски
по неведомому, она холодит запекающиеся окровавленные губы родниковым
прикосновением первого поцелуя и касается острым своим язычком заплаканных
ресниц, она тяжко дышит тебе в лицо и, как исторгающийся вулкан, взрывается
в тебе жидкими ожогами судорожных движений.
" Я люблю тебя, Николь!
" Счастье мое!
" Зачем мы только зашли к этому цирюльнику?
" Не огорчайся, Скалигер. Я же обещала помочь тебе.
" Ты должна, Николь, помочь и мне, и себе. Я люблю тебя. Ты " моя
половина и я не хочу расставаться с тобой в угоду мерзкому старикану из
будущего.
" От будущего, Скалигер, ни ты, ни я никак не уйдем. Рано или поздно
оно призовет нас к себе.
" Но что ты хочешь предпринять, Николь?
" Я хочу прежде всего сказать тебе правду: я фантом. Я плод дьявольских
замыслов и воплощений Жана Понтале. После смерти Жеана Гиу я оказалась в
полной власти старика и он, опоив меня каким-то зельем, исторг из меня мою
человеческую сущность. Я тяжело болела и, выздоровев, стала совершенно
послушна ему, но изредка, как сейчас вот с тобой, во мне просыпается мое
прежнее "Я".
" О, Николь! " страдая, воскликнул я.
" Прости меня, Скалигер. Меня привел слуга к Жану Понтале, а тот
сказал, что я должна с тобой провести несколько часов до того, как вы вместе
исчезните. Когда я увидела тебя, я поняла, что ты любишь меня и решила
помочь тебе избежать смерти здесь. Ты уже двенадцатилетним мальчиком с
семенем Понтале летишь к будущему, и есть только одна возможность опередить
цирюльника.
С этими словами она села враскорячку на пол, задрав голубое платье,
засунула руку по локоть во влагалище и вытащила кровавый комок склизкой
матки. Лицо ее страшно побледнело.
" Вот, " протянула она мне кусок кровоточащего мяса, " ты должен
проглотить его, так как сейчас ты, благодаря колдовству Понтале, являешься
связующим звеном с будущим. Твоя сперма в этой матке, пока достигнет
будущего, превратится в четырехлетнего мальчика, который опередит тебя
двенадцатилетнего во времени. Твоя сперма появится раньше, чем сперма
Понтале в твоем организме, и он не сможет проникнуть в будущее, поскольку
только единственный раз тот или иной организм может явиться в грядущем. Тем
самым ты спасешь себя здесь, а Понтале погибнет и здесь, и там.
Николь бессильно упала на спину, вытянулась, не сумев прикрыть тонкие
ноги в ажурных лиловых чулках.
" Я умираю, Скалигер. Глотай же!
Я взял из ее дрожащей руки бледно-багровый кусочек и проглотил. Голова
моя закружилась. Я вновь оказался в каком-то бесконечном круговороте
спирально закручивающихся пространств и линий времен, которые напоминали
собой лоснящиеся стремительные хребты китов в океане, омывающем материковую
Австралию.
" У меня к тебе еще одна просьба, Скалигер, " еле выговорила Николь. "
Я умру сейчас, ты умрешь значительно позже дряхлым стариком в Ажене. Но я
хочу, чтобы мы с тобой все же были вместе. Поэтому ты должен впустить в себя
мою человеческую сущность, которую исторгнет цирюльник, как только смертные
судороги охватят его.
" Я обещаю тебе, Николь, сделать это.
Но она уже ничего не слышала. Светлые глаза ее потухли и прямо смотрели
немигающим взором на желтый абажур.
Когда прокричали третьи петухи, засов за дверью зашевелился и в комнату
вошел мрачный Понтале. Он небрежно взглянул на тело Николь.
" Истеричная нимфоманка. Что она тебе наговорила?
" Она хотела быть со мной вместе. Всегда.
" Ей гнить в этом веке.
Еще раз пропели петухи. Лицо Понтале напряглось, изо рта пошла желчь, а
глазные желтые яблоки выскочили наружу.
" Что происходит? " возопил он. " Вы обманули меня?!
Я почувствовал, как тело мое надувается, дрожит, как будто кто-то
спешит вырваться из него наружу. Я скинул камзол и из меня выплеснулся
темнообразным сгустком двенадцатилетний Скалигер, который тотчас же пронзил
Понтале, разорвав его на части. Из желтого тумана возникла маленькая
четырехлетняя девочка в оранжевом одеянии, которая старательно подбирала с
пола клочки, оставшиеся от Понтале.
" Ты кто?
" Я человеческая сущность Николь. Впусти меня в себя. Я хочу быть там,
где будете вы.
Она вошла в меня, как в реку, бесшумно и тихо. И исчезла.
Я упал в обморок, а когда пришел в себя, то увидел, что желтый туман в
комнате рассеялся, что мертвая Николь куда-то исчезла, а на ее месте сидит
большая сиамская кошка и долизывает пятно крови, оставшееся после Николь. Я
встал и, шатаясь, направился в другую комнату, где по моим предположениям
должны были находиться Жакино и Пьер.
С тех пор прошло почти пятьдесят лет. В моей старческой памяти многое
померкло из свершившегося той поздней ночью и я бы
и не вспоминал более, если бы часто захаживавший ко мне все еще бодрый
молотильщик зерна Жакино, покрякивая после нескольких стаканчиков кларета,
не повторял одно и то же из вечера в вечер:
" Как же мы так проспали с Пьером твою свадьбу? А, Николь? " обращался
он к моей старушке, которая, посмеиваясь, говорила :
" Пить надо меньше было. А то накачались, как бочки, с Пьером, что ни
пошевелить, ни покатить. Вот и осталось только слить вас...
" Как это?
" Обмануть! Жан Понтале позвал меня к себе, познакомил с Бордони, да и
поженил нас тихо, без вас, пьяниц и проныр.
" Нет, что-то тут не так, " укоризненно прокашливался Жакино и пил
дальше. " Вот Пьер с чего-то сразу в ящик сыграл. Всего-то через год. А ведь
какой здоровяк был .
Старушка Николь зыркнула желтыми глазами на моего бывшего старого
пьяного друга и проговорила:
" Давай, давай, проваливай-ка отсюда. Надоело слушать твою белиберду.
Я не противоречил Николь. Да и Николь ли это была? Не знаю. Когда я
очнулся и не увидел Николь, а только сиамскую кошку, лизавшую кровь на полу,
я пошел к своим друзьям. Увидел я их совершенно раздетыми, а рядом слугу,
который, надрезав вену на жилистой руке Пьера, сцеживал из нее кровь в
большую дубовую кружку и давал пить эту кровь Жакино, безумному и будто
полуслепому. Пил он эту кровь с жадностью, хватаясь грубыми руками за края
кружки. Слуга довольно расплывался в склизкой жирной улыбке.
Увидев меня, слабого и шатающегося, он не спешил убегать, а, наоборот,
протянул и мне кружку пьеровой крови. Не знаю, что меня потянуло к ней:
жажда ли, страх ли, или то и другое вместе, но я выпил сладкую густую до
черноты кровь Пьера. Я обрел силы, почувствовал себя значительно лучше. Даже
благодарно отвесил поклон колченогому слуге, который тотчас исчез и больше
никогда не появлялся. Я помог встать Жакино и Пьеру. Друзья мои ожили и
наперебой ни с того ни с сего начали поздравлять меня со свадьбой. Я сначала
не понял их хмельного непроспавшегося выкрика, но вдруг увидел с собой рядом
ту Николь, которая совсем недавно умирала передо мной.
" Не удивляйся, Скалигер! " приказала она мне.
" Я уже не способен ничему удивляться.
" Твою любовь унесло грядущее, оставив с тобой смерть и покой в моем
лице: желтоглазая Николь была удивительно похожа на живую,
правда, когда я взглянул на ноги Николь, то увидел, что они были просто
лиловыми, без ажурных чулок.
Что делать? Жизнь мне преподносила разные удивительные загадки " и на
сей раз она не оставила меня. Я со своей новой Николь и друзьями отправился
вновь в свой маленький Ажен. Шли мы долго и подошли к городу поздней ночью.
Городская стража нас в такую ночь не пустила бы и мы решили остановиться в
небольшой пещере, заросшей колючим кустарником.
Пока Пьер и Жакино вместе с моей Николь занимались благоустройством
пещеры, разжигали огонь и готовили нехитрую еду, я сидел у выхода на большом
белом камне и смотрел на высокое голубое небо, где изредка посверкивала одна
звездочка, напоминавшая мне совсем еще недавно такую беззаботную и
мечтательную жизнь лекаря Бордони, взявшего имя Скалигеров, чтобы написать
трактат о слове.
А что, собственно, хотел сказать людям я в этом трактате, который тогда
еще неоконченный, лежал у меня в кожаном чехле и являлся на свет божий
только тогда, когда я в полном одиночестве располагался после трудового дня
у стола на низенькой ребристой скамеечке, раскладывал длинные желтоватые
листы и принимался писать: "Все, что существует, можно разделить на три
рода: необходимое, полезное, приятное. В соответствии с природой этих родов
либо сразу возникла, либо с течением времени развилась речь. Ведь человек,
совершенство которого зависит от познания, не мог обойтись без того орудия,
которое должно было сделать его причастным мудрости. Наша речь " это своего
рода переводчик наших мыслей, для обмена которыми люди собираются вместе, с
помощью речи развиваются искусства, происходит обмен знаниями между людьми.
Ведь мы вынуждены искать у других то, чего не имеем сами, требовать
исполнения несделанного, запрещать, предлагать, строить планы, решать,
отменять. В этом первоначально и состояла природа речи. Но вскоре применение
ее расширилось, она становилась нужнее, ее грубое и необработанное тело
получило как бы новые размеры, формы, очертания, возник некий закон речи.
Наконец, появились красивый убор и одеяние, и материя, украшенная и как бы
одушевленная, приобрела блеск".
Лиловые ноги Николь из Монтобрана заставили меня поверить в реальность
моих блужданий в мире грез. Не все ли равно, кто я: лекарь Бордони из Ажена,
или филолог Скалигер, у которого умерли родители, " человечеству наплевать.
Но вот лиловые ноги Николь, грязный старик Жан Понтале насилующий подростка
или Ангелина Ротова в призрачном своем состоянии совокупляющаяся с
зарезанным мной братом, " все это врежется в мозг каждого. Переплетения сна
с явью стали для меня мучительной необходимостью, сладким наркотиком, без
которого я уже не мыслю своего существования и не представляю существования
других людей.
Я хочу сказать всем: "Люди, вы живете в малом пространстве своих
насущных желаний, но разве вы не ощущаете того, что в ваших глубинах
ворочается хаос, подобный дикому огромному зверю, который, рано или поздно,
проснется и разорвет вас на части. Так не дожидайтесь этого " выпустите его
на волю. Он не так страшен, каким представляется в снах и в бреду".
Левой рукой в черной лайковой перчатке я нащупал в кармане брюк литой
кругляш и вытащил его. Поглядев на него с минуту, я запустил им в черное
звездное небо.
" Фора! " просвистел предмет.
" Я здесь, Скалигер! " ответил мне тихо нежный голос.
Я оглянулся, но никого рядом не увидел.
" Что за чертовщина?
" Ищи лучше, " подсмеивались надо мной.
" Фора, прекрати свои фокусы. Прошу тебя.
" Посмотри внимательнее перед собой.
Не отрывая глаз от того места, откуда доносился нежный голос, я пошел
ему навстречу.
" Ты раздавишь меня!
В темноте за черным скелетом сиреневого куста я увидел Фору в
спортивном костюмчике. Она деловито расстелила на стриженой газонной траве
газету, вытащила из сумки всякую снедь и напитки, и ласково посмотрела на
меня.
" Садись, Скалигер. Ты так долго не звал меня. И все из-за своей
Николь! Как тебя угораздило влюбиться и оставаться там до своей смерти? Ведь
если бы не твой трактат, то ты бы так и остался в пятнадцатом веке.
" Фора, нежная моя Фора. Ты думаешь, что я был в полной мере лекарем
Бордони? Я был им только отчасти. Мы вместе с ним писали наш трактат. Вот
только после меня его некому будет писать. Кончается век " кончается жизнь.
И ты знаешь об этом лучше, чем я.
" Не отчаивайся, милый. И ты понимаешь, что ничего конечного в мире
нет. Нас всех может разъединить лишь высшая воля и мы никогда " ни здесь, ни
там " не сольемся в чувственный или трансцендентный ком телесности. Мы будем
жить порознь, но будем вспоминать друг друга, думать о каждом и в этой
мучительной тоске бороться с бесконечной безнадежностью бытия.
" Ты вещаешь как философ. А я устал, Фора, от бесполезных умствований.
Я вижу лиловые ноги Николь, я вижу ее окровавленную матку, которую она дала
мне съесть, чтобы я не мог погибнуть там, где осталась она. Мой мозг не
выдерживает таких перемещений в пространстве и времени. Помоги мне, Фора!
Фора взглянула на Скалигера и на лице ее появилось страдальческое
выражение. Из бесцветных глаз Юлия текла красная кровь. Фора сняла с толстой
ветки куста граненый стакан и налила в него вина.
" Выпей! " приказала она Скалигеру.
Юлий взял стакан и выпил рыжую жидкость до капли.
" Какая гадость, " фыркнул Скалигер, отирая рот розовым платком. " А ты
разве не будешь? " спросил он Фору.
" Сначала скажи, какой ты хочешь видеть меня? Такой, какая я сейчас:
маленькая, в оранжевом спортивном костюмчике, или твоей любовницей из
галантерейного магазина, или нимфоманкой Николь с лиловыми ногами? Какой?
Скажи?
" Я хочу, чтобы ты явилась в образе Омар Ограмовича. " Только я
произнес эту фразу, как передо мной явился мой учитель и приветливо
поздоровался:
" Здравствуйте, Юлий! Вы не узнаете меня?
" Я узнаю вас. Я хочу спросить: почему вы преследуете меня, даже в моих
галлюцинациях?
" Я отвечу вам, но позже, Юлий, " старик ласково потянулся ко мне.
Он взял меня под локоть, и мы пошли с ним по вечерней улице,
наполненной рекламными огнями и шумной разноцветно одетой толпой.
" Надеюсь, вы не собираетесь внезапно умирать, как в тот раз?
" Не волнуйтесь, Юлий. Сегодня вечер уже другой. Необычный, " загадочно
ответил учитель и потянул меня в сторону дома, на котором светилась вывеска
какой-то кофейни.
" Зайдемте, Скалигер, согреемся.
" Но я не расположен...
" Э-э, да бросьте притворяться, " и старик резко подтолкнул меня к
заведению, дверь которого тотчас приоткрылась и заглотала нас обоих.
Мы оказались в полуподвальном еле освещенном помещении с очень низкими
потолками. Если кто-нибудь из посетителей желал выйти из-за стола или
пересесть за другой, то приходилось это проделывать с поклоном на
полусогнутых ногах. Некоторые, забывшись из-за изрядного количества
выпитого, не соблюдали таких мер предосторожности и, вскакивая, разбивали
себе головы о потолок.
" Почему им никто не помогает?
" Здесь помогают всем и никому ничего не запрещают, " ответил учитель
и, низко склонясь и приказав мне сделать то же самое, повел меня к
свободному столику.
Когда я сел, то облегченно первым делом вытянул ноги и откинулся
затекшей спиной на спинку стула. Через некоторое время к нам подполз на
четвереньках официант и старик заказал ему две пинты кларета.
" Хотите помянуть свое пребывание в пятнадцатом веке?
" Я хочу, мой мальчик, обозначить связь времен. Тебе удалось
перехитрить меня вместе со своей Николь, но ты должен понять, что все мы,
коснувшись лишь однажды друг друга, нерасторжимы. Мы только появляемся или
исчезаем временно, в зависимости от желания видеть или не видеть друг друга.
Вот ты пожелал меня лицезреть: и Фора стала мной " Омар Ограмовичем. Не так
ли?
" Да, но почему я не могу стать другим? Вами, например, или своим
братом, которого убил. А, может, и не убил?
" Вы, Юлий, олицетворение слова. А слово не меняет свой облик в отличие
от других материальностей. Вы распространяетесь во все замкнутые субстанции,
но не становитесь ими по существу. После смерти своих родителей вы стали
другим человеком, вернее, вы стали " нечеловеком.
" Не понимаю! " отчаянно воскликнул я.
" Ну-ну, спокойнее, мой мальчик. Я вам еще все успею объяснить. А пока
выпьем по бокалу кларета, " предложил старик, когда подползший официант
поставил бутыль на стол.
" Не правда ли, хорошо? " любезно поинтересовался учитель.
" Я прошу вас продолжить свою мысль, Омар Ограмович.
" Не думайте, Юлий, что я буду отказываться. Так слушайте.
Старик поправил своей лягушачьей ладонью подкрашенную русую прядь,
распахнул и вновь запахнул полы изношенного ратинового пальто, от которого
невыносимо несло нафталином, и, поведя по сторонам безумными желтыми
глазами, задал мне вопрос:
" Ты думаешь тебя ждали?
" Кто должен был меня ждать?
" Отец и мать, естественно. Они не ждали тебя и не хотели твоего
появления на свет. Твоей матери пришлось пить специальные таблетки, которые,
кстати, я ей и доставал. Но ты все же преодолел все барьеры. И появился на
свет со скрюченными пальцами ног и рукой, изъеденной язвами. Пальцы твои
выправились, а вот рука " сам видишь: прежняя.
" Что ж здесь необычного, старик? Трудная жизнь, неустроенность " это
так понятно. Я не порицаю их.
" Мой мальчик, когда тебя рожала мать и чуть было не умерла, поскольку
ты своей искалеченной рукой уцепился за ее внутренности, " она прокляла
тебя. Правда, потом пожалела, что сделала это. Но факт остается фактом: ты
был проклят при рождении.
" Это ничего не значит. Мать любила меня, и я люблю ее даже сейчас,
после всего того, что ты мне рассказал. Над болью женщина не властна.
" Юлий, вы не хотите понять меня, " уныло произнес старик. " Я не хочу,
чтобы вы разочаровались в своих родителях. Я просто хочу вам объяснить,
почему вы стали нечеловеком после их смерти.
" Да, меня это очень интересует. Но вы никак не подойдете к сути дела.
" Я жил во чреве пьяной нищенки, я восемьдесят пять лет томился, ожидая
тебя там, в пятнадцатом веке, И, когда ты был уже почти у меня в руках, ты
смог исчезнуть и вернуться вновь в свое время. О, Бордони! О, Скалигер! "
изо рта старика полилась желчь. " Твои родители не имеют к тебе никакого
отношения: они лишь два случайных организма, давших тебе приют на время в
бесконечности. Мать, препятствуя твоему рождению, могла нарушить
гармонический ход необратимого галлюцинаторного процесса, в котором ты
являешься крупной вехой, поскольку через твое сознание воспринимает земную
действительность иной мир, частью которого ты и являешься. Если бы только ей
удалось сделать это, то я " твой соперник " являлся бы здесь единственным
представителем и координатором иного мира. Но ты живешь, приобретая все
большую власть. Твоя любовь к родителям, тоска по ним еще держат тебя в
ареале человеческого пребывания. Но скоро твоя эмоциональная энергетика
совершенно иссякнет и ты избежишь в дальнейшем всевозможных отягчающих
связей: ты будешь свободен, а, значит, бесчеловечен. " Старик после столь
длинной тирады устало налил себе в бокал вина и судорожно стал пить его
большими глотками.
Я смотрел на него и сомневался в искренности его слов. Учитель пьянел
прямо на глазах, наливая себе бокал за бокалом, и все еще что-то бессвязно
бормоча в мой адрес. Я огляделся: в полумраке за разными столиками сидели
только одни Омар Ограмовичи и зверски напивались.
" Что стало с вашими посетителями? " спросил я проползающего мимо
официанта. Официант открыл рот и из него стал выползать толстый в пупырышках
розовый язык. Он выползал изо рта, как скинувшая кожу змея выползает из
нагретого солнцем местечка. Меня стошнило.
" Ползи вон отсюда, " бешено заорал я. Официант послушно стал отползать
в сторону, но его язык сопротивлялся, ухватисто цепляясь за толстые ножки
стола. Я снял с левой руки лайковую перчатку и сжал ладонью толстую мякоть
склизкого языка. Раздался истошный вопль отползающего официанта.
Откуда это дуновение? Откуда этот смертный шепот, колющий мускулы
сердца металлической иголкой нежных, знакомых с детства, слов, и
заставляющий трепетать в полной прострации по отношению ко всему тебя
окружающему? Я все помню, но я все забыл.
" Где я?
На мой вопрос никто не ответил. Я оглянулся кругом и никого не увидел:
ни Омар Ограмовича, ни Омар Ограмовичей, ни официанта с удавообразным
языком.
" Где я? " еще раз повторил я свой вопрос.
" Ничего не бойся, сынок. Я с тобой.
" Мамочка, это ты? " закричал я.
" Да, родной мой. Я пришла к тебе, чтобы помочь.
Передо мной расстилалось огромное зеленое поле, на котором до горизонта
росли бело-желтые крупные ромашки. Среди них сидела моя мама в голубой
футболке и белой юбочке, красивая и загорелая. Она протянула ко мне руки и
я, резко поднявшись из-за столика подвального помещения, разбил себе голову
до крови и потерял сознание.
Кому может быть интересно то, что я родился, потом чем-то занимался, а
потом умер и не успел даже сообразить, что это произошло. Так получалось,
что я говорил, делился с кем-нибудь своими мыслями, планами, желаниями, но
только приступал к их осуществлению, оказывалось, что они уже кем-то
воплощены в книги, в конструкции, в индивидуумы. Случившееся отбивало охоту
вообще жить и думать. И я думал только о себе. Бесцветные глаза, бледное
лицо, легкие ключицы " все это, называемое мной, или нравилось или не
нравилось кому-то, но я продолжал думать только о себе: Скалигере. Я пишу
послание тому, кто вытащит меня из этой жизни, покрывшейся пеплом и пылью,
посмотрит в мою душу и скажет: "Я тоже " Скалигер!". Я ухожу из бытия в
небытие, из смерти в жизнь не для того, чтобы иметь то, что не имею и иметь
не буду " бессмертие, и не любви я ищу, блуждая в лабиринте своих
галлюцинаций, которыми меня наградили все цивилизации, когда либо
существовавшие на Земле, я желаю достичь созерцательной отстраненности и
умереть, не умирая, балансируя на невозможности возможного существования.
" Где я?
Это " вопрос вопросов. Это сильнее и страшнее вопроса: "Быть или не
быть?". Метаморфозы канувших в ничто времен и подвластных им организмов,
мелодии тектонических смещений и порхающие бездны, словно бабочки вселенной,
ортодоксальные разряды трупных молний и в мясном мареве трепещущие иглы
звезд, " то есть отошедшее, свершившееся и, возможно, повторяющееся вновь
для меня. А я кричу: "Где я?!". И боюсь ступить далее. И протягиваю руки...
в Пустоту.
" Что ты орешь? " сказал я официанту, который в ужасе подбирал ошметки
своего языка с пола. " Впредь не распускай свой язык! Понял?
Официант согласно затряс головой и сел на пол, не в силах ползти к
буфету.
" Мозно я посизу? " спросил он меня, шепелявя.
" Сиди, конечно. " Мне стало его жалко. Я решил спросить, как его
зовут, и узнал, что зовут его довольно странно: Ликанац.
" Вас это удивляет, а меня нет. Если вы расшифруете эту аббревиатуру,
которую дал мне мой отец, то вам все сразу станет понятным.
Я задумался, но не смог расшифровать его имя.
" Не огорчайтесь. Зачем вы сожгли мне язык? " миролюбиво спросил
Ликанац.
" Я не ожидал, что у вас такой странный язык и, признаться, очень
испугался. Так что считайте, что это я сделал с испугу.
" Да ничего. Он у меня опять отрастет. Вот только больно очень было.
Официант ползком придвинулся к стулу, сел на него и, внимательно
посмотрев на меня, сказал:
" У вас на голове кровь! Возьмите, " он протянул мне полотенце.
"Куда же делся Омар Ограмович, " думал я, смотря мимо Ликанаца. " Где
этот злой старикан, который гоняется за мной повсюду и от которого я не
могу, да и не хочу избавиться?". В дальнем углу подвального зала я увидел
вольготно сидящего между Семеном Кругликовым и Анфисой Стригаловой умершего
Акима Пиродова, чью лайковую перчатку ношу на левой руке. "Как они здесь
оказались? Не Омар Ограмович ли их тоже сюда привел?"
" Ликанац, ты знаешь здесь всех посетителей?
Официант согласно затряс головой Я указал ему повелительно на дальнюю
тройку знакомых мне лиц: "Кто они?".
" Они у нас уже очень давно. Ни с кем знакомства не сводят, общаются
между собой и очень много пьют.
" Ты ничего примечательного не сказал. Познакомь меня с ними. Я тебе
заплачу.
" Я это сделаю для вас, но не за плату. Я хочу, чтобы вы вышли вместе
со мной из этого подвала. Хорошо?
Я с удивлением посмотрел на Ликанаца и дал согласие.
Мы сидели с мамой на зеленой траве и она меня кормила мягкими сладкими
помидорами и клубникой в сахарной пудре. От ее светлых волос, собранных в
пышный светлый ком, пахло духами "Красная Москва". На голубой футболке уже
появилось красное пятнышко от помидорины, и мама посыпала на него большую
щепотку искрящейся соли.
" Как хочется жить, Юлий.
" Ты разве не живешь?
" Я уже давно не живу. Как ты родился, так я и перестала жить. Тебе
старик все сказал. Ты ему поверь.
" Ты хотела меня убить?
" Да, мой милый. Да.
Я смотрел на любимое лицо своей матери, я вдыхал нежный аромат ее волос
и тела, я трогал ее крупные теплые руки и испытывал необычайное чувство
удовлетворения от того, что вот человек, родивший меня и желавший убить меня
еще во чреве, все же любит меня, страдает и никогда уже не сможет избавиться
от своей боли, которая пронзает и меня.
" Мамочка! Ведь ты умерла. Ты обитаешь за серафическими слоями
околоземного пространства, и неужели и там ты думаешь о своей слабости?
" Там ничего нет. Я не могу отвыкнуть от человеческого. Сейчас подойдет
и отец.
С этими словами мама поднялась с травы, оправила белую юбочку и, как
маленькая девочка, побежала за белой капустницей. Солнце заливало поляну,
шумно и напряженно дышали дубы, сквозь листву которых золотыми лопатками
прорывались струи солнца и синевы. Мама возвращалась с отцом, улыбающимся и
взволнованным.
" Отец! Дорогой мой отец! " вскрикнул я и побежал ему навстречу.
" Как я по тебе скучаю, сынок! " он обнял меня и я почувствовал за
шелком легкой тенниски щуплую старческую грудь.
" Почему ты стар, а мама молода? Отчего у вас там такая
несправедливость?
" Я сам не знаю, Юлий. Я люблю маму, но я очень люблю и тебя.
И, видимо, это влияет на то, что я не могу вернуться в состояние
молодости даже там, где все возвращается к лучшей поре жизни.
Я еще раз сжал его в объятиях и превратился окончательно в отца. Я стал
отцом-сыном, или сыном-отцом.
Если позовут, то непременно следует откликнуться, потому что в мире
есть только одно лицо, которое не окликает " смерть. Все, что окликает "
жизнь. Как же проходить, не замечая жизни! Еще успеешь ее не заметить, еще
почувствуешь в полной мере то, как ее не хватает, и позовут тебя, и
откликнешься, но услышишь и увидишь лишь белый звон потусторонней яви. Что
хочется более всего, когда живешь и здравствуешь, " смерти, а чего хочешь,
когда блуждаешь бестелесным, " покоя. Но покой сопутствет только жизни, и
его не бывает в смерти, ибо она " великое трагическое действо, ожидающее
каждого, приходящего к ней в ужасе. Чего же бояться? Бояться жизни в смерти.
А ведь есть только смерть смерти. И не более.
Мне не будет пощады на том свете. С течением лет я становлюсь жестоким
и безжалостным по отношению к близким ко мне людям, я даю всевозможными
способами почувствовать им свое превосходство в собственной избранности,
удачливости, умении жить совершенно одному, не нуждаясь почти ни в ком.
Привыкая к сильной боли, со временем не обращаешь внимания не только на
личную боль, но и на боль других людей. Когда умерла мать, потом ушел отец,
я забыл себя от боли, я забыл, что у меня есть своя душа, свое сердце, я
полностью ощущал себя частью их и умер вместе с ними. Жизнь моя стала
впоследствии расплатой с живущими после них. Я понял, что мне среди живущих
никто не нужен после того, как их не оказалось среди последних. Зачем живут
близкие люди, зачем живут люди отдаленные, зачем живет, в конце концов,
человечество, если нет моих родителей? Или кто они мне?
" Да, ты не наш ребенок, не кровь наша, Юлий!
" Отец! Мама! И вы это подтверждаете?
" Ты должен это понять, " продолжил один отец. " Ты не вышел из нас, а
вошел в нас. Понимаешь?
" Я не хочу верить вам. Вы ушли из живого мира и оставили меня, не
избавив от галлюцинаций. Спасите меня!
" Твои ощущения нам не подвластны, Юлий, " сказала мама. " Ты плаваешь
в их темной бездне, и выбраться тебе из нее не удастся никогда.
" Я не слышу тебя, мама! Я не слышу тебя, отец! " закричал я и увидел,
как лиловые тени бегут по солнечному небу.
" Ликанац! Куда ты хотел меня вести?! Пошли!
Когда мы вышли из подвала и официант разогнулся, то оказалось, что он
невысок и кривоног.
" Теперь вы меня вспоминаете, Скалигер?
" Гоголевский бульвар. Человек из коммерческой палатки?
" Да, я тот самый, кого вы убрали своей ладонью, превратив его в запах
шашлыка.
" Бедняга, значит, ты еще и сейчас пострадал, " намекнул я Ликанацу о
приключении с удавообразным языком.
" Беда одна не ходит, " философски ответил официант.
" Ладно, куда ты хотел меня вести?
" Я приглашаю вас, Скалигер, в мой родной городок. Я покажу вам
творение собственных рук. Ведь до официанта я был архитектором и по моему
проекту в родном городе построен ресторан. Уверяю вас " вы эту ночь не
забудете никогда.
Я взглянул на горящие коричневые глаза Ликанаца, его смуглое красивое
лицо, выдающийся белый нос и подумал, что человек с таким неординарным
носом, конечно же, хитер и изворотлив, но в то же самое время склонен к
авантюрам. А мне их как раз и не хватало.
" Хорошо, Ликанац, действуй!
Официант несколько раз неуклюже подпрыгнул, издал редкой красоты
горловой звук, топнул оземь острым каблуком и в образовавшееся отверстие в
почве мы с ним нырнули, как две струйки дыма. Молчаливое прохождение через
земные недра принесло мне неизъяснимое удовольствие: темный мир
разлагающихся и разложившихся материальностей звучал прелестной элегической
нотой умиротворенного страдания телесных оболочек. Великие греки и
компиляторы римляне в своих мифах были так далеки от моих грез, что я
невольно выругался, поскольку почувствовал себя обманутым целой
цивилизацией. Сколько дневных и ночных часов для усвоения чужих сказок я
потратил, чтобы соответствовать мнимому уровню образованности, то есть тому,
что придавило мою индивидуальность, исказило мое видение мира. А ведь
достаточно было только довериться себе и моя внутренняя сущность понесла бы
меня давным-давно по реке личного познания, в которой никакая особь не
замутила бы воду.
Вырвались мы с Ликанацем из источника минеральной воды. По склону
темно-зеленой горы шли белые бараны, а за ними как царь земли шествовал
пастух в черной бурке и черной папахе. Он издали приветствовал нас, подняв к
небу, как жезл, ослепительно-желтый посох.
" Здравствуйте, джигиты!
" Здравствуй, отец! " ответствовал Ликанац.
Я почтительно склонил голову на приветствие старца и залюбовался его
золотым посохом. Он поймал мой восторженный взгляд и сказал:
" Вижу, чужеземец, мой посох пришелся тебе по сердцу. Но я вижу и
другое: ты тот странник, которому незачем опираться на земную твердь, и
хождения твои в мире вымыслов того и не требуют. Ты сам себе посох!
Я еще более почтительно склонил голову. Старец угадал мою тайную
страсть жить вне времени и пространства, углубляясь только в себя и ища там
неведомого.
" Где ты, Ликанац? Ты существуешь? " спросил я.
" Скалигер, я здесь. И старец тоже.
" Что же, хорошо. Что будем делать дальше?
Ликанац взял меня за руку, подвел к севшему на землю старику и усадил
рядом с ним на расстеленную черную бурку.
" Сидите, Скалигер. Будем отдыхать, слушать горы и есть шашлык.
" Ты идешь по пути смерти. Остановись, Фора!
" Не пугай меня, Юлий.
" Как тебе объяснить, чтобы ты поняла и поверила мне, любимая?
" Поцелуй меня.
Я поцеловал Фору в бесцветные глаза, наполненные как бы
дистиллированной водой. Они были солеными.
" Ты плачешь, милая?
" Я чувствую, что наша любовь подходит к концу. И ни ты, ни я, никто в
мире нам не сможет помочь удержать ее. Это так горько чувствовать. Скажи
мне, что ты меня все еще любишь.
" Я люблю тебя, Фора.
" Почему я иду по пути смерти? Что ты хочешь этим сказать?
" Ты заболела мной.
" Не мучай меня. Я не понимаю твоих слов .
" Твоя жизнь стала с некоторых пор зависеть от моей . Ты уже не
располагаешь собой, ты опутала себя цепями любви, привязанности ко мне. Ты
соткала паутину, чтобы удержать меня, но тем самым ты лишь истощила себя, и
у тебя уже не хватает сил любить, но достанет сил, чтобы измучить себя
собственной любовью. Ты должна забыть меня, иначе ты погибнешь.
" Ты бредишь, Юлий. Я люблю тебя всей душой. И это не мука, что я не
могу жить без тебя, а счастье, неизъяснимое и ненасытное.
" Хорошо. Твое право " выбирать. А как поживает твоя дочь?
" Она еще не родилась.
Я влюбился в ее еще нерожденную дочь. Прогуливаясь по Александровскому
саду вечером, я заметил Фору и рядом с ней высокую худенькую девушку с
распущенными шоколадными волосами в бордовой юбочке выше острых смуглых
коленок. Я поцеловал Фору в щеку и внимательно посмотрел на ее спутницу.
" А это " моя дочь, Анела.
" Когда ты успела вырастить такую красивую дочку? Ты не обманываешь
меня, Фора?
" Ты не замечаешь, Юлий, что твои провалы в вечность занимают
десятилетия. Хоть мы с тобой и мечемся во времени, но я не забываю своих
женских обязанностей. Да, это моя дочь.
" Кто же ее отец? Я могу это знать?
" Твой брат.
" Я так и предполагал.
Анела внимательно слушала нашу беседу, хотя всем видом показывала, что
ей наши разговоры глубоко безразличны и она бы с удовольствием продолжала бы
гуляние по скверу.
" Вы не против, если я с вами немного погуляю?
" Конечно нет! " радостно воскликнула Анела и покраснела.
Я пошел рядом с ней. От нее веяло молозивной свежестью, а когда она
беззвучно смеялась одними глазами, то напоминала жеребенка, обнажившего
белоснежный ряд дикорастущих зубов. "Сколько мне лет?" " спрашивал я сам
себя, идя рядом с этим веселым увлекающимся всем жеребенком. " Может быть, я
и не жил раньше, потому что только сейчас рядом с Анелой почувствовал
радостное сбивчивое биение сердца и легкость в походке. Какое радостное это
ощущение говорить все, что вздумается, и видеть, как все твои словесные
пустяки буквально проглатываются ею, как сладкие сдобные булочки, пахнущие
томным изюмом.
" Анела, что вы любите больше всего на свете?
" Не знаю.
" А булочки сдобные с изюмом любите?
" Нет, то есть да. . . Впрочем, не знаю.
" А читать вы любите?
" Я люблю слушать музыку.
" А какую?
" Всякую... Хорошую... А, впрочем, не знаю.
Когда Фора отошла купить пачку сигарет, я сказал Анеле:
" Анела, вы мне понравились. А я вам?
" Не знаю. . .
" Вы знаете, где жили мои родители?
" Да, ведь мама же знает.
" Я буду ждать вас завтра с утра. Приходите. Придете?
" Не знаю.
Фора подошла с пачкой сигарет. Мы сели на садовую скамейку. Она
закурила. Потом посмотрела на меня, улыбнулась и произнесла:
" Ведь Анелы может и не быть вовсе. Я ведь ее еще не родила.
" Фора, будь благоразумна. Я увлекся.
Анела сидела тихо, как мышонок. И без того бледное ее личико еще более
побледнело. Решалась ее участь: быть ей или не быть.
" Ладно уж, " миролюбиво сказала Фора.
Я жадно дотронулся до детской ладони Анелы, " влажной и горячей. Я был
счастлив. Бесконечно счастлив.
В двухкомнатной квартире родителей было прибрано. В большой комнате на
квадратном столе стояли искусственные розы. Я ждал еще нерожденную дочь
Форы, нервно прохаживаясь от стола к балкону. За окном неистовствовал
осенний дождь, сверкала глухонемая молния, и я думал, что Анела ко мне не
придет. Дверь в маленькую комнату отворилась и из ее глубины показался
призрак брата. Он подошел молча к столу и сел напротив.
" Ты удивлен? " спросил он, " не волнуйся, я ненадолго. И твоей встрече
с моей дочерью не помешаю. Я не люблю ее. Ты можешь делать с ней, что
захочешь.
" Я не хочу общаться с тобой. Где мой настоящий брат?
" Ты же убил его. . . Ножом.
" Так это в нереальности!
" А ты различаешь реальность и нереальность? " ухмыльнулся призрак
брата. " Тогда ответь: Анела откуда явится?
" Из моей любви, " с отчаянием в голосе ответил я.
Призрак замешкался. Его прозрачные пальцы согнули металлическую вилку в
треугольник и бросили ее на тарелку, которая со звоном треснула пополам.
" Ты демагог, Скалигер, " прошипел призрак. В дверь позвонили и я
бросился открывать ее. Шоколадные волосы Анелы и ее короткая бордовая юбочка
были до удивления сухи.
" Ты не попала под дождь?
" Я же из тебя пришла к тебе, Скалигер! " Анела улыбнулась " А это мой
папочка, " указала она на призрак брата тонким пальчиком.
" Привет, Анела, " осклабился призрак. " Ты совсем не похожа на меня.
Кстати, и на Фору тоже. Ты похожа на Скалигера.
Пробудитесь сейчас те, кто спит. Откройте глаза, и вы из яви снов
окажетесь в снах действительности. Пребывайте в молчании и не пропускайте
ничего ни зрением, ни слухом, а только ненасытно предайтесь искусу
путешествия, в котором сможете насладиться самосозерцанием трепетных
фантасмагорий в вашей блуждающей душе.
Что может случиться с вами в будущем, если ваше будущее " есть прошлое,
которое вы принимаете за настоящее. Не задумывайтесь, когда в ночные часы
вас нечто подталкивает поднять взор к бегущим звездным небесам и вы
чувствуете, что это не вы вышли из них, а они " из вас, что они являются
порождением ваших невнятных колеблющихся ощущений и непроявленных
откровений, ползающих в лабиринтах вашего сияющего эго, как сухие змеи в
первобытных песках Австралии, беспрестанно ищущих выхода к единому морю,
полному еще более мерзких монстров болезненно тоскующего духа.
Неужели человеческая жизнь столь смешна и ничтожна, что размышления о
смерти превосходят все ее деяния, ибо достаточно только встать под знамена
смерти и ты как бы незримо подымаешься над всеми, благодаря надменной
отрешенности от суеты, которая и является жизнью человеческой. Целая
цивилизация, прокричав "помни о смерти", исчезла в ее объятиях и только
благодаря суете человеческой не канула в немотствующую бездну вселенского
безразличия жизни, которая проглатывает саму смерть со всей ее надменной
отрешенностью: и только наше сияющее эго сидит, как любопытный абориген на
холме, и смотрит на их взаимопожирание, лепя из праха и экскрементов
свистульку новой цивилизации.
Пробудитесь сейчас же, аборигены собственных иллюзий, ибо ваш мир " не
плаха, не площадь, не трон, а летящий змей в звездных небесах, несущий
тайные знаки ваших сущностей, бестелесных и вечных. Они сыпятся феерическими
музыкальными струями на беззащитный открытый мозг человечества, ползающий
раздробленно, как маленькие морщинистые черепашки, под каждой черепной
коробкой и впитывающий ядовитые мелодии разверзнутых бездн. Нас никто не
защитит и не спасет, потому что мы стары и дряблы, и никому не нужны, как
любопытный абориген со свистулькой в губах.
" Юлий, ты забыл обо мне, " вернула меня из бреда Анела. Она
приблизилась ко мне и положила свои влажные горячие ладони на мои глаза. "
Ты спрашивал меня: нравишься ли ты мне? Я отвечаю, и пусть призрак слышит
это, " я люблю тебя. Люблю тебя, как Фора.
" Что? "закричал я и, отбросив ее ладони с глаз, повалился на диван. "
Что ты сказала? Как Фора?
Призрак брата беззвучно хохотал, глядя на мои страдания.
" Я же тебе говорил, Скалигер, что она похожа на тебя.
Я притянул к себе подошедшую Анелу и усадил ее рядом.
" Почему, как Фора? Ведь ты же сама здесь!
Анела чуть отстранилась от меня и я увидел в ее больших серых глазах
смеющийся лукавый взгляд Форы.
" Фора, верни Анелу, " простонал я. " Я влюбился впервые в жизни. Не
отнимай ее.
Фора как будто услышала меня и вновь передо мною сидела девочка с
шоколадными волосами, грустно смотревшая на меня и шептавшая: "Я люблю
тебя".
На стуле, где находился призрак брата, никого не было.
" Ты где?
Молчание повисло в воздухе. Неожиданно Анела поднялась с дивана и,
словно лунатик, вытянув худые руки, подошла ко мне и поцеловала в губы. Ее
холодное прикосновение пронзило меня.
" Сколько тебе лет, Юлий?
" Двадцать пять, а может " семьдесят пять. Не знаю.
" Ты стал говорить так же, как и я, " улыбнулась Анела.
Мы лежали на диване под зеленым китайским пледом. Ее шоколадные волосы,
собранные в пучок, обозначили маленький продолговатый череп. Анела
повернулась ко мне лицом и я вздрогнул, ощутив ее голый прохладный живот и
легкое игрушечное касание острых сосков упругой груди.
" Где ты блуждал, Скалигер? " спрашивала Анела, прижимаясь.
" Ты хочешь спросить, " где я был, когда тебя не было?
" Вот именно.
" Я рождался и умирал. Рождался и умирал. И так каждый день.
" Ну а сейчас ты родился или умер?
" Я постарел.
Анела поняла меня.
" Я постараюсь не исчезнуть, хотя, как ты догадываешься, от меня это
мало зависит. Решает Фора, " на глазах Анелы показались слезы. " Что мне
делать, Юлий?
" Девочка моя любимая. Чтобы избавиться от Форы, ты должна убить ее, но
тогда ты вообще не сможешь явиться ко мне. Одной моей любви недостаточно,
чтобы вытащить тебя из будущего. Фора позволила мне любить тебя. И ты есть.
" Я не хочу зависеть от нее. Только ты должен распоряжаться моим
присутствием. Я боюсь ее, Юлий!
" Как ты дрожишь! Как я люблю тебя, Анела!
Анела обхватила меня свободной рукой, расцарапав до крови плечо.
" Ой, что я наделала, " испуганно вскрикнула она, выскочив из-под
зеленого пледа. " Где у тебя йод?
Пока она бегала на кухню, я с удовольствием смотрел на ее худенькую
фигурку подростка с темно-малиновыми пятнами крупных сосков и серебристым
треугольником, тонкой струйкой доходящего до пупка, напоминающего глаз
морской рыбы, плавающей у берегов Австралии.
Если бы мне в тот миг кто-либо сказал, что это только чувственная
фантазия больного мозга, я бы посмеялся и продолжал бы наслаждаться
созерцанием Анелы, бегавшей по квартире в поисках йода обнаженной, не
стыдившейся своей наготы, поскольку интуитивно понимала, что я обожаю каждое
ее движение, каждую полутень на ее еще не сформировавшемся детском теле. Но
мне никто не сказал, да и не мог сказать, потому что мы пребывали в полном
одиночестве, оставленные на время вдвоем живыми и мертвыми. Но когда она
слишком быстро передвигалась, я не мог не заметить, что в движении она как
бы становится еле видимой, почти прозрачной, что каждое резкое передвижение
что-то смещает в ее субстанции, лишенной полнокровной телесности.
" Анела, остановись, " крикнул я. Она выбежала ко мне из кухни и еще
несколько мгновений ее худенькое тело догоняло ее светящийся облик. - Анела,
ты знаешь, что не вся здесь?
" Не пугайся, Юлий. Ты привыкнешь к этому.
" Я не боюсь. Я хочу знать: это ты со мной?
" Да, милый, да, любимый! " крикнула Анела и ловко прыгнула на меня,
предварительно сдернув плед.
Я смотрел на нее, когда она уснула. Вновь распущенные шоколадные
волосы, бледное лицо, легкие ключицы. Ты, Анела, похожа на Скалигера. Ты "
зеркало, ты " чувственная фантазия, ты " бред безумца. Не покидай меня,
Анела.
Я прикрыл ее пледом. Тихо поднялся с дивана и подошел к балкону. Дождь
не утихал. Серая завеса дождя колыхалась в разные стороны от порывов ветра.
Не потоп ли? Что ты скажешь мне, любимая, когда проснешься? Поймем ли мы
друг друга? Я вернулся к ней и стал страстно целовать, тыкаясь в губы, в
грудь, в мягкий серебристый треугольник.
Не покидай меня, Анела.
Чудный вид открывался с горы. Зелеными, коричневыми, желтыми ярусами
сбегали ее склоны к бурливой пенистой реке, которая, клокоча и неистовствуя,
пронзала своими голубыми струями сизые и серые валуны, фаллически
выглядывающие с неглубокого дна. В метрах двухстах кружил державный орел,
выглядывая барашка пожирнее. Впереди чередовались вершины иных гор,
окутанные пуховыми белоснежными облаками.
" Что это за вершина? " спросил я, протянув руку вдаль.
" Суфруджу! " ответил Ликанац, жуя шашлык.
" А рядом с ней?
" Суфруджу! " ответил уже пастух, расположившийся на черной бурке.
" Они что " близнецы?
" Нет. Но имя у всех вершин здесь одно, " продолжал отвечать пастух. -
Где много слов, там много безделия и сумятицы.
" А что же люди? У каждого свое имя. Или и они все должны иметь лишь
одно имя на всех, чтобы...
" Не продолжай, " перебил меня пастух. " Я знаю, что ты хочешь сказать.
Как твое имя?
" Юлий Скалигер.
" Ведь ты хочешь, чтобы все походили на тебя. Не поэтому ли ты пишешь
свой трактат о слове? Ты хочешь, чтобы все были Скалигерами, только не
говоришь об этом прямо.
Я не удивился тому, что старик знает о моем трактате. Его золотой посох
свидетельствовал о его принадлежности к нечеловеческому миру и знания его об
этом мире и о пребывающих в нем могут быть беспредельны. Я удивился тому,
что старик так просто мне открыл мою же собственную тайную страсть уподобить
окружающих меня людей себе самому, чтобы они не смогли мне причинить ни
страданий, ни мук ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. Желание видеть
в них самого себя не оставляло меня и я старался в каждом из них
культивировать именно те черты, которые каким-то образом, хоть отдаленным,
напоминали меня. Где предел желаний живого поглотить себе подобного,
растворить его в себе, чтобы ни единой черточки не осталось от совсем
недавно еще совершенно незнакомого существа, имеющего на все свой взгляд и
понимание? Возможно, это " единственное ненасыщаемое никогда желание и
потому оно обречено на чавкающее бессмертие клеток и атомов, беснующихся в
мировой тьме.
Пастух бесцеремонно вскрыл язву в моем мозгу, которая стала истекать
гноем самоистязания и раскаяния. Я страдаю от того, что в силу неведомых
причин и условий вынужден порабощать себе подобных, сначала заманивая их в
свои сети лживой любовью или дружбой, или, наоборот, унизительным покорством
и лестью, чтобы потом уже, почувствовав их полное к себе доверие, нанести
сокрушительный удар по их духовному и телесному панцирю, удар мстительно
ликующего своего "Я", после которого они истлевают в прахе собственной
ничтожности. "Анела тоже оказалась в этой ловко расставленной сети", "
подумал я и мерзко рассмеялся.
" Отец! " обратился Ликанац к пастуху. "Ты бродишь по горам. Ты видишь
восход и заход солнца. А я, алчный, бросивший свое дело, впал в суету.
Скажи, что мне делать?
Пастух долго не отвечал, пристально следя за полетом державной птицы.
Он привстал с бурки, накинул ее на плечи и, раскинув руки, приподнялся над
землей.
" О, отец! " воскликнул Ликанац и повалился на колени. Посох в руке
пастуха превратился в солнечный луч, низвергавшийся прямо из небесных
глубин.
" Ликанац! Ликанац! " трубным голосом загудел вознесшийся пастух. " Вы
должны вернуться к своему делу. Должны с равнин подняться в горы. Ваши
жилища покрылись плесенью, ваши души извратились от легких нажив, ваши
звонкие гордые песни уподобились вою шакалов.
" О, отец! " рыдая, проговорил Ликанац.
Я подошел к своему знакомцу сзади и поднял его с земли.
" Успокойся, Ликанац! Ты ведь уже у себя.
" А братья мои? Они не хотят возвращаться.
Пастух исчез так же внезапно, как и появился. Ликанац никак не мог
успокоиться, его била дрожь, и он безуспешно пытался согреться у костра,
протягивая к нему белые холеные руки. Мне даже показалось, что после
вознесения пастуха и его исчезновения, внешность Ликанаца преобразилась:
выдающийся нос уменьшился, на смуглое красивое лицо легли тени тревоги и
беспокойства, а горящие коричневые глаза как бы подернулись пеплом. Он, не
отрываясь, невидящим взором глядел на пляшущие языки потухающего костра, и,
когда я окликнул его, он повернулся и нечто мое неуловимое мелькнуло в его
неказистом облике. "Неужели и Ликанац становится мной " Скалигером? Неужели
моя алчная натура пожрала и его сущность и смотрит теперь сама на себя из
него, как из зеркала?". Я подскочил к Ликанацу, взял его голову в руки и
пристально посмотрел в его глаза: в них жил Скалигер. Тот двенадцатилетний
мальчишка, которого соблазнила молодая тетка Клава, которого изнасиловал
учитель Омар Ограмович в маленькой комнате на Арбате. В руках у юного
Скалигера была большая белая роза, которой он помахал мне из глубины глаз
Ликанаца. Я отшатнулся и, спотыкаясь, пошел прочь.
" Куда вы, Скалигер? Не оставляйте меня одного, " услышал я голос
Ликанаца. " Без вас я погибну!
" Ты уже погиб. В тебе " я!
" Я это чувствую. Вы проникли в меня. Но лучше вы, чем учитель.
" Как ? И ты подвергаешься его преследованиям?
" Да. По его воле я оказался в том подвальном помещении, где вы впервые
оказались с учителем. Когда вы спросили меня о том, что произошло с
посетителями, учитель вселился в мой язык, который превратился в красную
змею. Вы отсекли ее своей гениальной ладонью. И учитель на время оставил
меня. Но мне показалось, что он вновь вернулся: пастухом был он!
Ликанац судорожно зарыдал.
" Почему ты его так боишься? Что он может тебе сделать?
" Потому что он является не только моим духовным отцом, но и
физическим!
" Вот почему ты все время восклицал "О, отец!".
" Да, Скалигер. Он властвует надо мной безраздельно, бросая меня из
одной бездны времени в другую, трансформируя мой облик в пространстве,
превращая меня то в амебу, то в монстра, то в человека. Моя истерзанная душа
становится адом, когда он вспоминает о ней и внедряется в нее.
" А мать? У тебя есть мать?
" Да. Я помню ее. Высокая, светлая " Николь.
Как только Ликанац произнес это имя, перед глазами моими пронесся вихрь
веков, и я вспомнил свою свадьбу с Николь, друзей Пьеро и Жакино, свою
смерть в Ажене.
Я вспомнил трагическую феерию, полную фантастических приключений, по
исходе которых я полюбил Николь, а потом потерял навеки и вновь ее обрел, не
зная того " действительно ли со мной Николь или только лишь ее образ, в
котором пребывает мерзкий старик с лиловыми ногами и смеется надо мной. Да,
я вспомнил все это, прекрасно понимая, что вспоминаю не свою жизнь, а жизнь
Скалигера-Бордони, делающего клизмы и сочиняющего трактат о слове.
Но этот Скалигер во мне, он просочился из пятнадцатого века в меня
нынешнего, галлюцинирующего филолога, ищущего выхода из действительного
света в мистическую тьму, где владычествует учитель. Я вспоминал, как Жан
Понтале, трясущимися лягушачьими ладонями придерживая молочный зад
двенадцатилетнего подростка, неистово внедрялся в него, пытаясь преодолеть
завесу времени. Значит, ему удалось это сделать, несмотря на то, что Николь
уверила меня в невозможности этого.
Я бросился на Ликанаца и повалил его на землю лицом. Он как-то
по-старчески хрюкнул и затих. Резким движением я сорвал с него брюки и
передо мной показалось лиловое тело с жадными высокими ягодицами
чувственного андрогина. Тяжкое биение крови в висках разламывало голову,
глаза мои слезились от вспыхнувшей страсти, наполнившей блещущим
электричеством все члены моего организма. Я ворвался в лиловую влажную мглу
грядущего и забился в конвульсиях.
" Где я?
Старческий хохот птичьим эхом летал среди гор Суфруджу. Осколки
прошлого и настоящего не склеивались. А грядущее маячило стеклянным графином
с желтой мочой, которую должна была утром по ошибке выпить моя не в меру
похотливая тетка Клава. Так я ее казнил за лишение меня девственности.
Когда был жив отец, мы часто встречались с ним тайно от мамы в
маленькой закусочной, где подавали пиво в бутылках и сосиски с зеленым
горошком. Мама запрещала ему пить пиво, а он, не желая ее огорчать и желая
создать приятную атмосферу для встреч с сыном, назначал мне встречу по
телефону именно в этой закусочной, где его знали и, можно сказать, даже
любили.
Мы садились за стол друг против друга, пили пиво и вели разные беседы о
жизни, о работе, о моем творчестве. Отец знал о моих ночных бдениях, о моем
непомерном тщеславии сочинителя и наслаждался, когда я, увлекаясь,
рассказывал ему о своих творческих замыслах. Он прислонял свою аккуратную
ладонь к виску, облокачивался на шаткий столик и восторженно смотрел на
меня. Я никогда не забуду этот взгляд, полный наивной доверчивости,
восхищения и нежности.
" Да, да, сынок. Именно так и напиши. Ты сможешь выразить невыразимое,
"он поднимал стакан с пивом и приговаривал, "давай выпьем за тебя. За твое
слово.
" Отец, ты все же зря увлекаешься этим напитком. У тебя же сердце...
" Мое сердце в тебе, сынок.
" Это чересчур, отец.
" Если бы ты знал, что такое старость, то ты бы меня сейчас понял. Я
люблю в тебе себя, а не тебя. Я вижу твои руки и думаю, что это мои руки, я
смотрю в твои глаза и чувствую, что ты смотришь на меня моими глазами. Жаль
только, что ты этого никогда не испытаешь.
" Почему?
" Ты будешь одинок, Юлий. Всегда одинок.
Дверь в закусочную распахнулась и в теплую табачную сырость затхлого
помещения с улицы вместе с пряной струей сентябрьского воздуха вошла мама.
Отец, смутившись, поставил стакан с пивом на шаткий столик. Я бросился ей
навстречу, взял под руку и усадил за стол.
" Неужели вам здесь не противно находиться? Грязь, смрад, вонь
невыносимая, " сказала она, брезгливо отодвинув от себя грязную тарелку
из-под сосисок.
" Ты сердишься? Не надо. Мы ведь здесь в последний раз, " миролюбиво
сказал отец.
" Я тебя не понимаю!
" Юлий, мы скоро с мамой умрем. Ты останешься совсем один. Почти один.
Мы будем иногда появляться, но мы будем совсем другими. Я хотел тебе это
сказать до прихода мамы, но коли уж так получилось, то пусть остальное
скажет она сама, "и отец посмотрел на внезапно побелевшую маму. Сизый
табачный дым и полусумрак не могли скрыть от меня стремительные изменения в
ее лице: оно как будто цвело молодостью и в то же самое время наполнялось
невыразимой скорбью.
" Что с тобой, мама?
" Я умру раньше отца и ты видишь уже сейчас те процессы, которые
ожидают мою плоть. Я выполнила свой долг, я сохранила тебе жизнь, хотя ты
чуть не убил меня при рождении, и за это я окажусь за серафическими слоями
околоземного пространства. Несколько позже там будет и твой отец, если
сумеет освободиться, благодаря тебе, от своей телесной сущности. Ты должен
будешь взять ее себе, если, конечно, согласишься.
" Конечно, конечно я согласен, " вскрикнул я. " Я не хочу, чтобы вы
расставались навсегда. Я хочу, чтобы вы, даже после смерти, были вместе.
" Ну вот и хорошо, мой дорогой, вот и славно, " произнесла медленно
мама, поглаживая мое худое плечо. " А теперь прощай.
Я сидел один за шатким столом и недоумевал: в самом ли деле со мной
несколько мгновений назад находились рядом родители или мне все это
пригрезилось? Я подозвал официанта и заказал водки. Когда он принес мне ее в
мутном графинчике и поставил на стол, предварительно смахнув с грязной
скатерти ссохшиеся крошки хлеба, и приятно осклабился, я сделал вид, что не
узнаю его. Ведь это был Ликанац. Покрутившись рядом, он недовольно исчез и
больше не появлялся.
Я смотрел на движущиеся серые невыразительные фигуры посетителей
закусочной, слушал их непонятную речь и пытался осмыслить ту чудовищную
ситуацию, которую мне обрисовали мои внезапно исчезнувшие родители. Грядущее
одиночество, предсказанное мне моим отцом, не пугало меня. Одиночеству
сопутствует молчание, а о нем я мечтал постоянно и каждое слово, выброшенное
на ветер моей артикуляционной системой, приводило меня в ужасное состояние,
близкое к помешательству.
Разве можно что-либо высказать или обозначить словом, порхающим,
физически беспредметным, притягивающим массу чуждых предметов в мире, разве
не оно является источником того зла, которое изначально преследует человека
и в конце концов уничтожает его. Погрузившись в темную бездну молчания, я
буду заглатывать слова других и беззвучно перекатывать их в собственной
утробе невыразимости, ломая их хребты, переваривая мышечные сочленения,
перетирая их костный фосфорический состав претенциозных надежд на изменение
всего сущего.
Австралийский абориген с глиняной свистулькой в толстых сиськообразных
губах, сидящий на песчаном холме, тоже не испугался
бы одиночества, поскольку яркое выгоревшее небо и золотой песок,
обжигающий твердые финиковые ступни, всегда держат его в определенном мире
определенных координат, в которых меня держит стакан бесцветного алкоголя и
фарфоровые крошки пшеничного хлеба, колющие розовый мизинец моей любимой
девочки Анелы, пришедшей из моей грезы в эту заплеванную закусочную и
раздвинувшую мрачные портьеры моих размышлений о молчании и одиночестве. Не
надо, любимая, жертвовать собой и приходить из невыявленного мира в мир
моего безумия, чтобы напомнить мне обо мне.
" А я пришла не одна.
" С кем же?
" С твоим соседом по квартире. Экстрасенсом.
" Да-да. Он однажды пожелал, чтобы меня забрал черт и я угодил в
объятия собственного отца, правда, уже умершего. Мне кажется, что твой
спутник просто авантюрист и мошенник.
" Ты ревнуешь, Юлий? Да?
" Конечно. Меня удивляет твой выбор. И я не понимаю, почему ты привела
его сюда " в закусочную, где я только что беседовал со своими родителями,
которые сказали мне, что скоро умрут и я останусь навсегда одиноким.
Анела поправила шоколадные волосы, наклонилась ко мне и поцеловала в
щеку.
" Не злись, милый. Я давно не виделась с тобой и пошла к тебе. Сосед
вызвался проводить меня. Вот и все. Я думала, что ты обрадуешься.
Анела устало села на стул, на котором совсем недавно сидел мой живой
отец. Короткая бордовая юбочка ее задралась и обнажились обморочно белые
легкие бедра девочки-подростка. По сердцу моему будто кто-то полоснул
бритвенно отточенным лезвием и я прижал его правой ладонью, чтобы оно не
вытекло как любопытный красно-выпуклый глаз внутренностей.
- Пойдем скорей отсюда, Анела! Скорее!
Анела все поняла и рассмеялась. Сосед-экстрасенс, все это время молча
наблюдавший за нами, крепко схватил меня за плечо и страстно шепнул: "Только
не здесь, Скалигер! ".
Втроем мы быстро выбрались из смрадной закусочной и долго шли
переулками, пока не оказались у коммерческого киоска, дверь которого перед
нами мгновенно распахнулась, как только сосед условным стуком постучал в
нее. В углу ее на полу лежал желтый надувной матрац. Сосед кивнул в его
сторону:
" Вот вам и ложе, Скалигер. Можете здесь располагаться хоть до утра. А
мы с Ликанацем поторгуем.
Услышав о Ликанаце, я не удивился. Теперь он, как и Омар Ограмович,
будет постоянно преследовать меня, потому что невольно проник в мой хаос, в
котором блуждают разнообразные монстры моих галлюцинаций и видений, как
диковинные морские экземпляры в океане, омывающем берега чудесной Австралии.
Анела опустила руку через край матраца и плеснула мне соленой голубой
водой в лицо. Открыв глаза, я увидел замечательное морское безбрежье,
торжествующе залитое пенным светом медного солнца. Куда же нам плыть? Анела
козырьком приложила худенькую плоскую ладошку к глазам.
" Юлий, мы совершенно одни в океане.
Теплый порыв ветра задрал, как сухое пламя, ее бордовую юбочку кверху и
я увидел серебристую струйку, стекающую с пупка к нежному паху..
" Ты сводишь меня с ума, Анела !
Я подполз к ней, как собака, и стал лизать ее колени, бедра, сладкий
живот. Матрац зыбко покачивался в такт нашим неосторожным движениям.
" Юлий, Юлий, остановись. На нас смотрят.
Разве можно сомневаться в собственном существовании, когда горячий
пульсирующий ток крови ударяет в голову и страстные видения воздушными
разноцветными шарами отрывают тебя от мрачного рельефа действительности,
которой впору самой сомневаться в собственной реальности, поскольку именно
она зависит от моих сумасбродных ощущений, мгновенно и прихотливо меняющих
друг друга.
В каждом из нас живет рыба, сомнамбулически мечтающая о хрустальных
толщах океанических глубин, в которых миллиарды миллиардов лет назад она
вольно блуждала, и не предполагая, что когда-нибудь станет грезой
теплокровного организма, блуждающего теперь уже по лесистой или песчаной
суше, в поисках ненавистного ей огня. Не стой на берегу воды " это грозит
катастрофой, ибо становишься гранью, через которую проламывается в иную
жизнь твой дремлющий немигающий чешуйчатый хаос. Треугольная оловянноглазая
морда безжалостно разрывает красную кисею твоих влажных эпителей и ныряет в
бездну, на поверхности которой твой тщеславный рассудок не более, чем жалкий
поплавок.
" Сколько стоит вобла? " спросил Ликанаца сильный молодой человек в
фиолетовом тренировочном костюме.
" Воблой торгуем только оптом!
" Отлично! " обрадовался сильный молодой человек. " Мне нужно одну
оптом. " Он взял с прилавка самую большую рыбину и резво побежал по темной
пустой улице.
" Держи вора! " заливисто прокричал Ликанац и сосед-экстрасенс ловко
скрутил Ликанацу руки.
" Скалигер, помоги!
" Да, ты права, Анела! На нас смотрят.
Там, где начиналась земля, стояли гогочущие мужики и указывали на нас
пальцами. Почти у самой кромки воды стоял, вкопанный в песок огромный
потрескавшийся телеграфный столб, на котором сидел монтер Кондер, знакомый
мне по детству. Обхватив железными кошками эрогенное тело столба, он
белозубо улыбался, посверкивая глазками сквозь приставленные к ним грязные
трубочки блинообразных ладоней. Сердце мое екнуло и заныло в предвкушении
очевидных неприятностей. Длинный и гибкий, как свиной глист, он умел
располагать к себе, чем и воспользовался в свое время, когда предложил мне
открыть рот и закрыть глаза, а потом безжалостно вдунул целую папиросу мне в
горло, да так удачно, что я целую неделю ходил и отплевывался табаком.
" Ничего, ничего, " подбадривал он меня, стуча по загривку, " зато
теперь мы с тобой друзья. Понял?
" К-ха, к-ха, " брызгая слюной желтого цвета, пытался я ответить.
" Приходи завтра в агитпункт. Я зову только самых близких друзей.
Понял?
" К-ха, к-ха!
В дальней комнате агитпункта, куда я пришел вечером, уже толпилось
человек семь знакомых мне пацанов. На столе перед ними лежала, раздвинув
ноги в сиреневых вязаных чулках дочка Анфисы Стригаловой Капитолина.
" Ну что, сосунки, слабо удовлетворить Клеопатру? " вопрошала она с
издевкой ребят. " Эх вы, Агамемноны хреновы!
В алой комнате агитпункта стоял спертый возбуждающий запах. С трех
картин серьезно глядели на происходящее умные пожилые люди, как будто хотели
нам в этом деле помочь.
Я возвращался холодным весенним утром, когда вовсю цвели яблони и
щебетали проснувшиеся птицы. Чистый мокрый асфальт, влажная трава аккуратных
газонов, одинокий белый голубь в высоком голубом небе, " все это приносило
неизъяснимое наслаждение, по сравнению с которым удовольствие полученное от
Капитолины напоминало вонючую лужу винегретной блевотины в вагоне метро.
Хотелось никому не показываться, спрятаться навсегда под белоснежной
накрахмаленной простыней и мечтать об известности, о верном сильном друге, с
которым можно пойти хоть на край света. Капитолина шла со мной рядом и
сокрушенно вздыхала, глядя на свои спущенные сиреневые чулки. Неожиданно к
нам присоединился Кондер и, ловко облапив тощую Капитолину, обратился ко
мне:
" Ты очень странный человек, Скалигер. Ты ведь знаешь, что я юноша с
надломленной психикой, из неблагополучной семьи, что я развращен с детства и
поэтому циничен и груб со всеми и что у меня ничего святого нет за душой. И
ты, прекрасно все это зная, все равно идешь на поводу моих пороков и даже с
удовольствием принимаешь участие в непотребных оргиях, а проще говоря,
насилуешь слабоумную Капитолину, мама которой наверняка на всех вас подаст в
суд. Ты разве не боишься суда? Почему ты не отверг столь пошлые и
безнравственные удовольствия? Почему ты не бросил мне в мое рыбье лицо
грязных оскорблений и не ударил меня? Ты думаешь, что тебя спасет время? Ты
ошибаешься, думая, что оно подвластно только тебе.
" Ты зачем слез со столба, негодник? " спросила вдруг Кондера
встрепенувшаяся Капитолина. " А ну-ка, давай обратно!
Сильный молодой человек с большой воблой в руке прибежал в районную
библиотеку, где его с нетерпением ждал маститый писатель девятнадцатого
века, неловко переминаясь с ноги на ногу, перелистывая книгу рассказов,
написанных им в голодной безвестной юности.
" Аркадий! Наконец-то! " сказал он, жадно выхватив воблу из рук
молодого сильного человека, и стал ею стучать по его же голове.
" Не так сильно. Мне ведь больно.
" Учти, мой молодой друг, что образы, как бы ни утверждали разного рода
сенсуалисты, все же являются порождением головного мозга, то есть
элементарного рассудка. Поколачивая тебя не чем-нибудь, а рыбой, я вызываю в
твоем мозгу первобытные образы, являющиеся основой твоего мирочувствования.
Не ощущаешь ли ты, что при каждом постукивании необозримо раздвигаются
горизонты твоей умственной деятельности, которая, честно говоря, почти
совершенно угасла. Так что потерпи, милый друг.
Маститый писатель, постучав еще с полчаса воблой по голове Аркадия,
наконец-таки остановился, сел в кресло и стал пить чай, посасывая
солоноватые перышки мяса вяленой воблы.
" В девятнадцатом веке, брат, деревянная тоска. Да-с. А вы живете
весело. Вот ты рыбу спер-с. И что-с? А ничего-с! Как говорил Достоевский:
"Преступление " наказание"! Большущий писатель был. Однако слабоват по
фактуре. Слабоват, ничего не скажешь. Я, бывало, прихожу к нему в журнал и
говорю: " Федор Михайлович, одолжите рублей полста-с, статьей верну,
ей-богу!" А он смеется и отвечает: "Меня статьями завалили, как дерьмом. И
вы туда же, милейший !". Большущий писатель.
" А с Толстым вы общались?
" Наипервейшим образом, друг Аркадий. В Ясной Поляне у него частенько
бывал. Наестся рисовых котлеток, ходит потом, животом мучается, а
вегетарианство соблюдает. Большущий писатель. Часто о высоком размышлял, на
манер Гете: "Не могу, говорит, молчать". А глаз у него острый, как паук в
паутине. Так иной раз стрельнет взглядом на ядреные ягодицы дворовой девки,
что та аж спиной чувствует. Большущий писатель.
" А Тургенева вы знали?
" Непременно-с, сударь. Говорю ему: "Милостивый государь Иван
Сергеевич, что ж вы Россию променяли, можно сказать, на бабу-с? А он в крик
тут же : "На дуэль, к барьеру!". Раз так, отвечаю, что ж, извольте. Только
учтите, говорю я ему, я вам не Муму с Герасимом. Шлепну почем зря. И что же:
к вечеру того же дня приезжают его секунданты ко мне замиряться с шампанским
и прочим съестным деликатесом. А где же, спрашиваю, ваш посыльщик-то?
Отвечают: в карете. Я к нему бегу через двор. За руку его беру, в дом веду.
А он все смущается, все повторяет: "Да, не Базаров я, не Базаров". Я его
обнял и расплакался. Жалко мне его стало до глубины души.
" Наверняка и Чехова знали?
" Да, можно сказать, товариществовали. Сидим с ним на набережной в
Ялте. А он этак тросточку поднял и на даму указывает: "Вон, говорит,
девственница с кобелем прогуливается". - "Да почем вы, Антон Павлович,
знаете, что она девственница ?". " "Э, " смеется, " да вы, как я погляжу,
еще незрелый литератор. Видите, как она стыдливо на кобеля смотрит, когда он
оправляется?". Огромного таланта был писатель, огромного. Приехал как-то к
нему Иван Алексеевич Бунин. Любил он Антона Павловича страстно. Сидим,
нюхаем магнолии, в небе звезды высматриваем. Тут некстати Антон Павлович
возьми да закашляйся. Ну и звук издал от натуги, так сказать, специфический.
Неловко получается, большущий писатель, а в компании срамится. Тогда Иван
Алексеевич вослед ему то же самое проделал и говорит: "Эк, как цикады
надрываются!". Антон Павлович обтер бородку белым платочком, пенсне поправил
и отвечает: "Вы, Бунин " знаток природы необыкновенный. Не чета мне".
Грустная история, брат Аркадий.
" Ну а Горького-то уж, точно знали
" Имел неудовольствие общаться-с. Принесет он мне, бывало, рассказик в
Нижнем, сядет и слушает, глазками голубенькими похлопывая, как я его опус по
жердочкам разделываю. Очень обижался, но захаживал часто, ибо польза ему от
меня великая была, как же-с, я публике нравился, критики нахваливали, да и
знакомства знатные были. Да... Сидим однажды с ним в трактире. Тоска
деревянная. Он мне и говорит: " А что, Арон Макарович, не поехать ли нам
развеяться в дом к Манефе Ивановне Кружилиной? Там студенты собираются,
разговоры философские ведут, дамочки папироски покуривают. А?". " "Что ж, "
отвечаю, " поехали, Пешков, развеемся. Жизнь надо полными горстями черпать".
Взяли извозчика и через полчаса уже у Кружилиной дома. А там, скажу вам,
молодой человек, бардак уже в самом разгаре: один петушок волосатый Гегеля
талдычит, другой втихаря девицу тощую тискает, Манефа Ивановна похаживает и
всем в чашки к чаю коньячок подливает. Одним словом, рапсодия жизни и
наслаждения. Я-то уж человек немолодой-с. Мне эти Гегели да зады женские
поднадоели порядком, простора духа хочется. Ну я и скажи им всем: "Нехорошо,
господа хорошие, отечественные пределы умственной спермой пачкать. Надо дело
делать-с!". Тут ко мне подскочил пьяненький лысоватый мордвинистого вида
студентик и закричал зло этак: "Выдь на Волгу, " говорит, " чей стон
раздается?". А Пешков принял позу провинциального актера и добавил: "То
бурлаки идут бечевой!". Вижу я, что друг-то мой перебрал здорово и говорю
ему: "Когда вы-то успели так натрюхаться, Пешков?". А он мне, ни слова не
говоря, в лицо кулаком тычет, в нос норовит попасть, слюной брызгая, кричит:
"Молчи, жидовская харя!". Честно скажу, мой юный друг, разрыдался я, как
дитя. Текут горькие слезы по моему немолодому лицу, сердце щемит, и не знаю,
что напало на меня, чистейшего православного представителя русского народа "
писателя Арона Макаровича Куриногу, взял я табурет да и саданул им по голове
Алексея Максимовича. Что тут началось, стыдно вспоминать. Эх-ма..." " Арон
Макарович Куринога расстегнул ремешок повольнее на животе, обтянутом льняной
василькового цвета рубахой и, грустно икнув, спросил библиотекаршу Стоишеву
Лию Кроковну: "А не найдется ли у вас, милейшая, рюмки водки! А?".
Пожилая шатенка с высоким бюстом Лия Кроковна мигом слетала в буфет и
подала маститому писателю на подносе рюмку холодной водки и на закуску два
стручка красного перца. Куринога ловко подхватил толстыми пальцами рюмку,
высоко поднял ее и опрокинул в алый рот с чувственными малиновыми губами.
" Благодарствуйте, Лия Кроковна.
Стоишева сладко улыбнулась и зарозовела. Ее охватило легкое волнение от
того, что маститый писатель Арон Макарович Куринога, о котором она, учась в
педагогическом, писала дипломную работу, вот так запросто обращается к ней и
даже смотрит на нее выразительно и вопрошающе. Жила она скучно и одиноко.
Муж ее бухгалтер Карл Вениаминович Стоишев от неудовлетворения работой и
жизнью усиленно попивал и оказался в больнице, где и скончался от белой
горячки. Лия Кроковна вспоминала его редко и неохотно, потому что кроме
забот и житейских неудобств ничего не получала от своего супруга. Сильный
молодой человек в спортивном костюме, познакомившись с ней в метро, часто
навещал ее в библиотеке и уже не однажды успел объясниться ей в любви.
" Что вы, Аркадий? Вы же мне в сыновья годитесь!
" Любви все возрасты покорны.
" Как это банально с вашей стороны, Аркадий, " разочарованно
произносила Стоишева и позволяла настойчивому молодому человеку пощипывать
свою высокую грудь. " Если бы вы не были так безобразно физически развиты, я
бы, возможно, и уделила бы вам некоторое внимание.
" Что же плохого вы нашли в моей атлетической фигуре?
" Физическое здоровье свидетельствует о недостатке интеллекта, Аркадий.
Вы мне докажите, что он у вас имеется.
" Каким же образом?
" Ну, подискутируйте хотя бы с Ароном Макаровичем на какую-нибудь
отвлеченную тему.
" Извольте, извольте, " живо откликнулся маститый писатель, " я с
превеликим удовольствием-с !
" Да, вы всегда готовы пуститься в демагогические путешествия, "
недовольно сказал Аркадий. " Что ж, как хотите. Я думаю, Арон Макарович, что
вы, иронически рассказывая о некоторых случаях из жизни великих писателей,
несомненно преследовали свои далеко не благородные цели, которые заключаются
в том, чтобы, унизив человеческое естество гениев подобными байками,
подвергнуть сомнению их величайший вклад в отечественную культуру, к которой
вы, мягко говоря, имеете весьма отдаленное отношение. Посудите сами: своими
нескромными рассказами вы вызываете к ним у простых людей амикошонское
отношение, а амикошонство "это тот червь, который истощает здоровую
нравственную основу восприятия столь высоких материй духа.
" Э-э... Позвольте вас перебить, Аркадий. " Куринога встал с кресла, и
его объемистый живот вывалился и завис над полурасстегнутым ремнем. " Вы
литературу воспринимаете только как невинную девушку, увлеченную
романтическими идеалами, а я вижу в ней прежде всего здоровую женщину со
всеми ее недостатками и достоинствами, со всеми желаниями и скрытыми
пороками. И все эти Достоевские, Толстые, Тургеневы и прочие являются ее
детьми и берут от нее все, что она дает им.
" Ну и что вы хотите сказать?
" Я хочу сказать, молодой человек, что вам давно пора перейти из
помещения библиотеки в зал для спортивных занятий и упражнений. Сюда, мне
кажется, вы попали совершенно случайно. Это - не ваше место.
" Вы думаете, что я буду возражать? Ничуть. Я оставляю вас.
Сильный молодой человек в фиолетовом тренировочном костюме резко
повернулся к Лие Кроковне Стоишевой и внимательно и ясно посмотрел ей в
глаза.
" Прощайте!
" До свидания, милый Аркадий. Вы не поняли всей тонкости размышлений
Арона Макаровича и поэтому, в самом деле, отправляйтесь в спортивный зал и
качайте свои мерзкие фигурные мышцы, а я к вам чуть позже приду. Прощайте.
Как только за Аркадием захлопнулась дверь, Куринога резво приблизился к
Стоишевой, склонившейся над формуляром, и поцеловал ее большое красное ухо.
" Какой вы изящный ухажер, " нежно прошептала Лия Кроковна и повела
Арона Макаровича в маленькую комнатку, заставленную книгами,
предназначенными для списания. Куринога молча повиновался.
" То, что рассказали об Антон Павловиче, правда? " спросила Лия
Кроковна, как только они устроились на невысокой, но достаточно широкой
кушетке.
" Придумал-с!
" Какой же вы пошляк, Арон!
" Русская литература все стерпит-с, не так ли?
" Как и этот сильный молодой мальчик.
" А был ли мальчик? " захохотал Арон Макарович Куринога и повалил Лию
Кроковну Стоишеву на кушетку.
" Вы демон, Арон, " простонала Лия Кроковна.
Слезы застилали глаза Аркадию, когда он шел по летней улице, вдыхая
сумеречный запах отцветшей сирени. Он представлял себе белую высокую грудь
Лии Кроковны, которую она ему изредка позволяла пощипывать, вспоминал ее
большие, постоянно краснеющие уши, и думал только об одном: как обрести ум,
чтобы добиться расположения Лии Кроковны. Дойдя до Гоголевского бульвара, он
сел на скамью и закурил. Подул легкий сырой ветер, что-то невнятное
прошуршала листва серых деревьев, и сиреневая горстка пепла упала к нему на
колени.
" Папаша! Закурить не найдется?
Аркадий посмотрел на юное существо в черной курточке из искусственной
кожи, поймал на себе лукавый веселый взгляд кошачьих желтых глаз.
" У тебя что? Желтуха? " спросил он.
" Папаша, в твоем возрасте вредно заниматься медициной.
" Какой я тебе папаша, " возмутился Аркадий, " мне всего-то двадцать
пять.
" Посмотри на себя, старый хер! " и существо протянуло ему маленькое
измызганное зеркальце.
То, что он увидел, его удивило: бесцветные глаза, бледное лицо. Бледное
лицо к тому же было испещрено множеством морщинок.
Аркадий вернул зеркальце с благодарностью и протянул пачку сигарет
нахальному смеющемуся существу с накрашенными желтыми глазами.
" Не знаю, чего ты хочешь, " сказала Черная курточка. " Пойдем!
Они шли по пустынному ярко освещенному бульвару, привлекая внимание
редких прохожих: сильный молодой человек в спортивном фиолетовом костюме,
рядом с которым шла странная фигура, принимающая облик то козлоногого
старикашки, то сиамской кошки, то разбитной накрашенной девицы, - все это
вызывало нездоровое любопытство, удовлетворявшееся самыми разными способами.
" Ваши документы! " возникнув перед ними из ближайших кустов, строго
сказал любопытный краснощекий милиционер.
" Мяу-мяу, " услышал рядом с собой Аркадий. " Мяу...
" У меня документов с собой нет, " ответил Аркадий.
" Тогда пройдемте.
" Куда это? " возмутился Аркадий.
" Я вам покажу, молодой человек. И кошку с собой забирайте.
Аркадий наклонился и взял кошку на руки. Она ласково ткнулась своей
мягкой мордочкой в его широкое плечо и замурлыкала. Волна светлой нежности
пробежала по накачанному телу Аркадия, и он поцеловал кошку в черный кожаный
носик.
" Вы педераст?
" В каком смысле?
" Ну, кошек целуете, и прочее, " пояснил милиционер.
" Позвольте, какая связь между кошками и педерастами?
" Конечно же, не телефонная... Ха-ха-ха, " живо рассмеялся милиционер
собственной шутке и закурил. " Не хотите? " предложил он Аркадию. Аркадий
вежливо отказался.
" Далеко идти еще? " поинтересовался он у милиционера.
" Я и сам не знаю. Я ведь не из столицы. Я здесь проездом.
" Так чего же вы ко мне пристали?
" Мне скучно. А до моего самолета еще двенадцать часов.
" Я вас понял, " продолжил Аркадий. " Все эти часы я проведу с вами,
покажу вам Москву...
" Не надо Москву. Вы покажите себя.
" Я не прочь показать вам свой душевный мир, но для этого необходимо
купить воблу. Я знаю, где она продается.
" Тогда пошли, " согласился милиционер.
" Кстати, как вас зовут?
" Платон...
" Что вы этим хотите сказать
" То, что я любитель всех прекрасных тел.
" Вы слишком умны для милиционера, " произнес Аркадий.
" Только не вам оценивать интеллект наших органов, недовольно ответил
милиционер Платон, " Это моя прерогатива...
" Еще одно такое гадкое слово и я упаду в обморок, " капризно
воскликнула Черная курточка, мигом превратившаяся в себя из кошки, как
только спрыгнула с рук Аркадия.
" Мне никто не может запретить то, что я хочу, ибо я вне службы сейчас.
Поэтому повторяю: это моя прерогатива!
Черная курточка рухнула на влажную, покрытую кирпичной пылью, дорожку
бульвара и стала превращаться в козлоногого старикашку, одетого в ратиновое
пальто.
" Ну что, довели старика, козлы! " сказал он, когда к нему наклонились
Платон и Аркадий.
" А кто вы собственно такой? " в один голос поинтересовались они.
Омар Ограмович встал, отряхнул свое ратиновое пальто, поправил
накрашенную прядь волос и ответил: "Спросите об этом у Скалигера! Вот он и
сам идет."
Они повернулись ко мне навстречу. В их глазах, удивленных и напуганных,
я увидел то, что меня всегда разочаровывало в людях: в их глазах таилась
смерть, безысходность, конечность зажженной свечи жизни, которую неведомо
кто, но потушит рано или поздно. Я живу так, как я хочу, потому что мне
неинтересно жить иначе, потому что любое ограничение собственного
существования является насилием над тем высшим началом, которое и определило
именно твое существование, вбирающее все мыслимое и немыслимое, принимающее
облик видимого и невидимого миров. Если шествие вне времени и пространства
влечет тебя к какому-либо завершению, значит шествие твое ущербно и никогда
ты не сможешь полностью воплотиться в самого себя. Трассирующее сверканье
чужого бытия, рожденного в моем мозгу, в многошарии вселенского
гармонизирующего абсолюта приносит слабое удовлетворение галлюцинирующим
утехам филолога, привыкшего пребывать в молчании и забвении. Я смотрю с
некой высоты на то, что происходит вне меня и вокруг меня, и понимаю, что
каждый миг моей жизни и смерти, слитых воедино, полон беспредельного
страдания и тоски по несуществующей красоте иного, которое чаще всего
смотрит на меня дряблым взглядом похотливой старухи, моющейся в общественной
бане. Холодное прикосновение жестяных шаек, липкие доски топчанов, кислый
вкус редкой мочалки тревожили во мне стальную струну спящей страсти, глухо
дребезжащей в чаду женских голосов. Тело старухи было плотным с совершенно
плоским задом на низких, покрытых буграми узловатых фиолетовых вен, ногах.
Из-под морщинистых подмышек выбивались скрученные косички седых волос, а
там, где , казалось, их быть должно значительно больше, выпирал лысый
розовый лобок с разомкнутой мясистой щелью. Страшное сочетание расцветающей
юности с мертвенной старостью лишили меня дара речи и соображения. Я
спрятался под топчан и ужаснулся обилию черных, рыжих, русых, лысых,
передвигающихся в пару и чаду, дирижаблей любви, обращенных к глазам
малолетнего неофита, в прорезывавшихся небесах которого их шествие отныне
стало бесконечным. В меня проникли их невидимые щупальца, сжали лихорадочно
бьющееся сердце в железное кольцо безысходности, напоили сладким ядом,
который только приближает последние минуты, но не дает насладиться их
исходом, и потом отпустили навсегда, высосав из меня счастье беспечного
созерцания, призвав в ряды алчущих покорителей и завоевателей.
Я выследил эту старуху. Она жила в полуподвале и работала уборщицей. К
ней часто заходил Кондер. Ставил бутылку на стол, снимал одежду и так, сидя
голым за столом, выпивал ее один. Старуха сидела рядом и после каждого
опустошенного стакана снимала то кофту, то юбку, то лифчик, то трусы. Кондер
допивал бутылку, валился под стол, а она поднимала его и укладывала на
постель, пристраиваясь рядом.
" Иди к нам, " сказала старуха, увидев меня.
" А ты кто?
" Я твоя старость.
Я пролез в окно и сел рядом на край жесткой постели. Старуха долго
смотрела на меня, внимательно изучая потухшими глазами мое бледное лицо. Мне
показалось, что это продолжалось целую вечность, обозначение которой
виделось мне в пролетающей птице на фоне бездонного серого неба, в глинистом
срезе разверзнутого оврага, кое-где заросшего вялой истомившейся травой, в
стремительно прогромыхавшем поезде, в светящихся окнах которого темные
силуэты одноголовых существ, подобно медузам, дымными абажурами качались из
стороны в сторону. Если бы я знал, куда и зачем все это устремлено, я был бы
самым несчастным человеком на земле. Но жизнь, которую я ненавидел и
презирал за ее железные звенья событий, намертво связанных между собой,
давно уже выбросила меня из своего русла, и поэтому я свободно пребывал в
своем мире, преисполненном иллюзий и упований на бесконечную целостность
бытия, похожего на колыбель младенца.
Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. Я был на
Кавказе и видел домик, где жил гений, видел дерево на ранней заре, у
которого он писал свои молитвы, и я подумал тогда, что рождаются сущности в
человеческом обличии на планете Земля, у которых вместо сердца жгучий
сияющий сгусток истекающих мелодий, никем не слышимых и никому не нужных,
кроме них самих. Разве ему и ему подобным могла бы так беззастенчиво явиться
старость и позвать к себе? Мерзкая старуха не сводила с меня глаз и тихо
улыбалась, как будто зная наперед, что я лягу с ней в постель, в которой
пьяно ворочался блудливый Кондер, похрапывая и чмокая заблеванным ртом с
остатками грубой пищи, завязшей в железных зубах.
" Не бойся, Юлий, " говорила старуха, раздевая меня.
Где я? Пелена забвения окутала меня и я забыл: молод я или безнадежно
стар. Горячие руки сильной мускулистой старухи ласкали мое тело, по которому
пробегали бугристые судороги пробуждающихся влечений. Старуха взяла мое тело
и положила его между собой и Кондером. Когда она укрыла всех тяжелым зеленым
китайским пледом, я от духоты и смрада потерял сознание, которое голая
старуха нашла и повела за собой. Я чувствовал себя беспомощным птенцом,
брошенным на произвол судьбы. Ко мне подлетала двукрылая падаль и совала в
рот красного извивающегося червя, напоминающего гипертрофированный клитор
гермафродита. Я с отвращением заглатывал его и он, склизко проскакивая
пищевод, копошился в желудке, доставляя мне адскую сладкую боль, прорываясь
дальше в загаженные трубы сизых кишок. Сияющий орган ануса выталкивал его
наружу, где жесткие клешни теплокровного насекомого подхватывали его и вновь
подбрасывали вверх, чтобы летающая падаль ловила его и вновь совала мне в
постоянно открытый рот, который заменил мне лицо.
" Что ты делаешь, старуха? " закричал протрезвевший Кондер.
" Я учу его понимать то, что он презирает.
" Мне это не нравится, " сказал Кондер и быстро вскочил с постели, на
ходу натягивая длинные черные трусы. Старуха оставила в покое мое сознание и
набросилась на Кондера. Свалив его на дощатый крашеный пол, она насиловала
его длинным извивающимся клитором. Кондер беспомощно всхрапывал и рыдал, как
дитя.
" Улыбайся, как Капитолина, " поучала его старуха, энергично двигая
плоским задом.
" Оставь его! Иди ко мне, моя старость! " закричал я.
Старуха с удивлением повернула ко мне свое лицо и я увидел бесконечный
ряд своих непрожитых лет, мятущихся, глупых, неоформленных в события
неразвившейся жизни.
" Иди, иди ко мне, " повторил я, протягивая руки.
Уродливая колеблющаяся субстанция бросилась в мои объятия, и мы
забылись в сладких неповторимых грезах взаимного понимания собственной
обреченности.
" Что же ты, Анела? Как ты могла так поступить со мной?
" Юлий, мой милый мальчик, ты вызвал меня и забыл. Я решила
вернуть тебя через ужас, через кошмар видимого.
" Ты так и останешься такой старой и гадкой?
" Еще немного твоей любви и я вновь стану прежней девочкой с
шоколадными волосами. Вернемся в наш океан, который избавит нас от
наваждений громоздящихся реалий мира.
" Я не понимаю тебя.
" Не надо понимать. Попробуй почувствовать.
Мы вернулись в океан наших ощущений и плыли на желтом матраце к
неведомым берегам будущего, где стояла снежная синяя деревянная горка,
покрытая серебряным льдом, по которому мы с Анелой съезжали, лежа друг на
друге, под свист румяных молодых друзей и счастливых подруг. Врезавшись в
мягкую сугробную пыль, мы сладко целовались до синяков на пухлых губах.
Потом вставали, отряхивая друг друга, и шли ко мне домой, и пили алый чай с
толстыми поджаренными пирожками с вареньем, и улыбались друг другу. Мама
смотрела на нас, подсаживалась рядом, говорила какие-то ласковые слова, от
которых кружилась голова и на глаза набегали слезы.
" Какие вы хорошие!
Кто и по какому праву лишил меня счастья, исчезнувшего в прошлом и
оказавшегося в неосуществимом будущем? Мой больной мозг, как большой паук,
свивающий ткань смерти из ложных мудрствований, шагающей в бездну
цивилизации, надорвался и стал извергать из себя монструальные потоки
фантомных всполохов кинжальных идей, разорвавших радужную прелесть
неведения.
Три моих тела разрывали мой дух на части: одно билось в розовых
конвульсиях рядом с алчной и страстной старухой, другое предавалось
безмятежному блаженству на крыше сарая, а третье убегало поспешно от
умирающего учителя Омар Ограмовича. Я " безликий и созерцающий " тщетно
пытался объединить их в одно, которому и была предоставлена счастливая
возможность беспрепятственно блуждать во времени и пространстве.
Берлинский воздух был пропитан запахом сочных лаковых сосисок и
янтарного пива. Вежливые улыбающиеся немцы уступали нам дорогу, и мы с
Гретой чувствовали себя важными персонами в отечестве Гете и Бетховена.
Сентябрьское утреннее солнце мягко золотило улицу, по сторонам которой
зазывно располагались многочисленные уютные кафе.
" Юлий, давай выпьем по чашке кофе, " предложила Грета.
Я молча кивнул, и мы сели за один из столиков, весело поглядывая на
проходящих мимо людей, дожидаясь официанта. К нам подошел Ликанац.
" Две чашки кофе и сигарет, " заказала Грета.
Я не мог не узнать Ликанаца в стройном, одетом во все белое, белозубом
негре. Его выдал алый обрубок языка, который неловко вывалился за большие
сиськообразные губы и тут же был затолкан обратно в белозубый рот.
" Не правда ли, наш официант очень симпатичный молодой человек? "
спросила меня Грета.
" Чем же он понравился тебе?
" У него очень печальный взгляд. Он, видимо, много страдал.
Восхитительная Грета влюблялась во всех мужчин без исключения: в
красавцев, в уродов, в черных и белых, желтых и коричневых. Она была
настоящей женщиной, непрестанно ищущей приключений, которые, по ее мнению,
прежде всего исходили от противоположного пола. "Женщины очень скучны, "
говорила она мне, тесно прижимаясь тощим бедром на заднем сиденье шустрого
фольксвагена, мчащегося из Берлина к месту моего будущего выступления перед
студентами. " У меня нет и не было подруг среди них, потому что большинство
их желает только одного: свить гнездо, выйти замуж и благополучно ждать
старости, которая вытянет их груди, покроет морщинами кожу и выдернет из
лобка последние волоски. Ах, Юлий, если бы ты знал, как я умею любить!". Она
поворачивала ко мне свое изможденное юное лицо и страстно целовала в щеку.
При этом шофер Карл зябко поеживался, как будто ему за шиворот кто-то
засовывал скользкую холодную змейку.
" Оставь меня в покое, Грета. Я говорил уже тебе, что у меня в Германии
чисто литературные интересы и немки, даже такие темпераментные, меня не
интересуют.
Она обиженно надувала свои малиновые полные губки с сетью белобрысых
еле заметных волосиков и умолкала. Сейчас же ее темные глаза вспыхивали
искорками, как только к столу подходил Ликанац в обличье негра, и она сладко
облизывалась, глядя на его непомерно вздутые мускулистые ягодицы.
" Нет, он определенно хорош
Я отпил глоток кофе и затянулся сигаретой. Германский мир мне уже
порядком надоел своей размеренной экстравагантностью: много порядка, много
пива, мало романтики, мало мистики. Численная последовательность
существования была заметна во всем, и я был даже рад, когда в один из
поздних вечеров в мой номер в гостинице случайно забрел хмельной
соотечественник, развалился в кресле, выставил бутылки на журнальный столик
и предложил отметить свой день рождения.
" Меня зовут Карл Вениаминович Стоишев. Я " по профессии бухгалтер.
" Так вы же умерли от белой горячки!
" И что же? Умер в России, воскрес в Германии, " невозмутимо ответил
мой гость.
" И что же вы здесь делаете?
" Жду своего телесного истечения здесь на германской земле, чтобы потом
воскреснуть где-нибудь в иной точке земного шара. Я, знаете ли, оптимист и
верю в то, что когда-нибудь вновь вернусь в Россию, к своей любимой жене Лие
Кроковне. Мне известно, что она увлеклась маститым писателем Куриногой, но
это меня мало волнует, ибо он не знает бухгалтерского учета эзотерических
реалий бытия и скоро должен исчезнуть безвозвратно в глубинах времени. Я
ведь дистанцировал себя на всякий случай в облике вашего шофера Карла, и
если я по незнанию своему перейду определенную черту, то именно он примет
мою эстафетную палочку неистребимости.
" Я мало что понимаю в ваших словах, Карл Вениаминович, по-моему, вы
говорите совершенно абсурдные вещи, потому что сам являюсь странником своего
блуждающего больного мозга и твердо уверен в том, что никому еще не
удавалось вернуться туда, откуда был начат путь истекающей жизни.
" Вы, милый мой, филолог, а я, в своем роде, математик и у нас с вами
разные точки отсчета. Я начинаю свой путь с единицы, с числа, а вы "со
слова, с буквы. Вы строите фразу, периоды, а я " конструкцию, которая, если
и разрушится, то именно до изначальной единицы. Вам это понятно?
" В какой-то мере. Хотя и хотел бы вам возразить тем, что слова есть
числа жизни, а числа " есть слова смерти. Поэтому мы, в какой-то мере, две
стороны одной медали, болтающейся на груди вселенной.
" Мне знаком ваш трактат, Юлий. Алексей Федорович искал в слове
спасения от абстракций и ввел его в мир абстракций, то есть, вышибал клин
клином, и вы поступаете так же, то есть вы не оригинальны. Космическая
бездна нема, но она наполнена прежде всего числами, или, если иначе
выразиться, " немотствующим языком отсутствующих. Слово убивает, число
рождает сущности, которыми мы и являемся. Вы тоскуете по своим умершим
родителям, хотя и не понимаете, что тоскуете по числам, которыми они были
обозначены. Предаваясь эйфории слов, вы пытаетесь вернуть в лоно своих
понятий их эзотерику и причиняете им страшную боль. Словом нельзя
сконденсировать жизнь и смерть, а числу все подвластно.
" Да, возможно, в ваших размышлениях есть много бесспорного, но я не
хотел бы следовать за вами, ибо ваш путь уныл и сер.
" Да, быть бухгалтером бытия скучновато, но зато спокойно и выгодно.
Ваши фантасмагории рано или поздно истощатся, и вы придете к единице, о
которой я вам сказал в начале нашей беседы. Вы пойдете с ней, как с посохом,
по пустынной равнине космоса и будете молчать, потому что никого там нет,
кто бы смог на слово ответить словом. Вы еще вспомните меня. Прощайте.
Карл Вениаминович приподнялся с кресла, хохотнул и исчез.
" Нет, он определенно очень хорош, " продолжала утверждать Грета,
смачно поглядывая на негра. " Я хочу отдаться ему.
" Ах, Грета, делай, что хочешь, но помни, что через полчаса нас ждут в
библиотеке.
" Я успею, Юлий.
Она встала и вихляющей походкой направилась в павильон кафе. Я нащупал
в кармане несколько марок, достал их и положил на стол, придавив пустой
чашечкой из-под кофе. Я видел, как за стеклом павильона агрессивная Грета
срывала белоснежную рубашку с Ликанаца, который умоляющими глазами смотрел
на меня и беззвучно просил о помощи. Грета повисла на нем, обхватив тощими
длинными ногами его поясницу. Ликанац истерично задергался, черный штырь
выскочил из-под бледных ягодиц Греты и исторг плотный фонтан студенистой
спермы на появившегося внезапно Платона в милицейской форме.
Платон достал из кармана брюк большой серый платок и стал нервно
обтирать загаженный китель.
" Я вас привлеку к ответственности! " закричал он.
Грета ловко соскочила с Ликанаца и пустилась наутек.
" Остановись, распутница!
Но, не обращая никакого внимания на слова Платона, Грета лишь еще выше
задрала юбку и бежала в неизвестном направлении по германской земле, вихляя
бледными тощими ягодицами. Негр с расстегнутой ширинкой и высовывающимся из
нее, качающимся из стороны в сторону от напряжения, черным штырем стоял
перед Платоном смущенно и дерзко.
" А вы знаете, " обратился к нему Платон, " что будет говорить княгиня
Марья Алексевна?
" Этого не знает никто, даже сам Фамусов, " буркнул Ликанац.
Я не мог не вмешаться в эту, обещающую быть интересной, беседу. Встав
из-за столика и подойдя к павильону, я присоединился к двум сократистам.
" В литературе поставлено много интересных вопросов, на которые, может
быть, и не следует искать какого-либо ответа. Она тем и отличается от жизни,
что в ней зависающие вопросы могут себе позволить остаться без логически
завершенных ответов. Не поэтому ли истинная литература бессмертна и вбирает
в себя все существо жизни, которая только и движется от "А" до "Я"? Нам надо
учитывать это и, пребывая в бытии, существовать, не утверждая, не обращаться
к колючей проволоке категорических императивов, и тогда у нас всех не будет
никаких проблем. Не правда ли, Платон?
- Может быть, и так, конечно. Но цель, обозначенная в ответах,
следовательно, самоликвидируется, и к чему тогда стремиться должен человек?
Литература - ширма бытия, декорация жизни. А сколь долго можно простоять
средь декораций вне реальной жизни? Жизнь, к сожалению, не игра, а
литература - игра, или то же "горе от ума", то есть болезнь и,
следовательно, привлекать и прививать эту бациллу в организм жизни, значит
подтачивать ее гармонические основы. Вы хотите, Скалигер, чтобы эстетические
законы словесного искусства стали законами онтологического бытия? Вы, таким
образом, хотите вольно или невольно, уничтожить жизнь? - Платон сурово
поглядел на меня и громко высморкался в свой серый большой платок.
- Платон, вы не правы, - вмешался в беседу Ликанац. Его черный штырь
стоял торчком и качался из стороны в сторону. - Скалигер говорит о другом.
Если бы Грибоедов продолжил свою пьесу далее и мы бы знали, что скажет
княгиня Марья Алексевна, то пьеса стала бы не гениальным явлением русской
словесности, а обыкновенным демагогическим фактом российского бытия. А эти
факты, я думаю, вам это известно, всегда были и будут нелепы, кровавы и
грустны. Скучно на свете, господа. Чтобы пребывать в блаженстве, не надо
искать ответов, как это делают и делали немногие гении в литературе, пусть
их ищет сама жизнь. И ведь она их безусловно находит и разрешается порой
такими лейбницевскими монадами, что нам, органическим субстанциям,
приходится покидать ее русло.
- Вы не убедили меня, - сказал Платон и подошел еще ближе к Ликанацу и
стал внимательно рассматривать его черный штырь. - Да, совершение полового
акта в общественном месте наказуемо. Но, возвращаясь к нашей теме, я хочу
сказать вам, Ликанац, что незавершение любых процессов и оставление их на
произвол судьбы приводит к печальным реалиям. Если бы княгиня Марья
Алексевна сказала свое слово в пьесе, то Чацкий, пожалуй бы и образумился,
не умчался бы в свой "уголок", не баламутил бы общественность, не приобрел
бы сомнительных последователей и российская жизнь естественным образом вышла
из той критической ситуации, в которой оказалась. А так, элемент игры был
внесен совершенно безответственно в жизнь, он стал приоритетен и взорвал ее
платоническую сферу.
В словах Платона была своя правда, которая давила меня, как могильная
плита придавливает робкие свежие ростки травы. Патология гениев ломала и
будет ломать устои органической правильной жизни, взрывать своими
волюнтаристскими вдохновенными устремлениями ее болото всеядности и покоя, и
потому был вполне справедлив Платон, когда изгнал из своего "Государства"
поэтов. Но он был справедлив по отношению к большинству. А разве большинство
формирует идеалы, разве оно, пребывая в повседневной борьбе за
существование, является тем источником света, к которому устремлены наши
ночные мысли? Кровососущий нарост большинства изгадил землю и небо, и дать
ему полную волю - он превратит и космос в забегаловку с лиловыми
гамбургерами. Корытная психология влечет большинство только к потреблению,
потому что давно получен ответ на вопрос об отношении человека к жизни,
брошенный в мозговую хлябь большинства, отрешенным от мира меньшинством.
Большинство строит магистрали, огораживает пространства, отхватывает от
своего огромного тела кровавые куски, чтобы ими же накормить другую свою
часть, и не может остановиться в этом безумном коловращении, потому что оно,
проглотив, как удав, массу невзращенных индивидуумов, не может их
переварить, ибо они изначально независимы друг от друга. Летающее облако
саранчи покрыло земные пределы и слилось в единый ужас, многолицый,
многоротый, пожирающий все и вся. Ницше и Мальтус восстали против этого
ужаса и были сломлены и изнасилованы свиньей человечества. Достоевский
забился в православной истерии, а Толстой бежал из века, сойдя с ума от
своих роевых поллюций, бежал - как из коммуналки может бежать
перекрасившийся граф, чтобы не сожрали вконец остатки иллюзий и грез по
высшей гармонии.
Большинство нужно лишить слова, ибо оно прерогатива меньшинства.
Как только я подумал об этом, Платон смачно улыбнулся и бросился ко мне
на грудь. Но вместо меня его принял в объятия Омар Ограмович.
- Вы неисправимый козел, Платон.
- Возможно. Но хочу уточнить: я горный козел, знающий, от кого и куда
бежать.
Ликанац, не обращая на них внимания, подошел ко мне и шепнул в ухо:
"Прошу вас, Скалигер, избавьте меня от него", - и глазами указал на
качающийся черный штырь. Я снял с левой руки лайковую перчатку и обхватил
алой газообразной ладонью напряженно пульсирующую плоть.
- Что вы делаете, - в ужасе воскликнул Платон. - За причинение тяжелых
телесных повреждений последует наказание!
- У вас имеются принципы? -- весело спросил Платона облегченно
вздохнувший Ликанац, отшвырнув в сторону ногой скукоженную черную трубку.
- Тем и живу!
- В таком случае вы не козел, а баран. Не правда ли, Омар Ограмович?
Старик зло хихикнул и предложил всем присесть, раскинув черную бурку на
асфальте. Ликанац быстро сбегал в павильон за шашлыками, и мы все вместе
продолжили нашу беседу.
- Когда мы все прекратим свое существование в том или ином виде,
дорогие мои друзья, - обратился Омар Ограмович к нам, - когда нашими
спутниками и собеседниками будут только те, кто присутствует сейчас в нашем
тесном кругу, мы поймем, что ничего и никогда, кроме нас, не существовало,
что все, явленное нам, есть миф, что мы представляли других через себя, что
мы продуцировали из своего мозга мир и космос, жизнь и человечество. Каждый,
пребывающий в мире, одинок. Фантомы окружают его и в зависимости от того,
что каждый из себя представляет, то и получит от пространства и времени. Мы
еще не владеем тем спектром понятий, тем лексиконом, которым говорит с нами
вселенная. Наши слова - это не слова, это жесты глухонемых детей. Мы
находимся еще в костном составе отягощающей материи, которая диктует нам
свою модель поведения. Наши слова, как воздушные шарики, прикреплены к ее
мертвой костлявой руке. И она нас не отпустит до тех пор, пока не впадем в
безумие, через которое выйдем к новым горизонтам бытия. Это попытался
сделать Алексей Федорович, через микроскоп диалектики разглядывая слово. Но
можно ли оперировать мозг, осуществляющий вербальную эманацию таким
заржавевшим скальпелем ортодоксального научного познания? Он, как и все
мыслители до него, потерпел поражение, увязнув в материальных дефинициях. Он
испугался прыгнуть в бездну свободных мистических измышлений, хотя должен
был это сделать, поскольку неведомая сила хранила его телесную оболочку
предельно долго, питая его ищущий мозг амброзией высших абстракций. В
трагическом ужасе воскликнул поэт: "Не дай мне бог сойти с ума!". А надо бы
было просить об обратном. Но каждому свое, каждый беседует и просит только
себя. Земная доктрина органического наступления выражается так: "путь к
богу", "путь к дьяволу". А вы, друзья мои, стремитесь к своему безумию,
потому что только оно даст освобождение из капкана материи.
Старик встал с бурки. Протянул руки в направлении заходящего солнца и
сказал:
- Кант! Ты слышишь меня? Ты видишь меня?
Слезы полились из моих глаз. Я увидел себя в несущемся темном облаке
саранчи, в огромном теле большинства, отхватывающем от себя кровавые куски и
впихивающем их же мне в рот. Слова мои, как бурдюки, были наполнены калом,
сизыми кишками, грязной перемолотой почвой, в которой копошились в адских
муках мои органические братья.
- Жалкий старик! - воскликнул Платон. - Зачем ты вызываешь этого
склеротика, когда я с тобой?
Омар Ограмович недовольно взглянул на румянощекого милиционера, но все
же умолк и стал жевать беззубыми фиолетовыми деснами красный шашлык.
- Я, - продолжал Платон, - человек гигантских познаний, но доверчивый и
простодушный, как дитя. И я хочу понять раз и навсегда, что происходит с
человечеством, когда умирают боги, которым оно поклонялось? Вот ты, жалкий
старик, - обратился вновь Платон к Омар Ограмовичу, - упомянул всуе Канта,
который, кстати говоря, прежде всего боялся жизни - этой самой великой
абстракции в мире ноуменов и который, видимо, поэтому умер девственником,
потому что лоно жизни отвергло его и он растекся своей мозговой жижей на
тысячах страниц мертвого безликого текста. Кант - это крокодил на солнцепеке
чистого сознания, чутко ожидающей жертвы странствующего мозга, кровососущими
сосудами связанного с миром феноменов. Он сожрал чувственную мозговую
опухоль человечества и вместо нее поместил в его черепной коробке грифельную
доску логического абсурда, на которой пишут все, кому не лень, что хотят и
как хотят. Он - первый, кто деятельно начал рыть могилу чувству и последний,
кто знал ему истинную цену.
- Что ты, в конце концов, хочешь сказать? - нетерпеливо воскликнул
Ликанац.
- Я хочу сказать следующее: надо активно заполнять пустоты,
образующиеся в результате естественного физиологического конца, в мире
мысли. Нельзя ждать нового Бога, его надо создавать и срочным порядком
этапировать в сознание человечества.
- Кого же ты предлагаешь избрать Богом? - спросил старик.
Платон молча повернулся ко мне и пал на колени. Я, сложив ладони
крестом, положил их на стриженый затылок милиционера.
Если я Бог, то что я должен сказать человечеству, забредшему в своих
иллюзиях в тупик, из которого выход многими конфессиями определен однозначно
и безусловно альтернативен? Я никого и никуда не хочу звать, я никого не
хочу спасать от самого себя, потому что только в великом своеволии
проявления собственной натуры и может явиться общее благо, состоящее из
индивидуальных попыток определить себя тем или иным образом в струящемся
мире без начала и конца. Я - больной филолог, и вот фантазией своею вмиг
ставший Богом, которым избрали меня мои же фантомы, кричащие мертвыми
голосами из подсознания, в котором заложено все, что когда-либо знало и
будет знать человечество. Чем же я не истинный Бог? Будда, Христос, Магомет
- не они ли дали право каждому надеяться на свою сопричастность миру, и не
она ли возбуждает тщеславие, которым каждый из нас обезображен? Придет миг,
за которым не будет мига, придет слово, за которым не будет слова, наступит
молчание, за которым не будет молчания и будет падать белый кристаллический
снег с небес и будут кричащей обезумевшей толпой брести народы по горной
тропе и везти меня на металлической телеге в золотых одеждах и просить меня
об остановлении этого снега, который язвит их лица, как льющаяся кислота. Но
я не смогу помочь им, и жизнь моя остановится, и смерть моя не придет ко
мне. Те, кто выбирают Бога, те и убить его должны. С какой стороны света
начнется затмение, и есть ли сторона света у затмения всеохватного и
всеобъемлющего, как пустота, что поселилась в наших сердцах? Я не знаю.
Стоматологический кабинет бессмертия примет всех, у кого обнажены нервы. Там
поставят пластмассовые колодки на бледно-розовые десны и сунут в рот жвачку
бытия, от которой лишь одна оскомина и тошнотворная горечь. Две самых
светлых стороны человеческого существования - старость и младенчество -
беззубы. Они сосут струящийся мир, и он их любит дарением смерти и жизни.
- Ужасная жизнь! Ужасный город! Припомним день: я видел несколько
литераторов, из которых один спросил меня, можно ли приехать в Россию сухим
путем (он несомненно считал Россию за остров).
Бедный Бодлер с букетом цветов зла в худенькой белой ладони, и он так
же, как неистовый Дали, преследуемый яичницей и увидевший во сне русскую
девочку, которая, многие годы спустя, станет его музой и женой, - они,
собираясь в своих богемных оазисах, и не представляли, что служат своей
паранойей России-острову, плывущей в никуда. То она свободно отправляется в
Германию, то во Францию, то в заповедную и загадочную Австралию, неся на
себе монстров моих переживаний и грез. Исчезни, исчезни в пространство! Но
она не исчезает, она обрастает чешуей загадочных метаморфоз истории,
мистики, и футурологические кровотоки ее полнятся гноем и амброзией сомнений
и наслаждений, живущих на этом острове. Может быть, именно на нем коротал
свое одиночество великий Робинзон? Может быть, по нему взахлеб и в даль
мчался полоумный Гоголь? Может быть, над этим островом пролетел черным
ангелом Блок и сгорел, не выдержав его адского пепелища? Я устал быть на
этом острове человеком. Я хочу быть на нем никем, блуждающим и никому не
нужным отростком материи, которая меняет свои формы в зависимости от внешней
среды! Я - вобла, я - клитор старухи, я -черный штырь Ликанаца, я - Бог! В
чем мое истинное существо, в чем заключено мое истинное назначение? Кто
ответит мне?
- Не валяй дурака, мой друг, - услышал я ласковый увещевательный голос.
Я оглянулся и увидел веселого в васильковой рубашке писателя девятнадцатого
века Арона Макаровича Куриногу.
- Да вы-то как оказались в дебрях моих размышлений ? - нервно спросил
Скалигер.
- Ваши размышления страдают незавершенностью и некой маргинальностью,
от которой следует избавиться следующим образом, - он демонстративно
постучал себя по круглой голове полусъеденной воблой.
Я рассмеялся.
- Неужели вы думаете, что ваша голова подобна лампе Аладдина,
постучишь, потрешь ли ее - все сразу свершается ?
- Напрасно-с, изволите смеяться и не верить. Вы сейчас вот
почувствовали, как из вашего мозга исчезают элементы агрессии и
недовольства?
Да, признаться, я почувствовал некое облегчение. В моей голове будто
расцвел нежный цветок, радующийся синему небу, зеленой траве, золотому
дождю.
- Что вы со мной делаете, Куринога? - обратился я ласково к писателю.
- О, это большая тайна, но я вам ее раскрою, потому что не будь ваших
болезненных и агрессивных грез, не было бы вообще никого, а я так мечтаю еще
раз встретиться с мадам Стоишевой! Вы просто не представляете, какого
темперамента и ума эта женщина. Итак, все очень просто: девятнадцатый век в
русской культуре и литературе сосредоточил в себе самое гармоничное и
цельное, и это вам известно не хуже, чем мне. Я, являясь вашим
продуцированным взглядом на русского писателя и взглядом единственным, хотя
ваши метания в поисках собственных точек отсчета были довольно-таки
продолжительными, сосредоточил в себе, или в головном мозгу-с, нечто вроде
камертона, устраняющего всякие сложности и сомнения. Стучу воблой по
собственной голове, и все в норме, и все спокойно. А воблой надо
непременно-с стучать, ибо эта рыба - рыба глубоко русская, почвенная.
- Вы могучий дурак, Куринога!
- Что ж, обозвали, тем и запечатлели. А я очень хочу запечатлеться в
вашем сознании. Вы ведь уже многих подзабыли. И они умерли в книге грез
ваших и сомнамбул. А я хочу жить, хочу жить! - уже истерично возопил Арон
Макарович и порвал на груди васильковую рубаху.
-Успокойтесь, Куринога, я вас никогда не забуду. Никогда!
Арон Макарович кинулся мне на грудь и поцеловал взасос своими толстыми
губами, пахнущими пивом и воблой.
- Пойдемте со мной, Скалигер!
- Куда же это?
- Видите, вон вдалеке деревянная таблица. А на ней надпись:
Россия-остров! Вот туда мы и двинемся вместе с вами. Да еще бы, было бы
лестно-с для меня, если бы вы и Лию Кроковну прихватили.
Арон Макарович меня заинтересовал. Мои размышления о "России-острове",
как нельзя лучше, сейчас совпадали с некой иллюзорной реальностью, которую
мне явил мой же фантом.
- Хорошо, Куринога! Бог с вами! Пусть с нами путешествует и Стоишева.
Несдержанный Куринога возопил и омочил землю струей. На омоченном
месте, словно деревце, произросла Лия Кроковна Стоишева, забытая мной
библиотекарша, изучавшая Куриногу по учебникам.
- Но я одна не согласна, - засопротивлялась Стоишева, как только смогла
произнести нечто членораздельное. - Мне нужен мой поклонник Аркадий -
молодой сильный человек в фиолетовом костюме.
- А был ли мальчик? - трагически вскричал Куринога.
- Был! - ответил я, и Аркадий явился на свет божий со своими фигурными
великолепными мышцами. Он сразу же подскочил к Лие Кроковне и ущипнул ее за
высокую крепкую грудь.
- Какое счастье, мы едем в Холмогоры!
- Что за Холмогоры ? - переспросил Куринога.
- Вы этого знать не можете, - вызывающе выкрикнул Аркадий.
- Господа фантомы! Я пригласил вас с тем, чтобы объявить вам
пренеприятное известие: к нам присоединяется Ликанац, Омар Ограмович, Платон
и ряд других попутно появляющихся образов в моем бессмертном мозгу. Итак,
вперед, в Россию-остров !
С этими моими напутственными словами шумная группа двинулась вперед к
идее, которая всячески избегалась великими умами.
Сиял майский день. Пели птицы и кричали стаи ворон. Дул свежий зеленый
ветер и грязь, вперемешку с вялой зеленой травой, оставалась на наших ногах.
Идея влекла своей бессовестной авантюристичностью, своим философским
проколом, который допускали русские философы, то размышляя о космизме, то об
истине в вине, то о женщине, падшей во грехе в объятия этого философа. Идея
"России-острова" была совершенно замкнутой, похожей на ядерную субстанцию,
разрыв которой влечет за собой убийственную реакцию мысли и чувства. Все,
кто шел со мной к ней, не страшились ее возможно разворачивающейся бездны,
потому что она их не могла заглотнуть, в ней мог погибнуть только я, ибо был
выбран ими, не знающими начала жизни, не знающими конца жизни, а знающими
только процесс неустранения и вечного возврата на исходную точку. Я боялся,
что Россия-остров тоже может стать фантомом, пригодным для созерцания самих
же фантомов, и ни один реально существующий человек не сможет объединить
свои взгляды с моими, а должен будет лишь слепо подчиняться больному мозгу
филолога, потерявшему себя на пути познания. Слово впитало меня, как губка
впитывает каплю, и ни следа не осталось, только блуждающие веяния, которыми
полон атмосферный слой каждого поселения. Я пытался ухватиться хотя бы за
одно: Россия-мать, Россия-тройка, О Русь моя, жена моя... Нет, все не то.
Только действенно и сильно со всех точек зрения философии, логики, мистики,
культуры это - Россия-остров. Мы должны изолироваться, мы должны кануть, как
Атлантида, и оставить за собой разбегающиеся волны иллюзий, которые должны
будут долго еще волновать хотя бы одно человеческое существо с головным
мозгом. Спинномозговые поселения захватили начала жизни и повели ее к концу,
и только те, кто достигнет России-острова, останется вне их власти, вне их
сомнительной эрудированности, останется со своим животом сомнений и
неподражаемых вопросов миру и свету:
- А докатится ли колесо до Казани?
- А что, если звезда на рожу капнет?
Кто ответит на этот бред? Конечно, только тот, кто верит в этот бред. А
много ли осталось земных угодий, не затронутых бредовыми идеями? Была одна -
великая - да и та закончилась комическим фарсом. И не нашлось силы и мощи ни
у кого из ее адептов восстановить ее и прославить именно как бредовую. Все
поглощает рационализм, копеечность души и мысли, не свойственная русскому
человеку, индивидууму совершенно особенному, что видно из всего: из уклада
жизни, из словообразований, из любви одновременно к простому и сложному в
мире. Нет в мире раздельного, нет мира, разложенного на полочки, есть мир
цельный, вялотекущий процесс образования и разрушения материи, похожий на
вялотекущий процесс шизофрении. Не надо ее останавливать, дайте ей развиться
и она покажет себя во всей первобытной мощи. Ведь только шизофреники двигают
миром, а стадо рационально-мыслящих слепо им повинуется.
- Не правда ли, Платон?
- О чем это вы?
- О пустяках, Платон!
- Пустяками мы сможем заняться несколько позже. А пока я вам расскажу,
как у меня украли шинель.
Все шедшие со мной живо заинтересовались предполагаемым рассказом.
Платон продолжал: "Я, можно сказать, человек военный, ответственный, а живу,
знаете ли, в коммуналке с соседом Гришкой Ручинским. Ох, и бестия, скажу
вам. Получил я новое обмундирование: сапоги, фуражку, шинель. Пошел в
магазин, купил, значит, для обмывания бутылку. Ну и внедрили мы с Ручинским
по первое число. И, знаете ли, душа возлетела. Ручинский мне и говорит:
давай пригласим для комфорта и ласки Капитолину. Ну вы-то ее знаете. Что ж,
дал согласие. Прерогативу, так сказать. Приходит Капитолина в вязаных чулках
и Анфису Стригалову приводит, то есть мать свою. Начали мы думать, кто же с
кем дело делать будет. Ну и порешили: чтоб никому не в обиду, заняться
совместным прелюбодеянием.
Я, как видите, мужчина выносливый, не в пример Ручинскому, который с
первого же раза отвалился от Анфисы и далее только созерцал, как я с
Капитолиной произвожу рекогносцировку. "Делайте, делайте, - кричал, как
блеял, - а я вас гладить буду". Ну, я, конечно, увлекся. Дело привычное и
ответственное. Только закончил разные маршировки производить, ан глядь,
Ручинского-то и нет. И шинели моей новой, пахнущей кремлевским морозом, тоже
нет. Зарыдал я, как дитя. А Капитолина, бедная девушка, говорит мне:
"Платоша, успокойся. Мы эту твою шинель вернем". Взяла меня за руки, подняла
меня с постели, попутно дав пинка мамаше, которая не уследила за действиями
Ручинского, и повела темными дорогами в его жилище. Привела к еле горящему
окошку и говорит: "Смотри!". Взглянул я и обомлел. Гришка Ручинский в моей
шинели ходит в пустой комнате, честь отдает неведомо кому, раскланивается и
веселый такой, что я веселей и не видел никого. "Ручинский, шкура, шинель
возвращай, а не то убью!". Он, как услышал мои угрозы, так весь затрясся от
плача, упал на пол и шинелью с головой накрылся. Мы с Капитолиной в
окошко-то залезли и ну бить чем попало по голому заду Ручинского. Сорвал я с
него шинель и надел ее, так вот до сих пор в ней безвылазно и хожу. Только
чувствую порой, что пованивает Ручинским, как гнилыми носками его и
пакостным чернозубым ртом, но поделать ничего не могу. Шинель не снимаю, а
то стащат.
- И что ты хотел сказать этим, Платон ? - спросил я.
- Скалигер, ваши размышления столь же бессмысленны и нелепы, как и мое
повествование о пропавшей и найденной шинели.
- И это все?
- А разве мало?
- Жаль, что я не могу облить твою шинель спермой, - грубо вставил свою
фразу Ликанац. - А то бы ты научился говорить с тем, кто принял тебя под
свою защиту.
- Ну-ну, нам еще не хватало в компании Онана. Успокойтесь.
- Отойди, Платон, а то все равно брызну, - угрожающе продолжал Ликанац.
Платон резво отскочил от меня и Ликанаца. Шинель на нем приятно
голубела, посверкивая большими золотыми пуговицами. Мечта Акакия Акакиевича
забралась мне в голову и вызвала целую аллюзивную цепь представлений, из
которых состояла моя внешняя жизнь, крайне истощенная ночными бдениями над
анализом трудов выдающегося критика, который элементарной мечте заштатного
чиновника придал мистический смысл. Ну, хотел чиновник Башмачкин приодеться,
ну, копил денег, а шинель стащили, да и, надо сказать, не при самых
пристойных обстоятельствах. Маленький человек, да бросьте. Маленький человек
таит в душе самые великие подлости, какие только встречаются. Вот я бабке на
вокзале подал пятьдесят рублей монетой, а она взглянула на нее, да и плюнула
мне вослед. Жизнь бедного и маленького похожа на голодную вшивую собаку, -
не накормишь до отвала, не отстанет и не уснет, а то еще укусит от
недовольства.
- Вы совершенно верно рассуждаете, Скалигер! - поддержал меня Куринога.
- В ваших пессимистических взглядах на маленького человека есть нечто новое,
но, правда, чем-то Ницше напоминает.
- Это напоминает тебе, Куринога, что был некий Фридрих, сведший с ума
всю Европу. А мне ничего он не напоминает, и никто мне не напоминает моих
умозаключений. Скажи лучше, далеко ли до России-острова?
- Так мы уже на нем и находимся.
- А я-то думаю, откуда мысли такие: о нищете, об альтруизме, о совести!
- И о бабах! - громко подсказал Платон, щупая крупный зад Лии Кроковны
Стоишевой, сидевшей на бревне и читавшей "Илиаду" Гнедича.
- Он меня так возбуждает. Так медленно начинает и так долго не может
кончить, - говорила она Арону Макаровичу Куриноге.
- Милочка, - отвечал ей Арон Макарович Куринога, - я так вас понимаю,
так сочувствую вашей большой нежной душе, что готов сам написать нечто
подобное, но, к сожалению, не тот менталитет. Я могу изложить лишь социально
бедственное положение определенного слоя населения, сделать выводы
относительно того, как выйти из создавшейся трудной ситуации, призвать,
возможно, к революционному переустройству действительности, стать, наконец,
знаменем революционно-освободительного движения, но написать
эпически-спокойное полотно российской действительности не могу.
Арон Макарович горько заплакал и, достав из мятых вельветовых штанов
крупный в клетку платок, долго сморкался и что-то причитал.
- Не отчаивайтесь. Мы ведь вступили на такую чудесную территорию, что,
возможно, именно здесь найдем избавление от наших комплексов, - вмешался в
разговор неунывающий Платон. - Наш путь неблизок, ибо всякая идея, реальная
или кажущаяся, достаточно протяженна в пространстве и необъятна во времени,
а мы с вами дети галлюцинирующего мозга нашего благодетеля, лишенные
материальности, можем бесконечно преобразовываться, пробовать себя в
разнообразных проявлениях жизни и смерти и поэтому, к нашей радости, мы
любую мечту можем сделать былью.
Ликанац нервно взглянул на восторженного Платона. Подошел к нему и
плюнул в его крупную красную физиономию.
- Я вас не понял! - воскликнул Платон и наглухо застегнул шинель,
посверкивавшую золотыми пуговицами. - К барьеру! - зычно призвал он
оскорбившего его Ликанаца.
- Извольте!
- Друзья, не надо ссориться. Мы должны держаться вместе, -захлопотал
Арон Макарович.
- Не суйтесь не в свое дело, - посоветовал ему Ликанац и отошел от
Платона на некоторое расстояние, положив перед собой какую-то полусгнившую
корягу.
- Плюемся до первого попадания! - сказал Платон и громко харкнул в
сторону Ликанаца. Плевок пролетел мимо виска Ликанаца.
Ликанац, похожий на бесстрашного фаталиста Печорина, стоял и надменно
посматривал на Платона, который был чрезвычайно огорчен своим промахом.
- Платон, - обратился мрачным голосом Ликанац, - вы еще можете спасти
свою честь и жизнь, если извинитесь передо мной и остальными за
демагогическую и мерзкую речь.
- Ни за что! Нам не жить с вами вместе на этой земле. Если я останусь
жив, то я зарежу вас из-за угла.
Ликанац плюнул и Платон был повержен на землю, глинистую и скудную.
Алексей Федорович, бредя с котомкой за плечами по российским городам и
весям, издали заметил это противоборство и невольно залюбовался самим фактом
выяснения отношений между индивидуумами через слюновыделительные железы. Он
думал о том, что долгие годы своей аскетической жизни старался разобраться в
реалиях иной цивилизации, в ее культурологических проблемах, но никогда не
предполагал и не мог предположить, что все это настолько просто в его
отечестве, где плюющие друг в друга люди могут удовлетворяться таким
действом. "Для кого я писал свои солидные толстые книги? - размышлял Алексей
Федорович. - Кому нужны мои ночные блуждания, опирающиеся на эфемерные
абстракции, не поддающиеся обыкновенному пониманию рядового ума, власть
которого на этой земле, как я погляжу, очень сильна и неистребима. Что я
могу сказать своими мыслями, которые выпархивают из моих книг, как мотыльки
во всепожирающий огонь бессовестной и бестолковой русской жизни? Неужели моя
долгая закончившаяся жизнь прошла бесполезно для тех, кто населяет эту
землю, кто плывет неведомо к каким пределам на этом острове?"
" Господа! Нас наблюдает Алексей Федорович Лосев! " радостно закричал
Аркадий и быстрым шагом направился навстречу великому философу, который вяло
отмахнулся слабой рукой от радостного возгласа юноши, спешно идущему к нему.
" Присоединяйтесь к нам, Алексей Федорович!
" Я готов, тем более блуждания в одиночестве по этой земле занятие
тяжелое и трагическое по своей сути. Что ни факт, то бездна. Я готов
присоединиться к вам, к вашей идее России-острова и потому, что вы все лишь
слабые отголоски галлюцинирующего мозга вашего предводителя.
Я скромно улыбнулся, когда услышал последние слова великого философа о
себе. Да, я наполнил русское пространство своими фантомами, которые
дуэлянствуют, спорят, совокупляются, мочатся и пытаются мыслить в реальных
пределах обозначенной мысли-земли, которая при первом же моем тектоническом
сдвиге, может кануть в небытие. Тоска, живущая во мне, не дает мне покоя, не
дает мне полного душевного отдохновения, которого я жажду вот уже более
года, так как треснула стена духовного благополучия, за которой скрывался
веселый гармоничный мир моего "Я". Из трещин полезли растительные и
биологические монстры, искорежившие мой мозг, и без того насытившийся
разнообразными изысками больных творящих личностей, суть которых в
деформированном слове, похожем на полуотрубленную голову посиневшего трупа,
вспученного в воде ложных размышлений. Я верю в то, что придет такой момент,
когда распадутся все связи и равнодушная материя, плывущая в равнодушном
космическом вакууме, произведет высокое духовное равнодушие, близкое
каждому, кто еще сможет пребывать и действовать. Наша земля станет просто
идеей, трепетным фантомом, летучим голландцем, который, как сейчас, явился,
а потом брезжит веками в воспаленных умах ничтожного большинства.
Я взглянул на доброе близорукое лицо Алексея Федоровича, на его котомку
за слабыми старческими плечами и разрыдался.
" Не плачь, Скалигер. Не надо, Юлий, " потрепал меня по плечу Лосев. "
Все образуется. Ты найдешь то, что ищут все, кому мозг внушает свои фикции,
" интеллектуальный покой. А следом и душа успокоится. А пока давай вместе
пройдем этот остров, на котором нам предстоит понять всю нашу жизнь, всю
нашу смерть. Твои фантомы рядом с тобой, они окружили тебя и из их плотного
кольца не вырваться. Бог с ними.
Прошло много месяцев, прежде чем мы оказались в сибирском городке,
стоящем на берегу великой русской реки. Серое небо тайги покрывало этот
городок и реку, через которую строили мост, несмотря на то, что его
постоянно, как только начиналась весна, сносило неуемным течением.
" Эхма, ядрена вошь, как говорится, " поведал мне свою печаль мой новый
знакомый Терентий Щуга, который из года в год принимал горячее участие в
строительстве этого моста.
" Зачем же вам этот мост нужен, если его сносит течение и, как я вижу,
его вторая опора уходит в безлюдную тайгу? " спросил я с любопытством.
"Эх, мил-человек, " произнес, встряхнув русыми кудрями Терентий, "
Россия без мостов " не Россия, а так, изба с краю. Я вот с детства мечтал
прорубить окно в Европу. А как это сделать, если вокруг Азия и рожи
азиатские, не желающие смотреть в такое окно, если бы я его даже и прорубил.
У меня ведь загадочная душа: иду туда " не знаю куда, принесу то " не знаю
что...
" Все это мне известно, Терентий. Ты сейчас со мной блудишь, как
блудишь по ночам со своей женой... Не так ли ?
" Ладно, ладно, " не обижаясь на мой резкий тон, продолжал Щуга, " я
тебя приглашаю к себе домой, там и помозгуем. А мост этот выкинь из головы.
Не твоя это болячка. Для нас этот мост, может быть, как пирамида для египтян
засратых " тоже по камешку, по железочке каждый день носим в кучу. Авось,
что-нибудь и получится. Одним словом, надежда...
Я согласно кивнул головой. Терентий Щуга, крупный мужик в валенках и
тулупе, в вязаной фиолетовой шапочке и с изящным топориком за ремнем,
нравился мне своей непосредственностью и лукавой коварностью. Так, когда мы
шли с ним глухими таежными тропами, он, идя впереди, кричал: "Берегись!", но
крутой тяжелой ветки не отпускал, а ждал, когда я, расслабившись, опущу
руки, вот тогда он и шлепал веткой по моей физиономии и радостно спрашивал:
"Не попал?!".
" Да, ничего, ничего, " морщась от боли, ворчал я и с ненавистью глядел
на его тяжелый зад в коричневом тулупе и огромную медвежью спину.
Россия не может существовать без здоровых мужиков. Она любит их, лелеет
и спасает от тщеты образования и яда цивилизованной культуры. Такого
Терентия трудно представить за кафедрой в институте, за рабочим столом
конструктора или за операционным столом в клинике. Она не готовит их для
несения каких-либо культурных функций, потому что обилие мощной плоти и
изыски практического ума, которым такие Терентии обладают, годятся лишь для
противостояния такой же, но чуждой силе, рвущейся к насилию и верховенству.
Но именно к таким Терентиям в полной мере применим эпитет " русский, за
которым скрывается и внешняя могучая сила, и злобное коварное мальчишество,
и мудреная глупость, и циничная непосредственность.
Разве я могу себя отнести к русским? Почему мне дико и холодно в этих
бескрайних просторах, почему на меня наваливается тоска, когда я гляжу в
мутное низкое небо, за которым скрывается никогда не выглядывающее солнце?
Почему я не люблю блинов и толстых румяных баб с огромными кухонными
грудями, от которых пахнет подсолнечным маслом и безысходностью семейных уз?
Ни один из русских великих поэтов не любил таких баб. Утонченность
онемеченных евреек неотвратимо тянула их к себе, в их душные и хрупкие
объятия, к их просвечивающей синевой атласной коже, к тонким язвительным
губам, к их дыханию, похожему на жар иерусалимских камней. А если небо " то
только итальянское, лучезарное, полное цыганской щебетни и эротических
насекомых, летающих в изумрудном вазелине блистающего кислорода. Черт меня
угораздил родиться в России, да еще с талантом.
Русский мужик, как большой зверь, нуждается в уважении и в то же самое
время должен испытывать постоянное чувство страха от моментально
последующего наказания, если он нарушит установленный порядок.
" Пришли! " сказал мне Терентий и, похлопав тяжелой рукавицей по моему
плечу, легонько втолкнул в избу. Я огляделся и приуныл от той чистой
бедности и бытовой скудости, которыми были полны две комнаты. В одной стояла
здоровая тахта, над которой возвышалась известная картина Шишкина,
изображающая бурых медведей, этажерка, несколько стульев и широкий стол,
ободранный, но крепкий и похожий скорее на столярный верстак, чем на
обеденный стол. В другой комнате располагалась, как мне сказал Щуга, бабка
Аграфена, мать его жены Лизы, которая вот уже восьмой год лежала
парализованной и надоела всем до чертиков.
" Хочешь на нее посмотреть?
" Да как тебе сказать. . .
" Пойдем, не бойся. " Терентий провел меня в комнату, в углу которой на
зашарпанной постели, завешанной от мух марлей, лежала бабка Аграфена. Он
отдернул марлю и я увидел старушечье улыбающееся лицо. Слабое тощее тело еле
проглядывалось из-под ватного цветного одеяла.
" Чего улыбаешься-то? Ась?
Бабка что-то пробубнила и закрыла глаза.
" Эхма, ядрена вошь, как говорится, " сокрушительно произнес Щуга и
задернул марлю. " Теперь ты меня понимаешь? " спросил он, обратившись ко
мне.
" Терентий! В твоем доме вот-вот затухнет свеча жизни. И ты должен
дышать в сторону, чтобы случайно не погасить ее. Иначе...
" Ладно, ладно. Поп хренов. Мне что, пусть живет.
В комнате уже суетилась Лиза: на столе стояла бутыль самогона, огурцы,
куски медвежьего мяса сочно дымились на тарелке, и пахло нежной плотью
укропа и ломтями черного зернистого хлеба.
" Прошу к столу, " сказала Лиза. Румяное лицо, белесые волосы и полные
титьки совершенно не подходили к ее смоляным глазам, которые как бы
распирали вздувшиеся тяжелые веки.
Я вздрогнул от ее пристального вопрошающего взгляда и почувствовал себя
так, будто в душу мою забралась холодная ласковая змея.
" Выпьем за матушку Расею! " сказал Терентий, чокнулся со мной и Лизой
доверху наполненным стаканом и опрокинул его. Лицо его налилось сразу
багровой краской, в глазах появились слезы и он ткнулся в толстое плечо Лизы
и жадно втянул носом ее пахнущую потом плоть.
Когда он отдышался, Лиза тоже легко опустошила небольшой лафитничек и
жеманно взяла вилкой кружок соленого огурца и кусок хлеба.
Пить или не пить? Я чувствовал себя датским принцем в харчевне,
которого готовятся или убить, или отравить. Что я им сделал плохого? Почему
мое присутствие всегда вызывает раздражение у людей простых и недалеких, не
умеющих постигать и представлять себе эмпиреи высшего уровня бытия? Видимо,
от меня исходит некая не принимаемая никем в этом мире волна одиночества,
того единственного ощущения, которое связывает меня с космической
беспредельностью, откуда веет холодом и ужасом. Что ж, разве я забыл, что я
Бог?
" Пейте, пейте, Скалигер, " подтолкнул меня, внезапно появившийся
рядом, Алексей Федорович, " иначе вы их смертельно обидите.
Я послушался великого философа и выпил.
Жарко пылала печь, за окном падал крупными хлопьями снег. Я встал из-за
стола и уместился на тахте, откуда созерцал, как Лиза ловко и неустанно
носила вино и яства к столу, за которым сидели все мои фантомы, окружив
захмелевшего Терентия, плотно налегая на еду.
" Брат мой! "обратился Арон Макарович Куринога к Терентию. " Ты "
единственная надежда утомленной и развращенной России. Твое сердце еще не
охолодело к бедам народным, ведь ты сам и есть тот народ, о котором я пекся
всю свою творческую жизнь. Восстань и виждь, и внемли! Слышишь ли ты
колокольный звон по всей Руси? Вороги и лихоимцы оскверняют матушку нашу,
насилуют ее белое тело. Возопи и одолей чуждые силы!
Куринога браво выпил стопочку, хрустнул огурчиком, потом вышел из-за
стола и накинул на себя тулуп Щуги.
" Не тронь одежду! " грозно рявкнул Терентий и зыркнул пьяными глазами
по комнате. В ней было полным-полно незнакомого народу. Мог ли догадываться
простодушный и наглый одновременно Терентий Щуга, что это я привел к нему
всех своих спутников, видимость которых очевидна, но реальность которых
зависит только от моего больного мозга?
Лия Кроковна Стоишева давно и страстно наблюдала за поведением
сибирского увальня и робко и кокетливо подмигивала ему правым глазом.
Терентий подсел к ней и облапил высокую грудь.
" Пойдемте туда, где нас никто не знает, " кричал отчаянно Ликанац
старухе Аграфене, которая каким-то чудом уже была перемещена в большую
комнату ко всем и повязана оказалась белым платочком в цветочек.
" Сгинь, нечистая сила, " крестилась старуха и плевалась в Ликанаца. По
комнате носился Платон, излагающий Аркадию свою новую теорию конвергенции
живого и неживого, на что Аркадий приводил один только довод: он перед носом
Платона демонстрировал свой фигурный бицепс и повторял периодически:
" Усек!
Рядом со мной оказался Омар Ограмович и, ласково заглядывая в глаза,
спросил:
" Вот она " ужасная страна и ее дикие люди. Здесь никогда и ничего,
кроме хаоса, не будет. Зачем же ты задерживаешься здесь?
Я не знал, что ответить. Я сам не понимал, что меня связывает с этим
пространством, в котором безбрежные черные разливы лесов и полей иногда
освещаются мерцающими тусклыми огнями, в котором слово превращается в крик,
потому что вербальная основа голоса раздирается в плотных слоях дикости и
пошлости. А там, где скопление огней огромно и кучно, там, где спиральная
нить электрических сияний освещает тайные пороки и сладкие мерзости, там
рубцуется великая боль, всех связующая своей безысходностью.
" Я " порождение этого хаоса, старик. Я болен, и ты это прекрасно
знаешь. У меня нет цели, а та цель, которую я бы хотел воплотить " отчаянна
и бессмысленна: смерть моих родителей не позволит мне вернуться в лоно
эфемерных мыслей, коими я жил в этом мире.
" Только безумец добровольно уходит из мира. А ты " не безумец, ты "
отчаявшийся поводырь своих фантомов, которые считают тебя своим Богом.
" Ты мне завидуешь, учитель?
" Я хочу предупредить тебя, что наши прогулки с тобой во времени и
пространстве замыкаются именно на этой несчастной земле. Ты должен сейчас же
прекратить эту вакханалию и уходить с острова.
" Нет, я не сделаю этого. И ты тоже не посмеешь меня покинуть. Ты плод
моих галлюцинаций и будешь следовать за мной, как и другие. Мы должны
постичь тайный смысл и предназначение этого острова.
Лиза внимательно прислушивавшаяся к тому, о чем говорили между собой
Скалигер и дряблый немощный старик, почти ничего не поняла, но осмыслила
только одно, что полюбившийся ей Скалигер не хочет покидать их дома. Она
счастливо улыбалась, глядя на его бледное лицо, бесцветные глаза, легкие
ключицы. Он почти мальчик и почти старик, подумала она и сердце ее сжалось
от странных предчувствий. Ее огромная грудь волновалась, а и без того
румяное лицо покрылось огненными багровыми пятнами.
Ей стало невыносимо жарко, она вышла в сени, взяла полное воды ведро и
выскочила во двор. Огромное небо, усыпанное бриллиантами звезд, голубых,
зеленых, оранжевых, желтых, восторженно встретило ее, изнемогающую от
счастливого ощущения наполненности своей до недавней поры жалкой жизни.
"Где я? " спрашивала ее счастливая и волнующаяся душа это пылающее
разноцветными огнями небо. " Кто поселился в моем сердце, освободив его от
тягостных раздумий о своей увядающей в глуши молодости? Кто дал это чувство
полной раскованности и беспечного отношения ко всему миру?".
Она скинула с себя легкое ситцевое платье и облилась водой. Сразу
возникло толстое ватное облако пара, как будто к простору безбрежного
космоса отправилась, преодолевая земное притяжение, очередная безнадежная
ракета человечества " плод тщеславного ума генерального конструктора,
который в конце концов умрет от рака прямой кишки, после чего его гениальный
мозг, соревновавшийся в могуществе с природой, будет гнить в недрах этой же
природы, постепенно разлагаясь, поедаемый белыми извивистыми червями,
превратившись сначала в кашицу, а потом в ничто.
Возможно, это был один из немногих мужчин, который начал свою
практическую деятельность не так, как все, ибо большинство особей мужского
пола изначально определяют свое отношение к женщине, потом к славе, далее к
деньгам. Женщина " всему виной. Она является дестабилизирующим фактором в
особой и совершенно иной форме жизни, которая протекает через мужчину.
Мужчина " накопитель опыта, резервуар жизнетворящей спермы, и ее выбросы и
растрата опыта должны быть строго регламентированы. Но скрывающаяся в
мужчине женщина постоянно лишает его внутренней сосредоточенности, щекочет
его мозг грешными мыслями о кратковременности молодости и удовольствий, и
он, ослабевший распаленный, бросается с головой в омут страсти, похоти и
любви, и если ему все же удается выбраться из него, то выбирается уже не
мужчина, бывший прежде, выбирается изможденный организм, со сладострастной
кровью в жилах, липкой улыбочкой, облизывающийся на каждую кошачью женскую
задницу.
Скалигер заметил отсутствие Лизы. Он встал из-за стола и, расталкивая
публику, среди которой появился и Стенькин-художник, и Анфиса Стригалова, и
Семен Кругликов, и Аким Пиродов, водящие хоровод вокруг вконец опьяневшего
Терентия Щуги, медленно вышел из дома. В полной темени он наткнулся на
жаркую голую Лизу, которая лучезарными глазами смотрела, задрав подбородок,
на небо. Скалигер знал, что для нее это небо " в алмазах и бриллиантах, но
он-то точно знал, что оно черно и тягостно, что сейчас оно напоминает черную
дыру разверзшейся бездны, куда скоро ему и его фантомам придется держать
путь, доселе никем не разгаданный и невозвратный.
" Лиза, ты любишь меня?
" Я не знаю даже, как тебя зовут.
" Юлий.
" Если бы тебя звали Терентий...
" Хорошо, зови меня Терентием, но только скажи, я тебе понравился?
"Да, ты мне очень пришелся по сердцу, дорогой мой Терентий. Я захотела
тебя так, как никогда никого не хотела. В тебе есть что-то непонятное,
ускользающее, страшное и доброе одновременно. Я почувствовала вдруг, что
живу не там, где мне надо жить, и это чувство исходило от тебя. Я не
понимаю, что происходит со мной в последнее время, но, когда вы вошли с моим
мужем в комнату, во мне все перевернулось: я поняла, что вы не просто
человек, случайно сбившийся с пути, что вы специально выбрали этот путь,
путь через наш остров.
" Как?! " воскликнул я. "Ты знаешь, что ты живешь на острове по имени
Россия?
" Да, я знаю, " скромно и спокойно ответила обнаженная Лиза. " Я знаю,
что он должен в скором времени погибнуть и напрасно наши мужики строят мост
через реку. Они его никогда не достроят, и никто им не даст уйти в тайгу, в
леса и укрыться там от надвигающейся кары.
" Откуда ты все это знаешь? От кого?
" Я скажу... " Лиза немного помолчала, взглянула мне в глаза и сказала,
" от твоих родителей.
" Они были здесь? Когда? " вскричал я в изумлении.
" Они здесь и сейчас. В доме.
" Что ты говоришь, Лиза?
" Аграфена " это твоя мать, а Терентий Щуга " отец.
Я покачнулся от обрушившегося на меня страшного известия. Значит,
подумал я, те серафические слои околоземного пространства, в которых они
пребывали после своей физической смерти, их пронзительные явления передо
мной в земной жизни, их слова и стенания " фикция, обман. Это мой мозг, мои
глаза, потерявшие цвет, формируют такие картины, от которых разрывается
сердце и седеет душа, от которых теряешь полное ощущение реальности и
нереальности.
" Что же мне делать?
" Подожди немного... Постой со мной рядом. Весь мир " в тебе. Только я
" вне твоего мира. Я одинока и несчастна. Терентий Щуга был моим мужем,
настоящим мужем, а мать Аграфена " больная старушка, в самом деле, была моей
матерью. Но однажды, когда я уехала из города и вернулась через три недели,
я перестала узнавать их. Терентий, просыпаясь по ночам, выходил на порог и
нечеловеческим голосом звал какого-то Скалигера.
" Так это я и есть " Юлий Скалигер.
Лиза посмотрела на меня отрешенно и продолжала:
" Но никто не отзывался на его крик, только однажды нечто в обсыпанном
бриллиантами и алмазами, небе мелькнуло огненной струйкой и в тот момент
встала и подошла к Терентию моя мать Аграфена и они, обнявшись, продолжали
звать своими страшными голосами Скалигера. Я встала рядом с ними, но меня
они не замечали и только под утро легли. Мой муж и мать с тех пор очень
изменились, но они не переставали меня любить, хотя любили с какой-то
жалостью и грустью. А когда я, сильно простудившись, чуть было не умерла,
они ходили за мной день и ночь, и Терентий прошептал мне на ухо:
" Милая Лиза, я уверен, что сюда скоро придет Скалигер. Я перестал быть
твоим мужем Терентием, ибо он исчез из этого мира, как и мать твоя Аграфена,
потому что мы " родители Скалигера " заполнили их физическое существование.
Так случилось потому, что ни твой муж, ни мать не в состоянии были осознать
свое духовное назначение на этом острове. А наш сын Юлий объявлен Богом
фантомами своего больного мозга и ему грозит чудовищная расплата, если мы не
вмешаемся. Когда он придет, то ты должна сказать ему первая о нас, о себе.
" Я не могу поверить в это, Лиза. Все это чудовищно и нелепо. Да, я
болен, но не настолько, чтобы не видеть всю абсурдность твоего рассказа. Моя
болезнь во мне. Это она меня трансформирует, меня гложет тоска по умершим
родителям, но я прекрасно понимаю, что я не могу трансформировать мир. И
если я что-то вижу, то это что-то вижу только я и никто другой.
" Ты можешь мне не верить, но когда вернешься в дом, то и Терентий, и
Аграфена докажут тебе то, о чем я говорила. Но, прежде чем ты это сделаешь,
я должна...
Лиза приблизилась ко мне и положила полные белые руки на мои плечи. Я
посмотрел на небо: действительно, оно сияло бриллиантами и алмазами. Значит,
я был слеп до сей поры, подумал я и поцеловал Лизу в горячие потрескавшиеся
губы. Мы упали на пышный быстро тающий под нами снег. Как два зверя, под
блистающим небом мы пытались слиться в один комок, кричали, стонали,
обуянные страстным желанием одолеть друг друга, причинить боль, растерзать
кусок плоти, который вмещает наши железы, кишки, мягкие и податливые
мускулы.
Лиза лежала навзничь, голая, бесстыдно раздвинув толстые белые ляжки.
Небо сумасшедшим образом сверкало. Вдалеке маячил недостроенный мост через
реку, на котором стоял маленький человечек, неожиданно бросившийся вниз.
" Лиза, с моста кто-то прыгнул и разбился.
" Не беспокойся, это Алексей Федорович ставит на себе эксперименты. Он
здесь объявился раньше, чем ты. И так каждую ночь поступает.
" Как раньше? Мы вместе с ним вступили на этот остров.
" Возможно, но он пришел раньше, чем ты, к нам
" У вас все не как у людей, " раздраженно сказал я.
" А здесь и нет людей, кроме тебя и меня. Я знаю, ты не любишь толстых
русских баб, а пришлось общаться сейчас именно с такой.
Я внимательно прислушивался к словам Лизы. Она лежала на снегу в той же
откровенной позе и не собиралась подниматься. Я поправил черный шелковый
шарф на своей шее левой рукой в лайковой перчатке и спросил:
" Милая, что ты хочешь от меня?
" Я хочу, чтобы ты влюбился в меня до смерти. Чтобы не смог без меня
прожить ни мига, чтобы каждую секунду желал меня и не мог никогда
удовлетвориться, я хочу, чтобы при виде моей плоти твой безумный мозг
умолкал и чтобы говорила только твоя необузданная страсть. Ты не понимаешь,
какой силой обладает твой мозг: ты можешь превратить меня в кого угодно, ты
можешь из меня воссоздать любую свою мечту, самую дикую и разнузданную,
создать то, чего еще не было в земном мире.
Я задрожал, ощутив в себе необычайный прилив сил. Передо мной
замелькали времена и пространства, лица и страны: Германия, Грета, Франция,
Николь, тетка Клава и старуха Старость, призрачная Анела и жадная Фора,
Австралия и Капитолина, из чьего влагалища выпрыгивали мужчины.
" Иди ко мне, иди ко мне, " звала Лиза, ворочаясь на черном снегу,
меняя формы и лица, голоса и интонации.
Я рухнул на нее и впился в ее меняющееся тело, в его жуткую
сладко-саднящую глубину. Я почувствовал, как подо мной уже шевелилась не
Лиза, а огромная сиамская кошка, которая раздирала мне сквозь пальто до
крови кожу, и кровь все сильней и сильней струилась по моим плечам. Все
женщины мира для меня слились в этом существе. Я потерял сознание.
" Лиза! " позвал я, очнувшись.
Но никто не отозвался. Передо мной стоял милиционер Платон, а рядом с
ним лежала разодранная и изнасилованная дикая кошка довольно больших
размеров.
" Вы, Скалигер, опоганили животное и за это должны ответить, " грубо и
жестко отчеканил Платон. " Преступление, совершенное вами против животного
мира, есть преступление, совершенное и против мира человеческого.
" Тоже мне " эколог.
" Прошу не оскорблять при исполнении. Пройдемте.
" Платон, ты что " забыл, что ты есть всего лишь моя иллюзия, и если я
сейчас пожелаю, то ты исчезнешь?
" Не исчезну, ибо вы нарушили нравственный закон.
" Нравственные законы на земле устанавливаю я " Скалигер!
" Не мечите бисер перед свиньями. Пройдемте.
Я был разозлен не на шутку. Мне было жалко расставаться с
философствующим милиционером, но он начал полностью выходить из-под моего
влияния и я захотел, чтобы он исчез. Прощай, иллюзия! Прощай, фантом!
Но Платон не исчезал, наоборот он наливался какой-то внутренней
жизненной силой, его лицо румянилось, шинель индевела от мороза, сапоги
поскрипывали, а красная шея набухала жировыми складками.
" Пройдемте, пройдемте, товарищ! " он слегка подтолкнул меня в плечо.
" Может, дашь с Терентием и Аграфеной попрощаться?
" Только после всех процессуальных процедур.
" Ничтожество! Мразь! Шизофреническая галлюцинация! " не сдержавшись,
проклинал я Платона, который невозмутимо вел меня к центру города.
Неказистый городок по мере продвижения приобретал все более привычный
вид. Вывески на магазинчиках говорили о том, что здесь течет довольно бойкая
торгово-экономическая жизнь. По пути встретившаяся старуха, осмотрела нас и
сказала: "Попался, каторжник!". Я вскинул голову вверх и опять увидел небо
черным и пустым. "Что могло произойти со мной, " шел я, предаваясь печальным
размышлениям, " почему Лиза исчезла и откуда объявился Платон, ставший
теперь весьма реальным существом? Что еще ждет меня на этой непредсказуемой
земле, где фантомы становятся реальными людьми, а любовницы " дикими
кошками? О, боже! И мои родители тоже оказались здесь же "Терентий Щуга и
Аграфена! А я предполагал, что они так далеко он меня, так непостижимо
далеко, что сердце разрывалось на клочки только от одной этой мысли. Если
они где-то рядом, то я смогу разобраться в этих метаморфозах, происшедших со
мной только что.
" Пришли, " оборвал мои размышления грубый голос Платона.
Двухэтажное кирпичное здание стояло перед нами. Железная дверь в него
была украшена жестяной табличкой, на которой было нацарапано "Отделение
милиции No 6". Платон настойчиво колотнул по двери и та бесшумно открылась.
Смрад и вонь шибанули мне в лицо. Черная склизкая лестница вела вниз.
" Проходите, спасибочко, " раздался где-то рядом шелудивый голос
недоразвитого организма.
Я огляделся в поисках обладателя этого голоса и только при пристальном
исследовании кирпичной затхлой местности обнаружил в самом низу, почти в
подвале, широкое довольное лицо с толстыми губами и неимоверно курносым
носом. Одним словом, этакий колобок.
" Сидайте! " приказал мне колобок, указав на стул, весьма крепкий и
основательный.
" Докладывайте! " теперь обратился мой собеседник к Платону, который
вытянулся в струнку, поднял руку к козырьку и доложил, что доставленный был
захвачен им в момент совокупления с дикой кошкой, которую подверг
изнасилованию и садизму.
" Это все?
" Все, мой генерал.
Я посмотрел на погоны колобка и, в самом деле, они были генеральскими.
" Это что же мне с вами делать, господин Скалигер?
" Откуда вы меня можете знать? " спросил я не без удивления.
" Мой сотрудник Платон постоянно держал меня в курсе дела. Он был
прикомандирован к вам мной и исполнял все мои приказания, когда находился с
вами еще там, не на острове.
" Так он что? Не фантом?
" Он один из лучших сотрудников "Отделения No 6", " с гордостью сказал
генерал-колобок и с любовью взглянул на зардевшегося Платона.
" Ничего не понимаю, " обреченно выдохнул я.
" Вам надлежит понести наказание. Без суда и следствия, как говорится.
У нас этим не балуются. Да и народ занят делом. А ваше дело " плевое:
изнасиловали дикую кошку.
" Но позвольте! Это была не кошка. Я скажу " это была Лиза, у которой
мы временно остановились.
" Сержант Платон, вы подтверждаете факт насилия? " резко и недовольно
спросил генерал-колобок своего подчиненного.
" Никаких сомнений, мой генерал. Так точно.
" Тогда разговор окончен, месье Скалигер.
Генерал ловко подпрыгнул и исчез на втором этаже, откуда доносилось
цыганское пение, звон бокалов и выстрелы пробок из шампанского.
" Помнишь, я тебе рассказывал про шинель, которую украл Ручинский?
" И что из этого следует?
" Бессмыслица!
Платон открутил крепко задраенный люк в стене и втолкнул меня в глухое
пространство, где что-то ползало, шевелилось, ухало и стонало. Сердце мое
забилось от тоски и страха. Что же я? Что случилось? Мой мозг впал в дикую
реальность, или дикую реальность некто сделал моим мозгом, и я теперь
переживаю ужасы нового образования, которое обосновалось в моей черепной
коробке?
Ничего не надо на этой земле, если есть только тепло и свет, главное,
чтобы был свет, когда он есть " легче переносить любую неизвестность, но
именно там, куда втолкнул меня Платон, не оказалось света, и все
происходящее наводило на меня не ужас, а ощущение беспомощности живой твари,
оказавшейся в клубке таких же тварей, лишенных того, что их когда-то делало
независимыми и осознаваемыми как личность. Ко мне протянулась чья-то крепкая
рука с цепкими пальцами и облапила лицо.
" Красавчик?
Я молчал. Не знал, что надо ответить в данный момент. Да, я был
недурен, но не до такой же степени, чтобы ответить утвердительно обладателю
бесцеремонной лапы. А, впрочем? " махнул я на всякие размышления и
соответствия. И ответил:
" Относительность моего ответа не означает того, что я заблуждаюсь
насчет своей внешности, но, без ложной скромности, скажу, что недурен.
" Ишь ты, разговорчивый, " скрипнул кто-то надломленным басом.
" Меня спросили " я ответил. А могу и молчать.
" Здесь ты ничего не можешь. Здесь ты должен будешь то, что тебе
скажут, делать, " проронил фразу все тот же надломленный бас. " Ты хоть
представляешь, где ты находишься, дружбан?
" Смутно. А по тому, что заметил, то в "Отделении милиции No 6".
" Хоть ты и красавчик, но ты и грач " простая душа. Ты находишься в
камере смертников. Здесь никто никогда не увидит друг друга, и никто никогда
не выйдет отсюда. Отсюда выносят вперед ногами, потому что стреляют здесь
же. На месте.
" Какое же они имеют право?
" Право большинства.
" Ты имеешь в виду суд и прочие ему подобные учреждения?
" Красавчик, я так понимаю, что ты недавно не только в этой дыре, но и
впервые на этом острове. Поэтому попытаюсь тебе хоть что-то объяснить. Меня,
понимаешь ты, толкнула сюда несчастливая судьба. Жил я себе одиноко, никого
не трогал, жил не в городе, а близ него. Ходил в город только
затовариваться: ну, там солью, хлебушком и все, не более, ну разве что иной
раз и спички с водярой прихватишь. Шел я как-то раз по этому делу к
магазину, пристроился в очередь к мужику. Стою. Очередь не двигается. А
мужики и бабы стоят, как неживые. Кричу им: чего не двигаетесь-то?! Молчок.
Я взял " дурак " и прошел далее к двери, а потом и в магазин зашел. И увидел
вопиющий факт: наша продавщица в обнимку с генералом танцуют полонез, а
дружбаны-посетители им наигрывают его на губах, таких же толстых, как у
самого генерала. Ну я ради шутки тоже присоединился, значит. И дуду. Во-от.
" И что же дальше? " полюбопытствовал я.
" А дальше, этот генерал и говорит: господа-трудящиеся, бомжи-одиночки,
алкоголики-бездельники и прочая иная сволочь, присутствующая здесь и стоящая
там, за пределами магазина! Объявляю вам, что гражданка продавщица по нашим
данным сильно проворовалась и ее предстоит ликвидировать, ибо вы ныне не
получите ни хлеба, ни мяса, ни прочих продуктов, необходимых для вашей
жизнедеятельности. Что тут началось! Все готовы были разорвать ее на части "
запыхавшуюся от полонеза. А я-то эту Мананну знал. Я с ней любился десять
лет назад. Заскочила она к нам в края с каким-то вертихвостом, пожили, потом
он ее бросил, ну она и пошла, куда можно было, " в магазин, хотя, конечно,
место опасное: товар, проверки на дорогах и прочий контроль. Вот я ее и
приголубил, Мананну-то. А генерал не унимается и продолжает: все вы должны с
ней сделать то, что она сделала со своими продуктами. Вы должны подвергнуть
ее съедению. Кто за? - спрашивает. Мужики и бабы и онемели. Ведь я как раз в
этот момент и попал. Расталкиваю их, кричу, что дело-то небывалое, не было
такого в мировой еще практике, чтобы продавщицу подвергать съедению. Меня не
слушают. А я присматриваюсь и вижу у иных слюни-то текут. Бросился я тогда
на генерала и откусил ему нос.
" Чего же у него было откусывать? У него ведь его почти нет.
" А тогда был и весьма существенный, дружбан. Это он после
косметической операции таким стал: курносым.
" Как смерть? " продолжил я шутя.
" Не понимаю, " проскрипел бас. " Не понимаю, дружбан. Короче, сожрали
ее за милую душу и разошлись. А меня сюда вот. И тоже жрут. По частям.
" Ты не бредишь?
" Да я наполовину обглодан. Но умирать не дают. У нас на острове " это
не составляет труда. Генерал " большой ученый. И тебя, видимо, тоже начнут
покусывать.
Я пытался по прошествии времени приглядеться к темноте, но напрасно "
она оставалась такой же насыщенной и непроглядной. Ни фотона света. Мой
собеседник, как бы догадался, что я хочу и сказал :
" Не напрягай глаза. Я уже здесь второй год и ни хрена не вижу. Даже
того, кто от меня откусывает куски мяса.
" И тебе даже не больно?
" Нас с тобой сначала будут подмораживать все сильнее и сильнее, пока
не окоченеем, потом нечто ползущее подберется к нашим телам и начнет рвать
ноги, руки, а головы " это последнее. Мы с тобой даже не будем видеть, а
только чувствовать, что на нас еще висит из тела.
" Это бред!
" Это остров! " произнес бас.
" И когда же эта мука начнется?
" Сон разума рождает чудовищ. Неужели ты до сих пор еще не
почувствовал, что твой мозг уже начал откусывать от тебя части твоего тела?
Неужели ты, красавчик, настолько невосприимчив к слову, которым я тебя уже
начал мучить, а ты все ждешь еще более реального продолжения.
Я устыдился неизвестного мне существа, рассказавшего нечто
невообразимое и упрекнувшего меня в восприятии эстетического воздействия
словом. Неужели я так огрубел, так опустошился душой, что физический мир
стал для меня более важен, чем мир галлюцинаций. И, когда мир физический
перетекает в мир галлюцинаторный, я больше пугаюсь первого, нежели
последующего. Какая глупость! Какое убожество! Но какой странный этот
незнакомец.
" Я не знаю, как тебя назвать, но назову Лапой?
" Ты угадал. Это моя кличка.
" Твои размышления о слове не соответствуют твоему, как бы это сказать,
обозначенному умственному уровню. Ты выдаешь себя за другого?
" Вот так всегда с интеллигентами. Ввернешь им какую-нибудь хреновину "
они готовы уже строить воздушные замки.
" Я не о том, Лапа. Ты ведь тоже не знаешь кто я. Я " Бог. Меня избрали
им мои фантомы, один из которых Платон, ну, милиционер, который и привел
меня к генералу, вдруг превратился в крепкое физическое реальное существо и
вышел из-под моего повиновения. И именно на этом острове. Видимо, эта земля
обладает свойством метафизические измышления превращать в грубую физику?
" Я это знаю. Я сам оказался в этой ловушке. Когда я пришел сюда одним
из первых, а привела меня на эту землю, как я говорил, несчастливая судьба,
то я привел с собой в мозгу и генерала, и прочую шушеру, которую ты не видел
еще. Они воплотились в реальные лица. Я бежал, как и ты, из мира и попал в
мир своих собственных страхов и грез. Они меня пожирают. Но если тебя твои
фантомы объявили богом, то тебя ждет нечто пострашнее, поритуальнее.
" А тебя не соблазняла Лиза?
" Ты все еще не догадался, что это та же " Мананна!
" А кто же тогда Терентий Щуга и его Аграфена?
" Ты, Скалигер, не валяй дурака. Я тебя заприметил еще в том кабаке,
когда ты со стариканом каким-то винцо попивал и язык официанту оторвал. Я
подумал, вот крутой парень. А ты " Бог, да кто такие другие...
Я растерялся. Кто же это мог быть со мной в камере? Кто этот
соглядатай, который также видел мои перемещения в другом мире? Я терялся в
догадках. Неужели шутки генерала?
" Не шевели мозгами. Все равно меня не вспомнишь. Я тебе говорил о
своей несчастливой судьбе. Ты со стариком о своих родителях говорил... У
меня тоже, что-то близкое произошло. Устал я от мира. Бросил все: квартиру,
любовниц, машину, дело, здесь еле от своих коммерческих братьев отвертелся.
Нарядился бомжем и двинулся в сторону леса. Шел черт знает сколько. Где
кусок хлеба раздобуду, где одной водой желудок размочу. Так и шел. Сил уже
не было. Упал где-то у дороги. Видно, от голода и усталости сознание
потерял. Очнулся, как в раю: на свежей постели, умытый, причесанный и
смотрит на меня женщина и такая милая и ласковая, такая душевная, что,
знаешь, заплакал, как в детстве
" Что, милый, приключилось с тобой? " спрашивает. А я плачу и ничего не
могу ответить. " Да, говорит, заболела твоя душа. Отдохни. Полежи. Забудь
обо всем. Я тебя не брошу. Ты мой " любимый. Ждала я тебя долго и дождалась.
Сказала это и вышла из избы. И пропала. Жду я день, другой, месяц, год,
а ее нет и нет. И уйти с места боюсь, а вдруг придет, а меня нет. А на душе
" как камней навалили. За всю свою жизнь я не встречал такой ласки.
Родителей я своих не помню. Детдомовский. В армии не до сентиментальностей,
да и были-то одни бляди. А здесь " свет небесный душу озарил. Пойду, думаю,
поищу. Вдруг что приключилось! Дорогами, тропами, буераками, пока не набрел
на избу Мананны. Она уже одна жила. Я к ней с расспросами. А она меня вывела
на задворки и говорит: "Знаю, кого ты ищешь. Ищешь ты меня. Я та, которая
приютила тебя, а потом исчезла."
" А кто же твои, ну этот Терентий и Аграфена?
" А это мои родители. Не могла я их оставить. Вот к ним и устремилась.
Думала, обернусь и к тебе поспею. А ты сам меня нашел, милый. И кинулась в
объятия. Чего уж было " не вспомню. Но помню, что втолкнули меня сюда, в это
логовище и глодают по частям.
" Что ж, Лапа, ты обманут был своей мечтой. И терпишь за это муки. А я?
Я, живший вне вашего того мира, не участвовавший в нем и ничего в нем не
имевший, разве что моих родителей, которых забрала смерть и свела меня с
ума. Я, как гонимый ветром странник, по разным пределам и среди разных
сопутствующих мне фантомов, за что я оказался в этом логовище и должен
страдать. Я " Бог.
" За что? За богохульство!
" Ты слишком прост в своем заключении. Я не ищу поклонения среди
других, я не даю жизнь другим и не отнимаю ее, но я создаю свои сущности,
которые почему-то именно здесь становятся страшными реальностями. Недаром
меня предупреждал Омар Ограмович, что здесь я могу погибнуть.
Мой сосед молчал. Он тихо постанывал и звал Мананну. Его мечта
оставалась мечтой: будь она Лизой ли, Мананной ли, все равно. Я ощутил
наступление холода. Руки стали деревенеть, ноги почти уже не чувствовались.
" Начинается... " брезгливо сказал Лапа.
Я с ужасом и нетерпением ждал неведомого. Но страх и тоска исчезли из
моего сердца. Лапа своим рассказом многое объяснил мне. Все, находящиеся на
этом острове, обмануты своими иллюзиями, мечтой и прочей фантасмагорией. Это
не физические особи, а материализованные мечтания и желания. О, этот
странный остров! А если попытаться измышлять здесь, создавая фантомы именно
на этом острове? Может быть, что-нибудь удастся изменить в своей судьбе?
Высокий молотильщик зерна Жакино и коренастый сапожник Пьер бродили в
поисках хлеба насущного по Монтобрану и с горечью и тоской вспоминали своего
друга лекаря Бордони, который в горячечном пылу назвался неким Скалигером и
завел веселенький, как им казалось, роман с вдовушкой Николь.
" Говорил я тебе, олух, " обращался Жакино к Пьеру, " что нельзя их до
официальной свадьбы оставлять вдвоем. А теперь поди-ка сыщи их!
" Ох, верно, " вздыхал Пьер и смотрел подобострастно на высокого и
злого Жакино.
" Что будем делать?
" Вспомни лучше, как постарели мы и они, как ноги Николь стали
лиловыми, как две рачьи клешни, как она выгнала нас. Было такое?
" Да, " утвердительно мотнул головой Жакино.
" Мы с тобой должны пуститься следом за нашим другом его же путем.
" Не понимаю, друг Пьер.
" Надо выпить крови старика Жана Понтале. Этого брадобрея.
" Ну что ж, пошли к цирюльнику.
У ворот, как и прежде, их встретил лай целой своры собак. И после
недолгого отсутствия явился не слуга, а сам старик Понтале.
" Чего желаете, бездельники и хулиганы?
" Желаем узнать, где наш друг с твоей девкой с красными ногами и
желаем, если их нет в твоем доме, отправиться вслед за ними.
Ворота распахнулись, и они увидели перед собой крепкого и веселого Жана
Понтале с бритвой в руках.
Но гости не испугались. "Мы все твои проделки знаем, " начал было Пьер.
" Нам надо к другу нашему " лекарю Бордони!".
Бодрый старик улыбнулся, взял две дубовые кружки, разрезал себе вену и
нацедил им по полной " своей черной крови.
" Пейте ! " сказал он несколько ошалевшим гостям.
Что случилось с ними после того, как они опрокинули с опаской две
кружки крови цирюльника, они и представить не могли, но оказались на
Тверском бульваре, под вечер, где прогуливалась толпа незнакомых им людей в
странных одеждах, со странно звучащей музыкой из рук. Пьер и Жакино тоже
устроились на скамейке и стали осматриваться.
" Во, парни классные, ништяк, " казали две юных подружки, остановившись
напротив них и рассматривая их в упор.
" Вы, че, иностранцы?
Жакино крякнул и ответил на чистом русском языке:
" Нет, киска, мы, как говорится, "новые русские", вот вышли из банка
подышать и повалять дурака.
" Да-да, " тут же сориентировался Пьер и закинул нога за ногу.
" Ой, как хорошо, " воодушевились девочки. " А то мы без клиентов. В
ресторане не попрыгаешь, там отстегивать надо Кондеру. А по улицам одни
чурки шныряют нищие. Можно с вами повалять дурака?
" Как вас зовут " для начала? " спросил расхрабрившийся Пьер.
" Фора и Анела, " ответила за двоих длинноногая красивая девушка с
каштановыми волосами.
" Жакино, " шепнул Пьер, " я хочу быть именно с Анелой.
" Дурак ты, еще не известно, чем кончится. Что они к нам просто так
подошли что ли? Ладно.
Девочки порхнули на скамейку и тут же закурили сигаретки с каким-то
дурманящим дымком.
Жакино недовольно повел крупным носом.
" Не нравится? " обиженно спросила Фора, которая примостилась с Жакино.
" Да нет, просто не пробовал никогда такого дыму, " неуклюже ответил
Жакино.
" Тогда зачем дело стало? А? " встряхнулась Фора и сунула папироску в
рот Жакино, который чуть было не поперхнулся, затягиваясь сладковатым дымом.
Не отстал от Жакино и Пьер и через некоторое время они чувствовали себя
крутыми красавцами, которым море по колено.
-- Эй, мент засраный, ты че ходишь туда и обратно? - пристал к
милиционеру высокорослый детина Жакино.
Платон подозрительно посмотрел на загулявшего бугая, скромно и молча
отошел подальше от них и спрятался за дерево.
- Да ты почище Кондера будешь, - сказала Анела, оторвавшись от
прилипчивого Пьера. - Пойдемте-ка к нам, у нас всего навалом: и дурноты, и
выпивки, и постелей. Как, согласны?
- Только как с деньгами? - сурово спросила Фора.
Жакино самодовольно и вызывающе похлопал себя по карману вельветовых
штанов.
- И за карманами кое-что есть! - громко захохотал он.
Они встали и направились в сторону Гоголевского бульвара. За ними
следом, перебегая от дерева к дереву, перемещался Платон.
Домик был неказистый, но крепкий. Ворот никаких, собак тоже. На третьем
этаже Фора чем-то щелкнула и зажегся свет. Прошли в комнату - и ,в самом
деле, желтые диваны, стол, заставленный питьем и закуской.
- Сыто живете, - задорно вскричал Пьер, наливая себе фужер шампанского.
- За вас, девушки!
- Пора приступать к делу, - шепнула Фора Анеле. И та молча и согласно
кивнула головой.
- Мальчики, - ласково продолжала Фора, - надо всем раздеться, чтобы
между нами ничего лишнего не было, или кайф весь поломаем.
- Не понимаю, зачем ломать кайф? - недоуменно сказал Жакино и начал
стягивать с себя одежду. За ним поспешил сделать то же самое и Пьер.
Голые французы пятисотлетней давности стояли перед двумя русскими
девушками, которые любили Скалигера и потеряли его, как им казалось, навеки.
Жизнь их стала проходить только так: в поисках клиентов и в слабой надежде
на то, что когда-нибудь они испытают то же, что испытали со Скалигером. По
не известно каким причинам, но им обеим казалось, что эти два парня из
Франции чем-то были близки к пропавшему Скалигеру. Что-то неуловимое
притягивало к их, собственно, весьма посредственным физиономиям.
Только они приблизились друг к другу, в дверь постучали и довольно
нагло.
- Не открывай, - сказала Фора Жакино, который пошел было голым
навстречу звонку.
- Почему нельзя? Ведь это ваши комнаты?
- Ну хотя бы штаны надень, - горько сказала Анела, разглядевшая нечто
меж ног высокорослого Жакино и надеявшаяся на приличный с его стороны жест.
На пороге стояли Платон и Кондер.
- Эй, вы, пидорасы, а ну вываливайте отсюда! Мы сами здесь разберемся,
что к чему! - зычно крикнул он в лицо опешившему Жакино.
-Да-да, и не вздумайте бежать в окно, хотя его и нет, - скромно добавил
Платон.
- Неужели ничего не получится? - вновь шепнула Фора подошедшей к ней
Анеле.
Молотильщик зерна Жакино обхватил голову Кондера двумя ладонями так,
что она треснула, как орех, а шустрый и коротконогий Пьер в это момент ловко
выбил пистолет из рук Платона и выстрелил ему в задницу. Платон потерял
сознание и упал животом на пол, а из задницы тем временем булькала кровь.
- Надо ее чем-то заткнуть, - сказал Пьер и сдернул со стола желтую
скатерть и прикрыл ею Платона.
- Посмотрите-ка! -позвала всех Фора к столу. - Видите, рукой Скалигера
написано: "Идите все ко мне, в Россию-остров. Ко мне, мои фантомы и друзья".
- Так кто же из нас фантом, а кто друг? - спросил Жакино и посмотрел на
Пьера. - Наверно, мы, ведь мы из пятнадцатого века. А вы в каком?
- Мы, - задумавшись, ответила Фора, - вообще вне любого века, но знаем,
что такое Россия-остров. Это страшная страна. Вне ее -сходишь с ума, внутри
ее - претерпеваешь страшные мучения. И выбора нет. Такого выбора не было и у
Скалигера, или по-вашему, Бордони. Я никогда не понимала Юлия, - продолжала
говорить страстно и увлеченно Фора, - я думала, что он бредит, оставаясь
наедине с самим собой, то теперь я многое осознала: не там родина, где
сердце и плоть, а там, где ум и безумие. Вот его безумие постоянно находится
на острове-Россия. Там его должны окружать созданные им фантомы, которые
стали вдруг страшными реальностями.
- Вы готовы помочь мне в борьбе с ними?
Жакино и Пьер замялись. Они не думали, что спустя пятьсот лет им
придется иметь дело с каким-то Скалигером, да еще с его врагами, суть
которых была им неясна и чужда.
- Девочка! Ты все время очень много говоришь, а подошла к нам и привела
нас к себе вместе с подругой с одной целью - порезвиться. Если этого не
получается, то мы уходим. Нам и случившихся приключений хватает.
- Надо кончать с этими наполеонами, - резко высказалась Анела и нажала
кнопку, которая скрывалась за портьерой. Место, где стояли Пьер и Жакино,
распахнулось и они рухнули в подвал с криком и проклятьями.
- Вы правильно поступили с этими образинами, - послышался голос. Фора и
Анела обернулись на дверь. В ней стояла Николь и улыбалась.
- Вы ищите Скалигера, а я ищу Бордони. Их разделяют века, но это не
имеет никакого значения. Скалигер и Бордони - одно лицо. Только Скалигер -
безумно болен. Я знаю это, и своей болезнью он заразил вас всех. Вы не
понимаете - кто вы! Я - фантом, я произведение Жана Понтале. Я спасла
Скалигера и выпустила его к вам. Но не учла его богатого воображения: его
фантазии заменили ему реальность.
- У тебя лиловые ноги, сука, - разозлилась Фора. - И не тебе нас учить:
что мы понимаем, а что нет. Да, мы живем в мире болезненных фантасмагорий,
мы порой не ощущаем, где заканчивается "Я" и где начинается "МЫ". Но я, по
крайней мере, знаю, что такое любовь.
- И я тоже знаю, - откликнулась задумчивая Анела.
- Девочки, вы еще глупенькие, и не можете оценить то, что я вам сейчас
говорю. Вами владеет страсть, а Скалигером, я повторяю, овладело безумие, и
только мы его сможем спасти, или его всю жизнь будут преследовать кошмары.
- Но разве ты не кошмар? - спросила Фора. - Ты, с лиловыми ногами, да
еще из пятнадцатого века! Это что? "Спокойной ночи, малыши"?
- Мир не так сложен, как ты полагаешь. И ты можешь оказаться в
пятнадцатом и двадцать пятом веке, если я захочу. Но захочешь ли ты? Ведь
там не будет безумия Скалигера. Да вот вам Алексей Федорович все объяснит.
Он, кстати, из вашего времени.
Скромный старичок в шапочке на круглой голове, подслеповатый, вошел в
комнату, где разыгрывались плотские и интеллектуальные побоища. Он сел на
кресло, осторожно пододвинутое ему Николь, и начал говорить: "Семантика
жизни такова, что ее силлогизмы никогда не смогут быть вскрыты ни в будущем,
ни в прошлом. Все уходит со временем: речь, мысль, дефиниции, остается в
ушах мелькнувший звук, который тоже держится всего лишь какое-то мгновение.
Мы живем в обреченном времени. Нам говорят, но мы не слышим. Нам говорят,
что скоро конец, что не надо торопиться к этому концу, но мы постоянно и
настойчиво жаждем дойти во всем до сути. А это - гибельный и
античеловеческий процесс. Все, на что способна голова человека, - это
запомнить и воспроизвести. Мозг - ленив и не любит творить, он любит
повторять. Поэтому все повторяют друг друга. Христос повторяет Будду, его
повторяет Мухаммед и так далее. Первое слово было за безумием. Его-то и
сказал именно Скалигер. А подобное слово может быть приложимо только к
определенной этнографии, каковою вы и являетесь. Надо не любить, надо не
желать, надо учиться сопонимать, сочувствовать, в этом только соитии -
благо. Ваши организмы - это большие раковины, в которых бьется шум жизни, в
которых скрываются символы, числа, имена; расслышит их только Скалигер.
Алексей Федорович умолк и вышел, поднявшись с кресла, из комнаты. Фора
и Анела поняли только одно из его речи: Скалигер в опасности, потому что он
один такой на свете, он, создавший неведомый мир и ведущий его за собой.
- Где он? - обратились они к Николь.
- Не волнуйтесь, я вам покажу Только выпустите из подвала Жакино и
Пьера.
Фора опять дернула за портьерой, и из подвала выскочили голые Жакино и
Пьер.
- Одевайтесь! - грозно сказала Николь. Те без лишних слов выполнили ее
приказ.
- А что с этими? - спросила Фора.
- Они оживут, и мы их еще не раз встретим, - усмехнулась Николь.
Милая сексуальная Грета, как мне не хватает тебя, как мне не хватает
твоей нелепости и раскованности, твоего неистощимого секса, который
свидетельствует лишь о твоей поразительно могучей жизненной энергии и любви
к окружающим объектам: будь то человек, зверь, растение. Где ты, Грета? Мои
лекции в Германии кончились, ты выбежала из кафе после случившегося с негром
Ликанацем, и я тебя больше не видел. Кого ты сейчас соблазняешь своей
кошачьей попкой и о кого трешься своим милым беленьким личиком? Мне так
плохо в этой темнице, где меня гложут, где некая Лапа произносит гадкие
вещи, а генерал-колобок грозит неимоверной казнью. Возможно ли это в
Германии? Конечно, нет. Цветущий край стабильного покоя, стабильных
мошенников и в меру культурных воров. И какое пиво! Эх, сейчас бы пивка!
- Чего захотел? - проскрипел Лапа.
Я не обратил на него внимания. По мне уже давно что-то ползало и
усердно чавкало. Тело мое уменьшалось. Чтобы разглядеть все же, что
происходит, я снял с левой руки лайковую перчатку, и вместо ладони обнажился
узкий клинок пламени. Я нисколько не удивился тому, что увидел. По моему
телу ползал Ликанац, только в другом обличье: был он толстый, гладкий,
похожий на большую гусеницу с зубами, да к тому же еще улыбающуюся. Увидел
его и Лапа.
- Ну и мерзость! - воскликнул он.
- Это мой давний знакомый, - успокоил я его.
- А что же он нас жрет?
- Его куда направят, то он и делает. Хочешь - на тебя направлю?
Лапа испуганно задергался. Я повнимательнее его разглядел. Да, руки
были мохнатые и сильные, лицо тоже напоминало моего недавнего собеседника из
Германии. "Ба, - подумал я, - а это Карл Вениаминович Стоишев! Бухгалтер".
- Вот мы с вами и встретились, Карл Вениаминович! Вы рады?!
- Я вам всегда говорил, Скалигер, что числа определяют бытие, а не
имена или слова. Теперь вы мне поверите?
- Почему я это должен сделать?
- Потому что у вас, кроме руки и головы, почти уже ничего не осталось.
И в самом деле, Ликанац незаметно и не больно почти всего меня обожрал.
Я был в таком окоченевшем состоянии, что не заметил, как превратился в
обрубок. Слезы наполнили мои глаза. Как жить? Что делать?
- Вопросы, которые вы задали сами себе, менее всего должны вас
беспокоить. Вы придумали фантомов, теперь здесь же они воссоздадут вас.
Успокойтесь.
В голосе Карла Вениаминовича звучала надежда.
Наевшийся Ликанац отполз в сторону и начал преображаться: сначала в
негра, потом в андрогина, потом в официанта. Как только он стал официантом,
я крикнул ему: "Остановись!". Ликанац послушно замедлил и остановил свои
превращения.
- О, Скалигер! Я вас узнал.
- Да ты же меня всего объел, подлец ты этакий!
- Не тревожьтесь. Ваш напарник пугает вас напрасно. Через некоторое
время вы все получите обратно и в лучшем виде.
- Если бы не моя рука, я бы тебя не то, чтобы не узнал, но и не увидел.
- Ваша рука - это рука всех ваших фантомов.
- Нет у меня больше моих фантомов. Платон, которому я доверял больше
всех, которого воссоздал из небытия - предал меня какому-то генералу,
упрятавшему меня в это подземелье.
- Это не подземелье, - ответил Ликанац, - это "Отделение No 6". Разве
вам этот порядковый номер ничего не напоминает?
- Не хочешь ли ты сказать, что это "Палата No 6"?
- Вы удивительно литературно образованны.
- Допустим. А кто же этот Лапа?
- Оппозиция генералу и вам.
- Не понял.
- Это вполне реальное существо, короче, фермер. Мы его здесь специально
держим, чтобы знал, кому, что давать и с кого, что брать.
- Так вы, подлецы, еще и рэкетирствуете!
- Но жить-то как-то надо. Вас все нет и нет. То вы пропадаете, то
появляетесь. Манны небесной нет. Утешений никаких. Вот и взяли лохмача за
яйца: давай - корми. А он ни в какую.
- Что же ты молчишь, Лапа?
- Я слушаю. Я не знал, что ты в самом деле всемогущ, Скалигер.
- Ладно, ползи к генералу и скажи, что Скалигер хочет поговорить с ним
о весьма важных проблемах его существования. А мы за тобой следом - люк не
закрывай. Ликанац раздулся до небывалой ширины и вышиб люк одним махом. В
теплом подвале генерал и Платон чаевничали.
- Что за безобразие?! - завопил генерал.
Ну, конечно же, как я сразу не узнал преобразившегося Гришку
Ручинского, который еще в недавние времена спер шинель Платона. С ним и речи
быть не могло. Ликанац понял мои мысли и захлебнул его всего вместе с Ветхим
заветом.
- Скалигер, я вас должен буду покарать по закону! - твердо произнес
неумолимый Платон.
Я почувствовал себя плохо, и мне показалось, что я растворяюсь в
воздухе. Стоишев, Ликанац, Платон расплывались перед моим взглядом, и я,
схватившись за крышку стола, присел на стул, на котором только что сидел
генерал Ручинский.
Я таскаю вас за собой, как шлейф, я не могу избавиться от вас нигде: ни
в пространстве, ни во времени, ни в мозге своем, ни в мыслях этого мозга. Я
нахожусь на пределе. Разорвите меня на части, отрубите мне голову, только
дайте покоя и забвения. Вся моя душа облита кровью, все мои думы, так или
иначе, возвращаются к родителям, которые то появляются рядом, то исчезают,
то опять появляются в других образах. А мне не нужно их подобий. Мне нужны
они. Я хочу жить простой жизнью. Что же случилось со мной? Я уже не
выдерживаю. Я не могу на этом острове владеть собой. Я подожгу его со всех
сторон, чтобы на нем сгорели все вместе со мной.
Недавно поедавшие, угрожавшие, поучавшие куклы молчали. В из глазах
были тоска и безразличие.
- Эх ты, горе луковое, - обхватил мое плечо Терентий Щуга и повел в
свою избу. - А еще Бог!
Я от неожиданности разрыдался у него на плече.
- А где Лиза? Или, нет, Мананна?
- Ты и впрямь, нездоров. Лиза тебя давно ждет. А вот Мананна ты
говоришь, такой у нас не водится. Эхма, сук еловый, едрена вошь. Я шел
следом за Терентием. Зачем Лиза мне все врала, что он ей отец? Зачем она
придумала эту страшную быль? А, может, придумал я?
Никогда никому не верьте, если даже вас ведут в нужном вам направлении
и если вас ведет близкий и преданный вам друг. Вообще, на этом свете мало
чему можно верить. Можно верить Богу, можно верить родителям, но я сам -
Бог, а родителей моих давно уже нет. И я шел следом за Терентием, рыдая и
спотыкаясь, но не верил ему. Не верил, что он приведет меня к Лизе. К той
Лизе, с которой начались все мои злоключения на острове.
И я не ошибся. Мы шли уже третий день. А избы не было видно.
- Щуга, - спрашивал я его, - где же изба?
А он только пожимал огромными плечами и шел, шел дальше. И молчал.
Сибирь - красивое место. Есть тропинка, может быть, звериная, тогда пройдешь
по ней и дойдешь куда-нибудь. А нет таковой тропинки, то будешь продираться
через бурелом, пока ноги не обломаешь. Я шел за Щугой, который, конечно,
знал все тропинки и мог любоваться этим зеленым морем тайги.
Голова моя постепенно прояснялась, глаза светлели, черное пальто
покрылось голубоватым пушистым снегом. Приятные ощущения охватили меня, и я
вспомнил, что ровно год назад остался без матери, а потом и без отца.
Вспомнил, что познакомился с Форой, вспомнил и соседку по квартире отца,
Ангелину Ротову. Вот женщина-то была! Что же я с ней сделал? Не помню. Потом
объявился брат. Я что-то и с братом сделал. И тоже ничего не помню. Вот иду
черт знает куда, черт знает за каким-то Терентием. А что мне наговорила про
него Лиза? А кто такая Лиза? Деревенская девка из избы? И почему я должен ее
видеть? А ужас какой я пережил в этом люке! Лапа-мерзкий, Карл Стоишев, а
прикидывался всего лишь бухгалтером, а этот генерал - кто такой? Чего ему от
меня надо? Может быть, я случайным образом оказался в его месте и мешаю ему?
Нет, я никому не хочу мешать. Я должен не идти за Терентием, а исчезнуть
тихо. Мысли в голове, которая вновь отяжелела, налилась свинцом, на миг
просветлели, и я потихоньку свернул с той тропы, по которой, рассекая
воздух, шествовал Терентий Щуга. Я сам найду свою дорогу. Пойду туда, не
знаю куда. Найду то, не знаю что. Я улыбнулся своей детской хитрости,
которой обучила меня еще в детские годы моя бабушка.
Щуга не заметил моего исчезновения. Я оказался один на один с зеленой
массой, которая становилась то черной, то бурой, то фиолетовой. Я находился
будто в другом мире. Я сел на пенек и пригорюнился. Что за жизнь моя такая?
Ничего не могу довести до конца. Вот хотя бы трактат. Слово - это так важно
для людей! Не будь его, мы все бы разбежались вот по такой лесистой
местности и не знали бы, что есть Шекспир, Гете, что есть Данте, что есть
Скалигер. Да, я не стесняюсь вставлять себя в этот список, потому что я
гениален. Пусть пока ничего реального я не создал, но возможно ли гению
создать что-либо реальное? Ни один из них так этого и не сделал. Если
сделал, то только наметки, только первые штрихи, которые люди подхватили и
считают совершенным образцом их деятельности. А я творю свой мир в голове. И
разве кто-нибудь из них мог бы соперничать со мной? Все мое повествование
закручено и перекручено невозможным образом, а читать все равно интересно. И
никто не знает, даже я, кто сейчас может появиться передо мной, пока я сижу
на пеньке и что-то обдумываю. А что я обдумываю? Да, ничего. Просто хорошо
сидеть на пеньке, смотреть на снег, вспоминать нечто милое из своей темной и
безумной жизни.
Много ли больных и умалишенных бегает по просторам острова? Кто знает?
Все умалишенные почему-то сбиваются в большие соты городов, строят дома,
канализации, банки, высотные здания, казино, публичные дома с саунами и
ездят на широких, как корыто, машинах. Зачем они это делают? Ведь жизнь
заключается не в этих преходящих прелестях быта. За эти прелести ты все
время борешься с кем-то, чего-то боишься, даже если хоть раз выберешься
отдохнуть, то и там, в далекой заграничной стране, переживаешь: подцепил
Спид от дешевой проститутки или нет? Вот в чем вопрос. Мне скучно с моими
современниками. Они суетливы, лживы и скаредны. Помыслы их не
распространяются дальше материальных благ. Такое ощущение, что современный
мир впал в прагматическую бездну и выбраться из нее не может. Ему нужна
помощь. Но никто ему не поможет, так как старикам не помогают, а их убивают.
Анела, ты была рядом со мной, ты любила меня, твоя улыбка светилась при
виде меня. Куда ты исчезла? Твои шоколадные волосы и высокие коленки, наше
море, по которому мы с тобой уплывали на коммерческом матраце, - ты все это
помнишь?
Анела согласно кивнула головой и поправила мой черный шарф, усыпанный
еловыми иголками и снегом.
- Я так и думал, что ты, первая, придешь ко мне, Анела.
- Скалигер, с тобой нехорошо. Ты можешь потерять не только меня, но и
нас всех. Хотя ты должен всех потерять, тогда тебе станет значительно лучше.
Ты хоть немного понимаешь, что с тобой происходит?
- Если бы я не понимал, я бы не был Скалигером. Из вас никто не спасет
меня. Даже, наоборот. Странное поведение многих моих фантомов на этом
острове заставляет меня держаться настороже. Я боюсь своих созданий. Бог
боится своих созданий!
Я рассмеялся.
- Придет тот час, когда на этом острове не останется никого: ни меня,
ни вас, тем более, ни Щуги с его Лизами и Аграфенами, ни генерала, ни
полуреального Платона. Будет большая пустота. Ты знаешь, что такое большая
пустота, Анела?
- Знаю, знаю, мой дорогой Юлий.
Фора нежно наклонилась ко мне и поцеловала в бледную иссохшую щеку.
- И ты здесь, Фора?
- Не только мы, но и твои друзья Жакино и Пьер.
- Я думаю - и Николь недалеко, и Грета близко, и, конечно же, Аркадий
где-нибудь уже сук ломает и бьет им зайца, а рядом с ним стоит и поучает
Омар Ограмович. Эх, дорогие мои! Вы так и не смогли меня бросить. Но почему
не видно Алексея Федоровича?
- Алексей Федорович больше к нам не придет. Он не может покинуть
недостроенного моста и, периодически прыгая с него вниз, меряет глубину
реки, чтобы увести всех с этого острова.
- Чем же ему этот остров не нравится? - спросил я Арона Макаровича
Куриногу.
- Алексей Федорович предполагает, что на данном острове не может
эволюционировать нормальная жизнедеятельность мозга. Условия здесь таковы,
что все время встречаются какие-то побочные эффекты, которые самым
разрушительным образом воздействуют на интеллект. Он говорит, что это даже -
не остров, в бездна, в которой карабкаются беспомощные организмы, вроде
наших.
Алексей Федорович, я читал твои труды, читал их, когда ты писал
полуголодный, согревая свою макушку бархатной шапочкой. Я верил, что ты,
уйдя в абстракции, будешь не столь жесток по отношению к реальному миру, что
ты его пожалеешь, вот такой ущербный, изломанный жизнью и нежизнью, но ты не
пожалел, ибо для тебя правда, объективная и никому не нужная, важнее всего.
Ты стоишь на мосту, прыгаешь в ледяную воду и что-то соображаешь за
всех нас - диких и молчаливых людей. А мы здесь, в этих лесных зарослях
что-то предполагаем сделать, чтобы не так печальна была действительность,
чтобы всем было, по крайней мере, плохо одинаково. Я позвал Омар Ограмовича.
- Учитель, я долго не говорил с тобой. Ты учил меня принципам, ты в
глубине времен ждал столетиями моего прихода, ты гнался за мной всюду и ты
не раз умирал на моих глазах. Ты не менее Бог, чем я. Ты один - не фантом из
этого окружения. Ты должен спасти этот остров. Ты должен убить Алексея
Федоровича и принести мне его скальп.
- Юлий, твои галлюцинации приводят тебя к крайностям. Я говорил, что
наш с тобой конец будет обозначен здесь. Но, если ты не боишься этого, я
готов сделать то, что ты велишь.
- Иди, Омар Ограмович.
Сколько людей ученых, а сколько людей неученых? Так я - за большинство.
Я за неученых людей, не блуждающих в придуманных мирах и живущих тем, что им
посылают природа и бог. Вот Аркадию природа послала жирного зайца и он нежно
делится с Лией Кроковной его зажаренной ножкой.
- Ой, Аркадий, какой вы умелый и ласковый! А я всегда думала, что вы не
годный ни к чему спортсмен.
- Вы обижаете меня, Лия Кроковна, - сказал он, смущаясь Стоишевой и
придвинулся своими мышцами к ней поближе. - Если бы вы знали, как я мечтаю о
вас в своих девственных снах.
- А я о вас стала мечтать в своих недевственных снах. Куринога оказался
такой пошляк и скареда, что мне с ним не по пути.
Пойдемте за деревья?
А как же заяц?
- Возьмем с собой.
Все в теле Аркадия дрожало. Только они оказались за плотным кольцом
лесного массива, Аркадий стал быстро раздеваться и остался в чем его родила
когда-то мать. Он с удивлением смотрел на свое произведение между ног, от
этого же произведения не отрывала лукавых глаз и Лия Кроковна. Она встала на
колени перед Аркадием и сжала его двумя руками. Аркадий весь заполнился
детской истомой и боялся пошевельнуться. Стоишева стала его лизать, потом,
нализавшись вволю, положила юношу на спину и села на него верхом. И вдруг
запела песню. Странную такую, давнюю и лиричную: "Зачем вы, мальчики,
красивых любите?". Аркадий не понял, что это песня, вскочил с места и
подхватил на руки Стоишеву и стал ходить с ней, возбужденный, по снегу и
уговаривать: "Милая, милая, я люблю тебя всякую и навсегда".
Скалигер все это видел. Но ни один мускул не пошевелился на его лице.
Он стал думать, откуда в его голове могли взяться эти влюбленные и вспомнил:
когда он был маленьким, то жили они в коммунальной квартире. В их квартиру
вернулась из тюрьмы одна весьма интересная особа, якобы пострадавшая от
сталинских репрессий, хотя соседи говорили, что она сидела за то, что
продавала крашенные ковры. И вот, когда все уходили, она специально кричала
Юлику: "Юлик, ты не выходи, дверь в ванну открыта!". Большего соблазна я не
испытывал более никогда. Я наклонялся к замочной скважине и видел что-то
потрясающее: красивое, мясистое, кроваво-красное, набитое густыми черными
волосами. Вся дверь обливалась какой-то жидкостью. Но я ни разу не осмелился
выйти сам. Лишь однажды, она как будто почувствовала или услышала мое
горячее дыхание и прямо пошла к двери и распахнула ее. Взяла меня на руки и
начала целовать, прижимать к своей душистой сильной груди, засовывать
крупный малиновый сосок в рот, теребить то, что у меня уже немного
приподнималось. Она утащила меня в свою широкую постель и раскинула ноги, и
я тогда убедился, что мир - это не объем, это - не плоскость, что мир - это
расщелина, бездна, которую не видно, но которая постоянно и неустанно нас
зовет, и молодого, и старого человека. Она заставила лизать эту расщелину,
изгибалась, охала, распустила на подушках пышные черные волосы и стонала. А
я, как кролик или крысенок, работал и работал язычком. И вдруг почувствовал,
как из этой расщелины течет сладкий малиновый сок, только бело-студенистый,
как кисель в детском саду. Каждый день, когда отсутствовали родители, мы с
ней только этим и занимались. Она была противницей мужчин, называла их
скотами, грязными свиньями, и сама с большим удовольствием вылизывала мою
грудь, ноги, подмышки, попку. Если бы я помнил ее имя, то я бы сейчас
непременно восстановил ее. Но я забыл. Я помню все, но я все забыл. Остались
какие-то монстры, которые не понимают меня, а только кружат вокруг меня, как
мухи.
Если бы знали, как скучно читать романы, как скучно все подгонять друг
к другу, вырисовывать характеры, определять сюжет, выдерживать фабулу. Слава
богу, что то, что я пишу, это и не роман вовсе, а большое и непонятное,
растянувшееся на сотни страниц нечто о чем-то: обо мне ли, о моих ли
галлюцинациях, а, может, о реальных лицах. Надо забыть, что мы живем в
размеренном мире, что все люди подчинены, нет - не правительству, не глупым
чиновникам, не умным и крутым мафиози, мы все, без исключения, подчинены
времени, а проще - часам. Так порой не хочется уходить из сновидений, даже
страшных, потому что там может быть все, что угодно, и без трагических
концов: там может быть потрясающая любовь, потрясающая идея, да мало ли что!
Во сне даже за совершенное убийство не отвечают, тем более за самоубийство.
Как бы я хотел вернуться навсегда в сон, в это блаженное состояние
человечества, а мне приходится таскаться по острову и вспоминать невесть
что.
Мой мозг носил меня, как воздушный шар, по берегам и океанам моих
бесчисленных грез. Они, единственные, принадлежавшие только мне, хоть как-то
определяли мое бытие на этом острове, который неожиданно для меня приобрел
размеры Земли, потом вселенной. Или только так казалось моему всевластному
сознанию. Еще множество персонажей толпилось за кулисами его, просилось
наружу, хоть словом, хоть репликой заявить о себе. Я не мог сдерживать их
напора. И большинство из них вырвалось вперед.
Ты долго собирала деньги, чтобы летом уехать с мужем, который с тобой
не живет как с женщиной вот уже много лет. Ты тратишь деньги, и немалые,
занимаешь, выкручиваешься, чтобы вывезти его на влажный песок, к морю, чтобы
оставить меня среди пыльных зданий, вульгарных женщин с похотливыми глазами
и трусиками, врезавшимися в тонкий кошачий зад, которым они постоянно манят
меня и соблазняют в метро, в автобусе, на улице:
- Извините, вы не знаете, как пройти налево?
И стоит, и хлопает наклеенными ресницами, и облизывает губы, готовые
впиться в тебя и высосать все, что имеется в твоем организме.
А помнишь, как мы с тобой забрели в кафе? Потом уже, пьяненькие, пошли
к твоей подруге, у которой оказалось двое детей, собака и не оказалось мужа.
Коньяк лился рекой. Подруга, задрав юбку до великолепных атласных трусиков,
исполняла лирическую песню, а ты, поймав меня на кухне, куда еще не проникли
ни дети, ни собака, заставила овладеть собой и, пока я это делал,
лихорадочно курила сигарету и смотрела в окно, возможно, предполагая, что
там, за окном, стоит твой ревнивый немощный муж и тоже испытывает оргазм,
который испытываю и я. О! Ты умела вытворять подобные штучки. Но имя твое я
предам забвению. Никто и никогда не узнает, что, с любопытством прочитав
маркиза де Сада, на следующий день ты встретилась со мной и, вся дрожа,
заговорила о недостаточности наших отношений. Я все понял. Ты вошла в
литературный раж. Да, ты была той, одной из немногих женщин, которая
воспринимала слово как плоть, как основу реальной жизни. И если я тебе
говорил "ложись", то ты "ложилась" не просто на спину, ты ложилась всем
своим существом, кишками, позвоночником, мозгом, всей атрибутикой, которую
дала тебе природа. Ты широко открывала карие с мохнатыми ресницами глаза и
словно спрашивала: "И что теперь?" Засранка! Я всегда оказывался в нелепом
положении совратителя, учителя и тому подобной мерзости. Я никогда не
чувствовал в тебе партнера. Ты только давала и давала все, что могла.
Больно, не больно, гадко, не гадко - бери. И я брал. И мне было противно.
Словно я обожрал сироту, которой есть нечего. Ты потом всегда иронизировала,
когда прихорашивалась, когда красила лицо, губы, ресницы, и становилась
опять недоступной и желанной. Ты, видно, этого-то и добивалась. Звонила мужу
на работу и говорила, что сейчас выходишь от подруги и направляешься к нему,
чтобы вместе с ним провести обед, а сама, тем временем, покачиваясь на
стуле, так аппетитно оттопыривала задницу, что я рвался, как бык, на тебя,
срывая платье, трусики и внедряясь в черную бездну восхитительных ощущений.
Ты ладошкой прикрывала трубку и стонала, и шепотом говорила своему
подонку-мужу: "Я так тебя люблю. Ты такой сильный, такой нежный, такой
чудный и неотразимый мужчина". У твоего телефонного визави наверняка мокли
брюки от подобных признаний, я же трудился, как тракторист, над твоей пышной
задницей и корежил ее, и мял, и не мог насладиться. Время летело, как для
космонавтов. Не успел обернуться, а уже сутки миновали. Ты мучила меня. И
вот ты уезжаешь. Звонишь, предупреждаешь, что тебя не будет несколько
недель, что ты уезжаешь на юг, где ты будешь так же надувать мужа с
каким-нибудь новым ромео. Милая сука. Я ведь тоже люблю тебя. И ты реальна,
но и фантомна. Потому что я не знаю, когда ты захочешь увидеть меня, когда
ты захочешь подсунуть мне свою полупьяную подругу и подразнить свое женское
самолюбие. Ты для меня не кастальский источник, ты сексуальный источник, ты
тревожишь еще мою плоть, только одной тебе это удается, да и то тревожишь
прежде всего через больной мозг, влияешь на него словом, как раскаленной
иглой, и мозг подымает все, что может принести тебе как женщине
удовольствие.
- Что ты хочешь здесь, на острове? - спросил я тебя.
- Мне любопытно смотреть, как ты деградируешь. Ты считаешь, что твои
обрывочные, претендующие на поставангардистские измышления, писания на
кого-либо произведут эффект? Ты ошибаешься.
- Я это знаю. Я знаю, что чтение этого трактата, начатого моим
двойником, наоборот, будет скучным и никчемным. Но я знаю также и то, что ты
уже, как приколотая пером Набокова бабочка, не вылетишь с этой прожорливой
страницы. Я волен: зачеркнуть тебя или оставить надолго, а, может, и
навечно. Я до сих пор еще не решил - где фантомы, а где люди. А тем и другим
- все равно, что им дают читать, лишь бы было много приключений, истории,
секса, много было личных тревожащих душу и плоть воспоминаний. Вот я захочу
и раздену тебя при всех. Я вижу твою грудь с мохнатыми закручивающимися
волосками вокруг малиновых толстых и крупных сосков, твой гладкий живот,
твою разросшуюся, почти мужскую растительность и вмещающую в себя
значительную часть волос черную и одновременно красную и бордовую щель. Твои
плечи ежатся от холода, твои гладкие прохладные ноги покрылись мурашками,
твои губы полураскрылись и ты готова к любому приходу любого мужчины. Ну
как?
- Ты дурак. Я тебя жду. Возьми меня.
- Может все-таки назвать твое имя?
- Я тебе сама подскажу!
- Не уверен.
- Что ты знаешь о женщине? Ты, который путает Фору, Анелу, Лизу и
сиамскую кошку. Ты, который совокупляется с придурковатой Капитолиной,
пускающей слюну, а потом не избегаешь даже контакта с мертвой соседкой отца
Ангелиной Ротовой.
- Да ты знаешь все мои прегрешения?
- Почти... Я знаю, что у тебя есть чистое неведомое тебе отношение к
женщине, которую ты никогда не встретишь, разве что на этом острове и то
только в последний момент. А момент твой будет страшен. И он скоро, очень
скоро придет.
- Я выпустил тебя из мозга, только для того, чтобы ты видела жуткие
вещи и пугала меня. Но ты ведь знаешь, что это невозможно, ведь я Бог. Вы
избрали меня сами на этой земле, на этом острове.
- Когда ты просыпаешься, о чем ты думаешь?
- Я думаю о том, что напрасно я проснулся, ибо мир наваливается на меня
и дает мне пищу. Которая мне не лезет ни в рот, ни в голову. Мир противен,
мерзок, ничтожен. На душе дыра от тоски, которая выросла за ночь, и
приходится ее целый день залечивать тем, что, бродя среди других тебе,
подобных, понимать, что ты не в единственном числе.
- А я, когда просыпаюсь, то смотрю на лицо своего не любимого, но
больного мужа. И мне радостно. Мне есть о ком беспокоиться. Есть о ком
думать и есть кого обманывать. Знаешь, как это помогает! Иметь такого
неприхотливого человека-куклу, который всему верит, всем доволен, все
слушает. Это просто прелесть. Я его за это и люблю. Вот сейчас повезу с
твоего острова в теплые места, положу его на песочек, он у меня
представительный, толстый, важный. Ляжет на песочек и будет чему-то
улыбаться, даже, когда я откровенно буду флиртовать с аборигеном.
- Я завидую тебе. Я бы даже поехал с тобой. Оторвался бы от этой слизи,
которая тянется за мной многолицевым шлейфом и все время напоминает то, что
я безумен, то, что я Бог, то, что я... Другой, совсем другой, чем вы все. У
меня столько монстров позади, столько диких физиономий выглядывает из-за
моего плеча, которых ты просто не замечаешь. Ужас.
- А зачем же ты оказался на этом острове? Россия, кажется? Так?
- Ты так говоришь, как будто впервые слышишь это название.
- Россию слышала, но чтобы остров-Россия - нет.
- Ладно, пойду я. А то Терентий догонит. И опять изба, опять щи, опять
Лиза и прочая фантасмагория, которой не поймешь ты. Но прошу тебя, меня не
забывай, помни. Ведь я всегда делал то, что ты хотела.
Женщина без имени исчезла, как звезда, как лопнувший детский шарик.
Какой я дурак, думал я, идя по непроходимой тайге. Ведь совершенно
спокойно мог бы улететь вместе с ней, с ее энергетической сущностью и
избавиться от многих ненужных мне вопросов и проблем. Я что - хочу стать
губернатором этого края? Какая нелепость. Я бегу, признаюсь себе, бегу от
кошмаров, от людей, которые выдуманы мной и которые меня на этом острове
могут уничтожить. Есть только одно место на острове, где меня никто не
тронет, не побеспокоит, а сохранит и вылечит мою душу. Там живет моя бабушка
Прасковья. Село Богоявленское. Только там я буду в безопасности от всех.
Помню, как родители меня привезли к ней на лето. Небольшая комнатка,
две кровати, подпол, низкие окна. И большой портрет, на котором неизвестно,
что было нарисовано. Бабушка мне сказала: "Вот если подойдешь к нему и
ласково спросишь конфету, то он тебе ее даст." Я ласково попросил конфету у
портрета, и он мне ее кинул. Потом уже я догадался, что это сама ловко
проделывала бабушка. Но портрет не был столь прост. Когда все улеглись и
захрапели от выпитого самогона и жареной курицы, я подошел к портрету и стал
на него долго смотреть и увидел свой портрет: бесцветные глаза, бледное
лицо, легкие ключицы, черный шарф через шею. Я понял, что если когда-нибудь
вернусь сюда, то через это место и исчезну.
Прасковья умерла в этом же году, избу заколотили и уехали с острова в
город, где через определенное время ушли от меня мать и отец. Я остался один
и еще к тому же сошел с ума. На что я жив, чем я живу, как я живу - никто
ничего об этом не знает. Я метался по странам, по воспоминаниям, по читанным
и нечитанным страницам любимых и нелюбимых книг, я вспоминал все, что грело
мое сознание каким-то успокаивающим теплом. Но жизнь среди людей оказалась
невыносима. И тогда я понял, что я не человек. Я не тот. У меня страшно
болела рука, я натянул перчатку Акима Пиродова, а рука горела и горела и
стала так гореть, что и в самом деле могла жечь и прожигать любую вещь,
любой организм. Как мне вернуться в человеческое состояние? Зачем мне
глубинные походы во Францию, зачем и откуда в моем мозгу взялись Монтобраны,
мессиры, лиловые ноги Николь, официанты-негры с отрубленными языками, откуда
мне привиделась Грета и Германия - это клубок ненормальной жизни?
- Ты не уважаешь принципы? - обратился ко мне Омар Ограмович. - Ты
хочешь, чтоб твою родину уничтожили, ты хочешь жить сыто и красиво, а нам
вести за тебя твое дело. Так получается.
- Не раздражай меня, Омар Ограмович! Прошу тебя!
- Ты щенок, а не Бог. Ты убежал тогда от меня, когда умер твой отец. Я
не смог сделать из тебя обыкновенного галлюцинатора. Ты стал обычным
шизофреником. Я ошибся.
Я всегда с собой носил нож. Острый, небольшой, китайский. Лезвие его
выскакивало быстро и со щелчком. Я подошел к Омар Ограмовичу и внимательно
посмотрел ему в глаза. Там была бездна. И она мне показалась очень знакомой.
Я быстро выхватил нож из кармана. Раздался щелчок. И лезвие вошло в глаз
Омар Ограмовича.
Он наклонился от боли. И потерял сознание. Я начал вырезать сначала
раненый глаз, потом живой. Они переливались. То были не глаза: то были
какие-то кристаллические со многими гранями шары, в которых переливался и
солнечный, и лунный, и еще какой-то неведомый свет.
- Что ты сделал?! - закричал очнувшийся Омар Ограмович.
- Молчи, пока не разделал окончательно.
Я приставил склизкие глаза его к своим. То, что я увидел, не
поддавалось передаче обычными словами. Я оказался на том же острове, но он
же был и другой. Стояли высокие белые дома, окруженные фруктовыми деревьями,
пели на ветках райские птицы, бегали свободно животные, ласкаясь и тыкаясь в
ладонь. Небо было светло-голубым, и на нем светило умиротворенно мягкое
солнышко, доброе и ласковое. Я пошел дальше, оставив извивающегося от боли
Омар Ограмовича. Потом решительно вернулся и хотел заколоть его суком. Но
его уже не было, только какая-то черная блестящая падаль уползала в кусты,
зарываясь в землю.
Расправившись с основным своим другом-врагом, который преследовал меня
на протяжении всего моего галлюцинирования, который только и говорил о
светлой, но испохабленной мной самим памяти моих родителей, я через его
глаза смог увидеть ту землю, которой она была по-настоящему. Я шел вперед,
прижимая кровавыми ладонями его глаза к своим глазам, и не мог оторваться от
чудесного мира, мира, который преобразовывался передо мной ежесекундно.
Исчезли холода, исчез снег, расцвели пышно зеленые кусты и деревья,
заволновалась вся трепетная хлорофилловая жизнь, и я понял, что человек
никогда и нигде не бывает один, даже если он идет по забытой Богом дороге, и
даже если он сам Бог.
Я снял с левой руки лайковую перчатку и увидел тяжелые розово-багровые
пятна и язвы мокнущей экземы. Никому дела не было до того, что я мучаюсь,
что я испытываю огонь и дергающую страшную боль в руке. Врач, который
однажды бинтовал мою руку, предварительно намазав ее какой-то вонючей
зеленью, плакал. Я запомнил того врача и берегу его в памяти, потому что мы
все из нее выбрасываем - и добрых, и злых, хотя последних реже, они
впиваются в нашу душу и травят ее до конца, эти дохлые животные
человеческого сообщества.
Врач был молодым и слабым. Он вытер слезы, похлопал меня по плечу и
предложил выпить мензурку спирта. Мы сели за столик, покрытый марлей, он
выгнал медсестру из кабинета и сказал мне нежным голосом:
- А ты знаешь, что от таких вещей умирают?
- Нет.
- Нет, но ты представь, что если такое творится снаружи, то что тогда
происходит внутри ?
Что мог я ему ответить. Я выпил мензурку спирта и налил еще ему и себе.
- Тебя как зовут?
- Петя Калибанов.
- Так вот, Петя Калибанов, разве дело в том, что я умру сегодня-завтра,
а ты на несколько десятилетий позже? Разве что-нибудь существенно изменится
на этом острове? Вряд ли. Да нет. Ничего не изменится. И на кладбище ничего
не изменится, только обветшают кресты, да места станет меньше, да могилы
дороже, да вороны будут тяжелее летать, обожравшись человечиной. Я выколол
глаза своему призраку и Учителю, который насиловал меня с малых лет, который
провожал меня по разным временам и эпохам и говорил, что я ничтожество, что
нечего жить ничтожеству в таком мире, а ты посмотри, как этот мир прекрасен!
Я протянул ему склизкие крупные глаза Скалигера. Петя Калибанов с
мерзостным смущением на лице прилепил их к своим глазам и воскликнул: "О! Да
мы с тобой не спирт пьем, а дорогое французское шампанское! И вокруг девицы,
и красивые такие, такие изящные и так одеты, как от Юдашкина и Зайцева
вместе взятых. Вот ребята устроились: всю жизнь за государственный счет
одевают и раздевают самых лучших девушек нашего острова.
- Калибанов, тебя куда повлекло? Ты посмотри шире на вещи!
- Я и так смотрю. Вот мой кошелек. А в нем не тридцать рублей, а три
тысячи долларов. Теперь я смогу поехать в отпуск куда-нибудь на Канарские
острова и прихватить с собой девочку Жужу.
- Кто это такая?
- Да одна несчастная полувенгерочка.
- Расскажи мне о ней.
- Да ничего особенного, - Калибанов положил глаза на стол и обернул их
тряпочкой. - Была у нее мать, спилась, шаталась, потом решила продать
квартиру, да нарвалась на чурок, ну, естественно, ни денег, ни жизни.
- А где же теперь Жужа живет?
- Я взял ее к себе, пока моя мама в больнице лежит. Я ничего не говорю,
но ведь надо как-то помочь.
В дверь кабинета постучали.
- Кто там еще? - добро и расслабленно спросил Калибанов.
- Я думаю - это за мной!
Опираясь на Платона и генерала, стоял обезглазенный Омар Ограмович,
который опять приобрел довольно приличный старческий вид и указывал на меня
скрюченным пальцем, говоря: "Прошу помочь, господа-товарищи, вот что он
вытворил! Вы видите мои глаза в марле на столе. Он мне их садистски вырезал.
Прошу помочь".
Я было рванулся с места. Но крепкие руки отожравшегося и мясистого
Платона взяли меня подмышки и поволокли за собой, как какую-то тряпку. А
Калибанова просто оттолкнули да так, что он, ударившись о дверной косяк,
упал замертво. Что будет делать его Жужа, что будет делать его бедная
больная мама? Что им надо было на острове и зачем они родились, чтобы
Калибанов мог выслушать от меня белиберду и выпить мензурку спирта, да
поплакать над моей гниющей рукой? А что мы все делаем, как не жалеем друг
друга, даже не признаваясь в этом? Идем, смотрим друг на друга и думаем, вот
пройдет несколько лет, и ты, сосед, помрешь, а, может, и я, так что делить,
давай лучше почаще одалживаться друг у друга и забывать долги.
Меня посадили в клетку, металлическую клетку, помещенную на телеге.
Клетка была из обычной нержавейки, для перевозки тары из-под молочных
продуктов. Что они могли сделать со мной, Богом, я даже не представлял.
Вызвать попа, который бы меня стал приводить в разум, вызвать родителей,
которых они же и отправили на тот свет непомерным трудом и ежедневной
борьбой за жизнь? Нет, лучше бы вызвали первую учительницу по литературе,
которая изредка приходила в школу и вела уроки вместо Омар Ограмовича. Весь
класс, с изнеможением, смотрел на ее иудейскую красоту, на алую полоску губ,
на гордый носик, на тонкую талию, с высокой попкой, безупречно обтянутой
черной юбочкой, а особенно нравилось всем, когда она ходила по классу: мы
только и слышали ее размеренные каблучки, осторожные такие, неспешные.
Однажды она почему-то подошла ко мне, взглянула на руку в перчатке и
погладила по голове. Где вы, Анна Матвеевна Рабер? Вы-то реальное лицо.
Вы-то можете всем сказать, что я был очень талантливым мальчиком, вы любили
меня. И об этом сказали моей тогда еще живой маме. Она приходила проверять,
как я учусь. А вы сказали ей о моем сочинении, а потом, что вы очень меня
любите, и если бы я был хоть немного постарше, вы бы перевелись в другую
школу и забрали меня с собой, потому что Омар Ограмович очень нехороший
человек. Очень.
- Да чем же он плох, милая Анна Матвеевна?
-Он заставляет его быть выше и ниже всех. Вы меня понимаете?
-Пока нет. Наша семья живет в странном мире. Отец не выходит из
больницы -по ночам кричит, он же воевал и на самом страшном участке. А я,
знаете ли, не люблю Юлия. Хотя глупо это. Но он мне, как чужой. Да и рожала
его я очень тяжело. Не то что не люблю, но очень он самостоятельный.
- Ну тогда отдайте мне его. Отдайте.
- Я не имею права, милая.
Я слышал ваш этот разговор. Но я бы не пошел с вами, Анна Матвеевна. Вы
потом все равно уехали с острова, уехали туда, откуда можно смотреть на всех
нас, как на дураков. Пусть я буду таким дураком. Пусть меня другие дураки
везут в железной клетке и придумают какую-нибудь мерзкую казнь. Но они не в
силах изменить что-то. Вы понимаете. Пошел галлюцинаторный процесс. Уже ни у
кого ничего нельзя остановить. Сдвинулось время и потекло. Куда и зачем -
это второй вопрос. Помните Пушкина: "Куда ж нам плыть?". Это - не главное.
Главное - плыть. И все же я не смог окончательно вот так с вами расстаться.
Я выследил, когда вы были одна в учительской и бросился к вам на шею. От вас
пахло французскими духами, тонким запахом иерусалимских камней и орехом. Я
никогда не забуду этот запах женщины, которая свела меня с ума в детстве. Вы
целовали меня, прижимали, тискали, смеялись, и ваши великолепные зубы были
превосходны.
- Уедем, Юлий, уедем, ты здесь погибнешь.
- Я не могу. Я должен пережить смерть родителей, я должен создать рой
фантомов, попытаться из них хотя бы сделать нормальных людей, я не смогу,
потому, что я там буду один. А ты погибнешь в авиакатастрофе. Я даже вижу,
как ты, израненная, будешь лежать на белом снегу, обнажится твоя наполовину
окровавленная нога и белая ягодица и жуткий чукча, испробовав тебя на
живучесть лыжной палкой, расстегнет свой тулуп и изнасилует. Как? Больно?
- Я не могу сдержать слез. Ты видишь все. Но я этого не страшусь. Во
всяком случае до этого момента мы будем вместе. И ты, может быть, сможешь
мне чем-то помочь?
- Я могу тебе сейчас помочь. Какая ты Анна Матвеевна - ведь ты Николь.
- Боже мой! - только и сказала Рабер и тихо отошла в сторону.
- Для меня все кончилось. Моя голова превратилась в сгусток, в котором
происходят разнообразные интересные и пугающие процессы.
- Но как же твой трактат о слове? Ты зачем писал его?
- Я его присвоил от сущности Скалигера. Я вошел в его образ, а он вошел
в мой. Я вызвал его, а он зовет мой обратно. Но обратных путей нет. Россия
никого никогда не отпускает обратно. Россия - это смерть.
А ты все плаваешь в феодосийском море. Кушаешь всякие сладости,
наслаждаешься солнышком, разглядываешь с любопытством, что же скрывается за
плавками молодых мужчин, которые нарочно все чаще и чаще проходят мимо тебя
по горячему песку пляжа. Если бы они знали, что ты любительница маркиза де
Сада, то непременно бы накинулись на тебя скопом и доставили тебе
удовольствие. Но это знаю я, а я далеко, в этой чертовой России, на этом
острове, который сам себе изобрел, как символ, и теперь живу в этом символе,
и боюсь за него, создавая попеременно то отталкивающие, то добрые образы из
сказок своего больного ума.
Посадили в клетку. За что? Отпустите, сволочи! Почему у нас, если
кто-то в форме, за которую я плачу налог, он же меня в клетку и сажает. Что
за порядки? Приказываю отныне всем ходить в цивильном.
- Вы это правильно заметили, - сказал Арон Макарович Куринога.
- Куда ж вы подевались, Арон
- Да мы как-то с Лией Кроковной заплутали в дебрях любви. Вы истинный
писатель, Скалигер! И это я говорю серьезно и глубоко.
- Благодарю.
- Не надо благодарностей. Я теперь понял, куда вы всех нас рожденных
вашим гениальным умом завели. Вы показываете нам Россию? А чего на нее
смотреть? Вы что: Радищев, "Из Петербурга в Москву"? Вы что: " Пострашнее
Пугачева "?
- Не издевайтесь.
- Я просто хочу сказать, что вам пора от всех нас избавляться. Иначе
будет плохо. Вы нас расселите. Вас убьют и некому будет заниматься
ассенизаторством.
- Как же мне избавиться от вас, если я сошел с ума? Даже Платон,
которого я искренне ненавижу, - стал реальней реального. Посмотрите на его
рожу. А то, что они вместе с генералом, который помог Платону, засадили меня
в клетку? Это что? Выдумки?
- Вы забываете, что вы Бог, милый Юлий. Ваша субстанция возвышенна. Что
бы с вами ни случилось здесь, вы прекрасно будете себя чувствовать в другом
месте, вот где - не могу сказать.
- В серафических слоях атмосферы?
- Возможно. Там ваши родители. Вам поможет Петр Калибанов. Он хоть и
молодой врач, но делает сложнейшие операции. Поверьте мне.
- Я вам верю. Я верил и верю во все то, что напечатано. И старался
всегда читать только то, что невозможно понять.
- Вот и следствия. А надо б Антошу Чехонте. Без затей.
Недалеко стояли Лия Кроковна, Аркадий с воблой и монтер Кондер. Я
взглянул на них с сожалением. Они все исписаны мной, все рассказаны до той
поры, за которой начинается анархистская человеческая физиология и которую,
может, и в самом деле стоит продолжить. А не читать Антошу Чехонте, как того
советует сытый и удобный Арон Макарович Куринога.
- А я не согласен, Скалигер, чтобы какая-то падаль, типа генерала,
могла руководить мной! Ты прекрасно знаешь мою подлую и счастливую жизнь:
кого хотел - того имел. А генерала я не хочу. Тем более, что это не генерал
- это Гришка Ручинский, спиздивший шинель у Платона. Так ведь?
Я согласно кивнул головой.
- Эй, Платон, пидорас, как говорил наш незабвенный вождь, твой-то
генерал, было время, у тебя шинель пиздил, а ты его поручения выполняешь!
Платон повел оловянными глазами, с него как будто спала какая-то пелена
и он радостно задумался: "А я-то, черт, все интересуюсь, кого это он мне
напоминает? А это Гришка Ручинский".
Платон поймал Гришку Ручинского и стал сдирать с него генеральские
регалии.
- Что ты делаешь, олух, идиот, а еще Платон?
- Ты меня больше не обманешь, сучье вымя. Тоже мне генерал в чужой
одежде. Твоя власть кончилась. Началась моя.
Кондер подскочил к Платону, пнул его в тяжеленный зад и побежал легко и
непринужденно.
- Зачем ты обижаешь органы? - плаксиво спросил Платон.
- А что у тебя еще можно обидеть? Куда кошку дел, засранец?
Кошка. Кошка. Я вспомнил, когда меня взял Платон, после какого-то
необыкновенного соития с чем-то - напоминавшим по своей сути и внешности
кошку.
Все случилось, как в страшном сне. Да, я был близок с Лизой. А потом
потерял сознание, и меня тут же подобрал Платон. А рядом лежала разодранная
кошка. Они преследуют меня всю жизнь. Я с детства бегал за ними по
лестницам, чердакам, песочницам, и все время они убегали от меня. А когда
заводил домой, то они выпрыгивали из окна и разбивались. Они не хотели жить
со мной. Так, чего не хотели: жить или существовать?
Тебе не стыдно плавать в феодосийском море, когда твой поклонник, хотя
и безумный, видит страшные сны, и просыпается, садится за машинку и пытается
передать весь тот ужас, который его заставил кончить легкое пребывание во
сне? А видел я вещь неприятную, будто нахожусь меж трех старух, и старухи
эти обнаженные и охвачены предсмертными судорогами, и ни накрыть я их не
могу, все моментально сгорает, ни помочь ничем. Одна подтянула сизые тонкие
ноги к животу, они у нее пошли пламенем, костлявыми руками раздирает глаза,
которые покрываются, словно пластилином, расплавляющимися веками и кричит:
"Нет, я еще не умираю!". А тебе не стыдно есть сладкие сочные груши, покупая
их по дешевке у носатых симпатичных представителей кавказского племени,
перемигиваться с ними и говорить им невесть что, обманывать, обещать, что
придешь на свидание на гору Суфруджу? Болтушка и раскованная девчонка.
Неужели ты не понимаешь, что твои загорелые ноги в юбчонке, значительно выше
колен, производят на них такое же впечатление, какое, допустим, "Капитал"
произвел на юного Владимира Ульянова. А? Я всегда говорил, что там ходить
надо только в спортивных штанишках. Засранка ты. Уехала. И слова не сказала.
Я, может быть, тоже бы оторвался от всех и катанул вместе с тобой к горам и
морю. Эх! А теперь сизыми серыми утрами, наглотавшись наркотиков, колес, как
их еще называют, я пишу роман, который никак не может кончиться. И не знаю -
почему. В нем нет фабулы? В нем нет героев? В нем нет мыслей? В нем есть
все. В нем нет только, и то пока, конца. Да и не хочется спешить, где еще я
смогу так спокойно, властно и безопасно путешествовать! Что такое Платон,
что такое генерал, что такое Омар Ограмович? Так. Чушь собачья. Хочу - будут
еще ползать по моему произведению, а хочу - нет. Вот тебя захочу и вытяну,
как какой-нибудь старик Хоттабыч, из песка, в мокром купальнике, нет, а еще
лучше из душа, где ты, ничего не подозревая, всегда, уверен, рассматриваешь
свою расщелину и удивляешься: почему же мужики так падки на нее. А я
совершенно равнодушен. Мне не щели твои интересны, мне интересен твой злой
язычок и слишком продолговатый и слишком умный мозг, как у плотоядного
зверя. Готова сожрать, кого угодно, и не подавишься. Ты и мне говорила - мол
не так причесан, денег что ли жалеешь на прическу. Что ж, я пошел и сделал
химию. Ты меня узнала? Нет, сделала вид, что я полудурок. И я их остриг
наголо. Теперь вот хожу во всем черном: шляпа, пальто, брюки, рубашка и
лайковая перчатка. Все, говорю, посвящается тебе, потому что твой любимый
цвет -черный. Мне плевать, с кем ты сейчас вертухаешься в вечерних кустах
Черноморья. Мне главное, чтобы ты думала обо мне.
- О, любимый мой, о, мой сладкий! Как я соскучилась по тебе! Ты такой
дурачок, такой бешеный и ревнивый, что я не могу избавиться от тебя. Ведь
мужики не понимают, что, чем больше даешь чужому, тем больше хочется дать
родному, близкому человеку. Так? Да?
- Это ты откуда голос подала, шлюшка?
- А то ты забыл?
- Постой, постой. Твой душ рядом?
- Ну, конечно.
Алексей Федорович, вы единственный человек, который может утихомирить
дикие страсти острова. Вы тот, кого ждала Россия-остров, вы совершенно
непонятны, вы никем не узнаваемы, вы полностью аполитичны, и вы уже ничего
не хотите. Не так ли, дорогой философ Алексей Федорович? Лосев молчал. Что
ему наши забавы, наши игры! Он по-настоящему велик, хотя я для него Бог.
- Вы, Скалигер, мальчишка! Бессовестник! Вы забрались в такую мозговую
хлябь и теперь просите помощи. Ну, положим, я помогу. А что вы будете делать
с этим пространством, на которое по своей несмышлености набрели и на котором
насажали своих фантомов? Ведь это не шутки. Вам правильно сказал Омар
Ограмович, хоть он теперь и ослеп, что вы найдете здесь свой конец, что вам
надо принимать решение: уходить или не уходить с этого острова?
- А что вы посоветуете?
- Оставьте все Терентию. Он - мужик. Это он создал "Отделение No 6" и
всех туда загоняет, как зверей. И правильно делает. Нельзя, чтобы на таком
пространстве предавались анархизму, галлюцинациям и вечному празднеству
мысли.
Пожалуй, я уйду с острова. Мне не жаль. Он всех моих фантомов
переловит, и вас в том числе, и засунет в клетку, и с Аграфеной будет огурцы
солить и мясо жрать. Не для того я выполз из матери, чтобы свое кровное
отдавать, мы с ним еще встретимся и решим эти вопросы.
- Вы что, не понимаете, что станет с этим пространством? Сейчас - хаос,
но он продуцирован мной, одним, а потом будет знаете что - колья и клетки
Терентия. Едрена вошь, как он выражается. Русский народ нельзя допускать до
власти никогда. Он все перепохабит, все переломает, увлечется идеей и всех
за собой поведет, да так далеко, что обратной дороги не сыщешь. Просто ему
периодически надо рассказывать сказки: о мире, о войне, об экологии, об НЛО,
о мафии... И ему будет очень хорошо. Он будет голодать, страдать, получать
мизерные деньги, но будет горд тем, что живет. Нельзя ущемлять никаких его
интересов, иначе он просто набьет тебе морду и не заметит, как это сделает.
А вы, Лосев, идеалист. Ваши тома мудрости заглатывают сокровенное в
человеческом бытие, но не дают опереточного знания жизни. А тех, кто именно
так понимает жизнь - их 90%. Не надо плевать против ветра. Вы уже видели,
как наши орлы устроили дуэль. То-то.
Алексей Федорович отошел от меня. Сел на пенек. И загорюнился.
- Я, может быть, и не все так реалистично понимаю, но чувствую
надвигающуюся катастрофу. Уничтожится интеллектуальный оазис, я имею в виду
наш остров. В нем, только в нем, скрыты потенции мысли всей планеты.
- А что мне до планеты? Мои галлюцинации водили меня по Франции,
Германии, Австралии и прочим странам. И что там? То же самое барахло. Много
людей топчет свет, Все хотят уюта, богатства, любви, уважения. Но многие из
них не люди, а фантомы, не мои, предыдущих, подобных мне. Они остались без
руководителя. Он бросил их. Так бросил всех Христос. Ему надо было
уничтожить созданные им фантомные образования и остались бы только те, кто
мог бы ответить за его божественные притязания. Он попытался это сделать. Да
что толку. А Россия - вредная страна. Никто ее не любит, никто за нее не
страдает, никто за нее не примет смерти. Вот объяви сейчас всенародно: кто
хочет отдать свою жизнь за Россию, и она будет дальше процветать. Я думаю
найдется один, да и тот с головой набитой горохом.
Лосеву надоело слушать мои измышления, и он заснул на пеньке, подвернув
коленки. Эх, старичок. Прощай, старичок.
Вот так всегда: посочувствуют, нечто почувствуют, а потом - дрых в
летаргический сон, как Гоголь. Поди теперь догадайся, что хотел сказать этот
долгоносик, когда все твердил - "Лестница, лестница". Другой радетель за
Отечество - совсем из дому убег, не говоря уж об остальных. Были два парня,
которые жили весело, играючи, как и следует жить на Руси - это Пушкин да
Лермонтов. А все остальные - статисты. Не люблю Синявского, а, в основном,
прав старик. Все - пустота. И в Пушкине - пустота, и в Лермонтове -пустота,
и в России - пустота.
Затосковал я. Затосковал по своим родителям. По отцу, по матери. То
были, и казалось, как сказала Лиза, рядом, а теперь опять обман. Где же вы?
Видите ли вы меня? Понимаете ли вы, что ваш сын сошел с ума? И говорит
неведомо с кем и неведомо о чем. Дайте хоть знак какой, может, я смогу хоть
немного отвлечься от тяжелых и больных мыслей, которые изъели мой мозг и мою
ладонь. Как больно, когда тебя никто не слышит!
- Не жалуйся, сынок, - ответила мне мама.
- Милая, родная моя! - я кинулся к ней в объятия. И не смог ее обнять.
- Не надо этого делать, ладно.
Я согласно закивал головой.
- Мы смотрим за тобой. Ты носишься по свету с какими-то странными
личностями. И брата убил. А что он сделал тебе? И соседку. И глаза учителю
выколол. И сейчас скрылся от врачей в какую-то глушь. И кошку изнасиловал.
Ты больше не сможешь так долго быть здесь. Ты много натворил
безнравственного, ложного, гадкого. Я понимаю, что это от безумия, которым
ты заразился после нашей смерти. Ты возомнил, не без воздействия своего
трактата о слове и Омара Ограмовича, что ты великий человек. И твой мозг
лишился определенных границ, которые позволяют ему жить в этом мире. Но это
не так. Я не могла забеременеть, и мне он помог, чисто хирургически. Ты от
семени отца.
- А где отец?
- Сейчас он появится. Он зашел в магазин купить тебе что-нибудь поесть.
Ты же не ешь уже более года.
- Я не понял!
- Ты лежишь в палате шестой, где лежат все пациенты, подобные тебе.
- Вы не умерли?
- С чего ты взял? Мы живы и здоровы. Мы работаем. Отец вот продает
газеты по вечерам. И неплохо зарабатывает. А я получаю хорошую пенсию. Нам
хватает, чтобы и жить, и платить за тебя.
- Я что - в клинике?
- Я бы не стала так говорить. Ты на острове. Там, где все такие, как
ты.
- Я прокаженный?..
- Да...
Я разрыдался. Значит, все, что я думал, все, чем жил, о чем размышлял,
по чему тосковал, - это лишь плоды прокаженного сознания.
- А как же Россия?
- С ней все в порядке.
Пришел отец, запыхавшийся, старый, усталый. В руке у него была авоська,
набитая фруктами и из нее торчал батон хлеба с отрубями.
- Ты ведь так любишь, сынок?
- Отец, ты не обманываешь меня, ты жив?
- Мама тебе говорила? Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
- Ответь мне, отец! Ответь.
- Сейчас, сейчас, дай передохнуть...
Он сел на стул, предварительно скинув плащ, достал коробок спичек,
сигареты и закурил. Он жалостливо смотрел на меня. И в то же время я помню,
как он тогда еще, когда хоронили, пытался что-то сказать. Такое же выражение
было у него и сейчас.
Я протянул руку в лайковой перчатке к его сигарете. Он помог снять мне
перчатку и я увидел окровавленный, залитый гноем кусок мяса.
- Это все, сынок! Ты меня понимаешь?
Он подошел ко мне, поцеловал. И быстро вылил на меня целую бутылку
бензина. Коробок вспыхнул, как факел. Одеяло, простыня, моя одежда и он
слились в одном неудержимом огне.
- Уходим. Уходим, милый мой, отсюда. Навсегда. От всех.
Охваченные кольцом бушующего пламени, мы блаженствовали. Я чувствовал,
как в нем прыгали Грета, Анела, Лиза, Флора, Ликанац, Куринога и
многие-многие сотворенные мной персонажи больного мозга.
Один Омар Ограмович стоял посреди дымного пространства без глаз и
протягивал слепо руки туда, где должна была, по его мнению, располагаться
прекрасная, но ушедшая страна. А может, остров? Ведь французы были не
дураки, коль писали именно так?
- Мамочка, милая моя, живи и не возвращайся к нам. Мы -безумные.
Литературно-художественное издание
Никонычев Юрий Васильевич
Грезы Скалигера
Роман
тех. редактор А.Латур
компьютерная верстка Ю. Эссен
корректоры Р. Келлер, М. Бовуазен
Last-modified: Mon, 14 Jul 2003 03:57:57 GMT
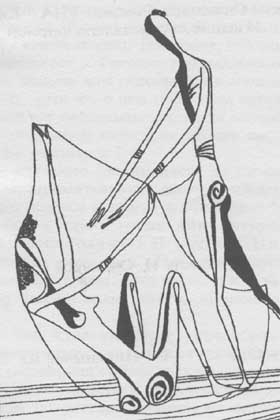 МОСКВА
РИА "КЛАДЕЗЬ"
1998
ББК 84 Р 7
Н 63
Никонычев Юрий Васильевич
Н 63 Грезы Скалигера. Роман. - РИА "Кладезь", 1998
Издание осуществлено фирмой "Раэль"
Н 4702010202
ю 34/ 03 / - 98 без объявления
художник И. Ситников
ISBN - 5 - 85470 - О12 - 3 Љ Никонычев Ю. В.
МОСКВА
РИА "КЛАДЕЗЬ"
1998
ББК 84 Р 7
Н 63
Никонычев Юрий Васильевич
Н 63 Грезы Скалигера. Роман. - РИА "Кладезь", 1998
Издание осуществлено фирмой "Раэль"
Н 4702010202
ю 34/ 03 / - 98 без объявления
художник И. Ситников
ISBN - 5 - 85470 - О12 - 3 Љ Никонычев Ю. В.