Григорий Бакланов. Навеки девятнадцатилетние
---------------------------------------------------------------
© Григорий Бакланов
© Издательство "Советский писатель", 1980
Художник книги ВЛ. МЕДВЕДЕВ
OCR: V.Voblin (Vvoblin@hotmail.com)
---------------------------------------------------------------
Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о
бессмертии. В нашем поколении из каждых ста, ушедших на фронт, с войны
вернулось не больше трех.
Параллельно в книге идет фоторассказ. Людей, которые на этих
фотографиях, я не встречал на фронте и не знал. Их запечатлели
фотокорреспонденты и, может быть, это все, что осталось от них.
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Ф. Тютчев
А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.
С. Орлов


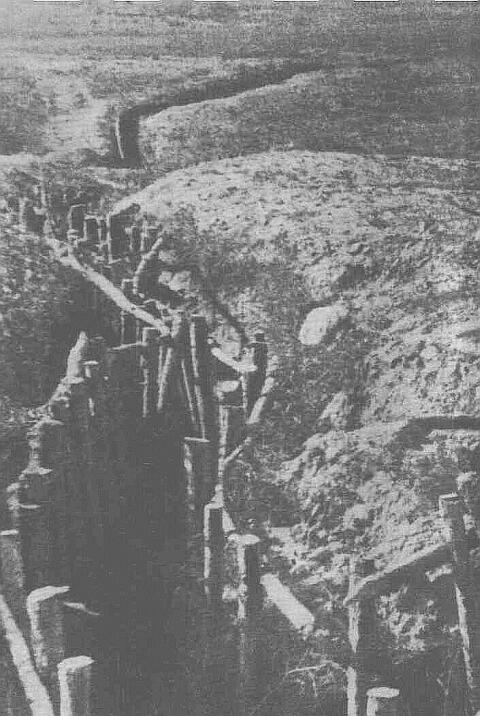
 Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на
нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было
определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.
Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запекшуюся в
песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в
руки, по ней определили: наш. И, должно быть, офицер.
Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки,
которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли
тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не
было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди
просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев,
корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли
стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы; по обнажившимся
ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где
раньше дышали легкие, где сердце билось. И, обмытые дождем, налились живым
блеском молодые зубы.
- Накройте плащ-палаткой,-- сказал режиссер. Он прибыл сюда с
киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте
прежних давно заплывших и заросших окопов.
Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по
ней сверху, словно полил сильней. Дождь был летний, при солнце, пар
подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост.
Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет
назад, сидел он и в эту ночь в размытом окопе, и августовские звезды
срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его
спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за
степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.
В Купянске, орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной
снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко
откатился фронт от этих мест, что уже не погромыхивало. Только проходили на
запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И
беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по
рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбежки не
доносило оттуда.
Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну,
слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити
рельсов. И вот, положив на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами
лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило
осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под
машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими
же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими
волосами был сметен веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не
отрос еще ни разу. Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью
теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.
Лязгали сталкивающиеся железные буфера вагонов, наносило удушливый
запах сгоревшего угля, шипел пар, куда-то вдруг устремлялись, бежали люди,
перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей
станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже
подошел к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо еще что-то
платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не
было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так, либо оно
валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери,
сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом, в
долгой обороне, а еще острей -- в училище, где кормили по курсантской
тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и
котелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом.
Но шли тогда по жаре, с запекшимися, черными от пыли губами-- в пересохшем
горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие
стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог...
Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка
выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не
успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики
призывного возраста, но уберегшиеся от войны, какие-то дерганые, быстрые:
они из рук рвали, и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не
торгуясь, он отдал брезгливо за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно
подвигалась она к окошку, лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних
все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей,
чье-то хлопчатобумажное БУ-- бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал
его со склада, еще керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыт, а
обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или
осколок, несло второй срок службы.
Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком
продпункта, каждый пригибал тут голову: одни хмуро, другие-- с необъяснимой
искательной улыбкой.
-- Следующий! -- раздавалось оттуда.
Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко,
прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящиков, кулей, среди всего этого
могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. Сияли
припыленные голенища, туго натянутые на икры, подошвы под сапогами были
тонкие, кожаные; такими не грязь месить, по досочкам ходить.
Хваткие руки тылового солдата -- золотистый волос на них был припорошен
мукой-- дернули из пальцев продовольственный аттестат, выставили в окошко
все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки
легкого табаку:
-- Следующий!
А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.
Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещмешок и, сидя
перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на
станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами--
и день этот рыжий с копотью, и паровозы, кричащие на путях, и солнце над
водокачкой,-- все это даровано ему в последний раз вот так видеть.
Хрустя осыпающейся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась
невдалеке:
-- Закурить угости, лейтенант! Сказала с вызовом, а глаза голодные,
блестят. Голодному человеку легче попросить напиться или закурить.
-- Садись,-- сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз
хотел завязать вещмешок, нарочно не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта
хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда--
все.
Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки
на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все
на ней было сборное: солдатская гимнастерка без подворотничка, гражданская
юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми,
загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачиваясь, и
он видел, как у нее вздрагивает спина и худые лопатки, когда она
проглатывает кусок. Он отрезал еще хлеба и сала. Она вопросительно глянула
на него. Он понял ее взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых
третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила
уголки тонких ее губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и темной на сгибах
кожей, она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.
Вылезшая из-под вагона собака, худая, с выдранной клоками шерстью на
ребрах, смотрела на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась
за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост. Нарастающий
железный грохот прошел по составу, вагоны дрогнули, покатились, покатились
по рельсам. Отовсюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях,
прыгали на подножки, лезли на ходу, переваливаясь через высокий борт в
железные платформы -- углярки.
-- Крючки,-- сказала женщина.-- Поехали народ чеплять.
И оценивающе оглядела его:
-- Из училища?
-- Ага.
-- Волосы у тебя светлые отрастают. А брови те-ом-ные... Первый раз
туда? Он усмехнулся:
-- Последний!
-- А ты не шуткуй так! Вот у меня брат был в партизанах...
И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир,
как из окружения пришел домой, как пошел в партизаны, как погиб.
Рассказывала привычно, видно было, что не в первый раз, может быть, и врала:
много он слышал таких рассказов.
Остановившийся поблизости паровоз заливал воду; струя толщиной в столб
рушилась из железного рукава, все шипело.
-- Я тоже была партизанская связная!-- прокричала она. Третьяков
кивнул.-- Теперь только ничего не докажешь!..
Пар из тонкой трубки позади трубы бил, как палкой, по железному листу,
ничего вблизи не было слышно.
-- Пошли, напьемся? -- прокричала она в самое ухо.
-- А где?
-- Вон колонка!
Он подхватил вещмешок:
-- Пошли!
-- А потом закурим, да? -- наперед уславливалась она, поспевая за ним.
Только у колонки спохватились: шинель оставил! Она вызвалась охотно:
-- Я принесу!
И побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельсы.
Принесет? Но и бежать за ней было стыдно. Пущенный издали маневровым
паровозом, сам собою катился по рельсам товарный вагон, заслонил ее на
время.
Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его шинель, пилотку
гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки, и
смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она
пьет, зажмуриваясь, отхватывая ртом от ледяной струи. Волосы ее сверкали
водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие, искристые. И с
удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А
вначале показалась немолодой и сумрачной: голодная была очень.
Она помыла сапоги под струЈй: мыла и на него взглядывала. Сапоги
заблестели. Ладонью отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала
его. Шли рядом, он закинул за плечо вещмешок, она несла его шинель. Словно
это сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали,
когда оказалось, что им по пути.
Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на
нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было
определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.
Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запекшуюся в
песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в
руки, по ней определили: наш. И, должно быть, офицер.
Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки,
которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли
тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не
было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди
просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев,
корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли
стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы; по обнажившимся
ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где
раньше дышали легкие, где сердце билось. И, обмытые дождем, налились живым
блеском молодые зубы.
- Накройте плащ-палаткой,-- сказал режиссер. Он прибыл сюда с
киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте
прежних давно заплывших и заросших окопов.
Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по
ней сверху, словно полил сильней. Дождь был летний, при солнце, пар
подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост.
Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет
назад, сидел он и в эту ночь в размытом окопе, и августовские звезды
срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его
спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за
степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.
В Купянске, орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной
снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко
откатился фронт от этих мест, что уже не погромыхивало. Только проходили на
запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И
беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по
рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбежки не
доносило оттуда.
Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну,
слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити
рельсов. И вот, положив на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами
лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило
осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под
машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими
же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими
волосами был сметен веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не
отрос еще ни разу. Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью
теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.
Лязгали сталкивающиеся железные буфера вагонов, наносило удушливый
запах сгоревшего угля, шипел пар, куда-то вдруг устремлялись, бежали люди,
перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей
станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже
подошел к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо еще что-то
платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не
было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так, либо оно
валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери,
сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом, в
долгой обороне, а еще острей -- в училище, где кормили по курсантской
тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и
котелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом.
Но шли тогда по жаре, с запекшимися, черными от пыли губами-- в пересохшем
горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие
стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог...
Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка
выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не
успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики
призывного возраста, но уберегшиеся от войны, какие-то дерганые, быстрые:
они из рук рвали, и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не
торгуясь, он отдал брезгливо за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно
подвигалась она к окошку, лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних
все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей,
чье-то хлопчатобумажное БУ-- бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал
его со склада, еще керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыт, а
обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или
осколок, несло второй срок службы.
Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком
продпункта, каждый пригибал тут голову: одни хмуро, другие-- с необъяснимой
искательной улыбкой.
-- Следующий! -- раздавалось оттуда.
Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко,
прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящиков, кулей, среди всего этого
могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. Сияли
припыленные голенища, туго натянутые на икры, подошвы под сапогами были
тонкие, кожаные; такими не грязь месить, по досочкам ходить.
Хваткие руки тылового солдата -- золотистый волос на них был припорошен
мукой-- дернули из пальцев продовольственный аттестат, выставили в окошко
все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки
легкого табаку:
-- Следующий!
А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.
Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещмешок и, сидя
перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на
станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами--
и день этот рыжий с копотью, и паровозы, кричащие на путях, и солнце над
водокачкой,-- все это даровано ему в последний раз вот так видеть.
Хрустя осыпающейся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась
невдалеке:
-- Закурить угости, лейтенант! Сказала с вызовом, а глаза голодные,
блестят. Голодному человеку легче попросить напиться или закурить.
-- Садись,-- сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз
хотел завязать вещмешок, нарочно не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта
хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда--
все.
Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки
на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все
на ней было сборное: солдатская гимнастерка без подворотничка, гражданская
юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми,
загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачиваясь, и
он видел, как у нее вздрагивает спина и худые лопатки, когда она
проглатывает кусок. Он отрезал еще хлеба и сала. Она вопросительно глянула
на него. Он понял ее взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых
третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила
уголки тонких ее губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и темной на сгибах
кожей, она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.
Вылезшая из-под вагона собака, худая, с выдранной клоками шерстью на
ребрах, смотрела на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась
за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост. Нарастающий
железный грохот прошел по составу, вагоны дрогнули, покатились, покатились
по рельсам. Отовсюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях,
прыгали на подножки, лезли на ходу, переваливаясь через высокий борт в
железные платформы -- углярки.
-- Крючки,-- сказала женщина.-- Поехали народ чеплять.
И оценивающе оглядела его:
-- Из училища?
-- Ага.
-- Волосы у тебя светлые отрастают. А брови те-ом-ные... Первый раз
туда? Он усмехнулся:
-- Последний!
-- А ты не шуткуй так! Вот у меня брат был в партизанах...
И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир,
как из окружения пришел домой, как пошел в партизаны, как погиб.
Рассказывала привычно, видно было, что не в первый раз, может быть, и врала:
много он слышал таких рассказов.
Остановившийся поблизости паровоз заливал воду; струя толщиной в столб
рушилась из железного рукава, все шипело.
-- Я тоже была партизанская связная!-- прокричала она. Третьяков
кивнул.-- Теперь только ничего не докажешь!..
Пар из тонкой трубки позади трубы бил, как палкой, по железному листу,
ничего вблизи не было слышно.
-- Пошли, напьемся? -- прокричала она в самое ухо.
-- А где?
-- Вон колонка!
Он подхватил вещмешок:
-- Пошли!
-- А потом закурим, да? -- наперед уславливалась она, поспевая за ним.
Только у колонки спохватились: шинель оставил! Она вызвалась охотно:
-- Я принесу!
И побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельсы.
Принесет? Но и бежать за ней было стыдно. Пущенный издали маневровым
паровозом, сам собою катился по рельсам товарный вагон, заслонил ее на
время.
Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его шинель, пилотку
гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки, и
смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она
пьет, зажмуриваясь, отхватывая ртом от ледяной струи. Волосы ее сверкали
водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие, искристые. И с
удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А
вначале показалась немолодой и сумрачной: голодная была очень.
Она помыла сапоги под струЈй: мыла и на него взглядывала. Сапоги
заблестели. Ладонью отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала
его. Шли рядом, он закинул за плечо вещмешок, она несла его шинель. Словно
это сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали,
когда оказалось, что им по пути.
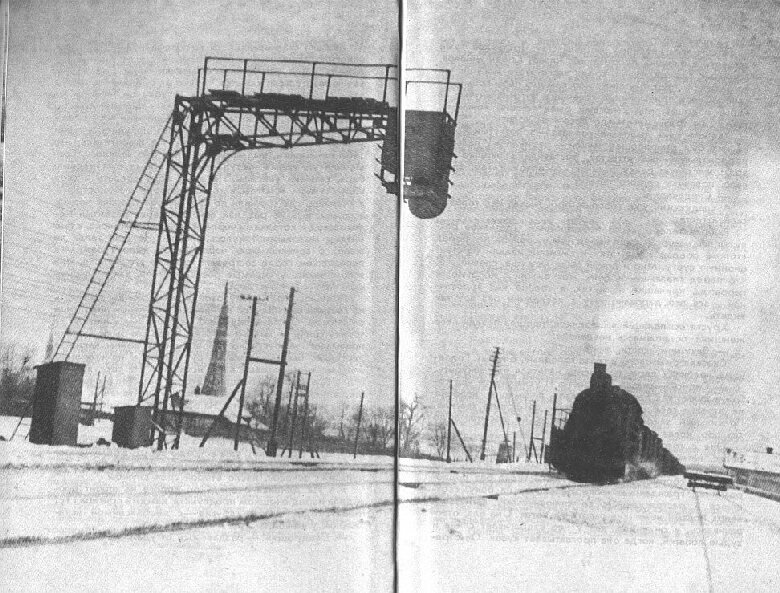 Он остановил на шоссе военный грузовик, подсадил ее в кузов. Став
сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий
борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:
-- Отвернись!
И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в
кузов.
Уносилась назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков
развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они
целовались как сумасшедшие.
-- Останься! -- говорила она.
Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало,
они стукались зубами.
-- На денек...
И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому
и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд
за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина,
беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и
заволоклось известковым облаком.
На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки
скрылась навсегда. Донеслось только:
-- Шинель не потеряй!
А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на
обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже
имени ее не спросил. Но что имя?
Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.
-- Взво-у-уд...-- отпуская от себя строй, старшина загарцевал на
месте.-- Стуй!
Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы набиты
пылью.
-- Нали-и.-.-ву!
Напрягая икры ног, пятясь от строя, старшина звонко вознес голос:
-- Равняйсь! Сми-и-ррна!
У девчат от подмышек до карманов гимнастерок -- темные круги пота. На
той стороне шоссе осенняя рощица порошила на ветру листвой. Кося напряженным
выкаченным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах:
-- Р-разойдись...
И смачно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая
сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины.
Старшина, довольный собой, подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на
обочину, как начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому
виску, по неостывшей щеке тек пот, прокладывая блестящую дорожку.
-- Связисток гоню!-- И подмигнул веселым глазом, белок его был
воспаленный от пыли и солнца.-- Должность-- вредней не придумаешь.
Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно
взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались
девчата из рощицы, кто сорванный цветок нес в руке, кто-- пучок осенних
листьев. Построились, подровнялись. Старшина скомандовал:
-- С места-- песню!
Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.
Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю
военных девчат, весело топавших по пыли.
Он остановил на шоссе военный грузовик, подсадил ее в кузов. Став
сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий
борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:
-- Отвернись!
И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в
кузов.
Уносилась назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков
развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они
целовались как сумасшедшие.
-- Останься! -- говорила она.
Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало,
они стукались зубами.
-- На денек...
И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому
и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд
за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина,
беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и
заволоклось известковым облаком.
На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки
скрылась навсегда. Донеслось только:
-- Шинель не потеряй!
А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на
обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже
имени ее не спросил. Но что имя?
Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.
-- Взво-у-уд...-- отпуская от себя строй, старшина загарцевал на
месте.-- Стуй!
Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы набиты
пылью.
-- Нали-и.-.-ву!
Напрягая икры ног, пятясь от строя, старшина звонко вознес голос:
-- Равняйсь! Сми-и-ррна!
У девчат от подмышек до карманов гимнастерок -- темные круги пота. На
той стороне шоссе осенняя рощица порошила на ветру листвой. Кося напряженным
выкаченным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах:
-- Р-разойдись...
И смачно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая
сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины.
Старшина, довольный собой, подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на
обочину, как начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому
виску, по неостывшей щеке тек пот, прокладывая блестящую дорожку.
-- Связисток гоню!-- И подмигнул веселым глазом, белок его был
воспаленный от пыли и солнца.-- Должность-- вредней не придумаешь.
Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно
взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались
девчата из рощицы, кто сорванный цветок нес в руке, кто-- пучок осенних
листьев. Построились, подровнялись. Старшина скомандовал:
-- С места-- песню!
Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.
Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю
военных девчат, весело топавших по пыли.
 Чем ближе к фонту, тем ощутимей повсюду следы огромного побоища. Уже
прошли по полям похоронные команды, хороня убитых; уже трофейные команды
собрали и свезли, что вновь годилось для боя; окрестные жители стаскивали
каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними, и теперь
годилось для жизни. Ржавела в полях сгоревшая, разбитая техника, и над всем,
над тишиною смерти-- колючая ясность и синева осеннего неба, с которого
пролились на землю дожди.
А мимо по грейдеру цокотала подковками пехота, позвякивала окованными
прикладами о котелки, полы шинелей на ходу хлестали по ногам, тонковатым в
обмотках. Солдаты всех ростов и возрастов, снаряженные и нагруженные, шли на
смену тем, кто полег здесь. И самые молодые, ничего еще не видавшие, тянули
шеи из необмятых воротников шинелей, со щемящим любопытством и робостью
живого перед вечной тайной смерти вглядывались в поле недавнего боя. Там,
куда они шли в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку:
доносило усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом,
удивляясь и стыдясь, чувствовал Третьяков это беспокойство. Увидел сожженный
немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть.
Танк был какой-то новый, громадной тех, что видел он на Северо-Западном
фронте. Синяя оплавленная пробоина в броне: снаряд, должно быть,
подкалиберный, как сквозь масло прошел. А броня мощная, толще прежней.
Ветер шевелил вдавленные в чернозем сырые клочья нашего серого
шинельного сукна. В осколках луж, в танковом следу блестело похолодавшее
небо, свежо и ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и
волновался, и мысли всякие, как впервые... Восемь месяцев не был на фронте,
отвык, заново надо привыкать.
Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком ночевал он на краю
большого сожженного немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицо
мятое, на котором брить почти нечего, кисти рук в крупных веснушках, в белом
волосе.
-- Старший лейтенант Таранов!-- представился он и четко, словно
ожегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке --
строевик. Все на нем было не с чужого плеча: суконная зеленоватая
гимнастерка, синие диагоналевые галифе-- цвет настольного сукна и чернил.
Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нес он шинель офицерского
покроя из темного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру:
спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от
низу до хлястика. В такой шинели хорошо на параде, на коне, а укрыться ей
невозможно: какой стороной на себя ни натягивай, ветер гуляет и звезды
видны. Вот с нею на третьем году войны добирался старший лейтенант Таранов
из запасного полка на фронт.
-- Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать,-- сказал
он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку.
Таранов сам выбрал дом для ночевки и очень удачно. Хозяйка, лет сорока,
украинка, статная, гладко причесанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась
офицерам: по крайней мере не набьется полная хата войск. И вскоре Таранов,
поперек повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин,
вскрывал консервные банки, и женщина старалась рядом с ним. А за спиной ее,
привлеченный запахом еды, ходил мальчонка лет трех, тянулся заглянуть на
стол.
-- Ты лягай спать, горе мое!-- прикрикнула хозяйка и, как будто злясь
на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама
приниженно, испуганно глянула на Таранова.
Сбегав через дорогу к шоферам, Третьяков заправил бензином керосиновую
лампу, всыпал в нее горсть соли, чтобы бензин не взорвался, а когда
вернулся, за столом сидели уже трое.
-- Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала!-- поблескивая
золотыми коронками из-под бледных, как отсыревших изнутри губ, шумно
встретил его Таранов. И подмигивал, указывал глазами.
Рядом с хозяйкой сидела дочь лет семнадцати. Была она тоже крупна,
хороша собой, но сидела, как монашенка, опустив черные ресницы. Когда
Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза
синие-синие. Заговорила первая:
-- Мы не взорвемось?
-- Что вы! -- стал успокаивать Третьяков.-- Проверено на фронте. Соли
всыпал в бензин, ни за что не взорвется.
И споткнулся о ее взгляд. Она снисходительно улыбалась:
-- Я ж така трусиха, усего боюсь... А мать черными глазами стерегла ее
и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемета:
-- Тут нимцы увходять, тут я писля операции уся, уся разрезанная лежу.
Ой, боже ж мий! Оксаночке четырнадцять рокив и тэ, малэ... Шо мэни робить?
-- Тебя Оксаной зовут?-- спросил Третьяков тихо.
-- Оксана. А вас?
-- Володя.
Она подала под столом свою руку, мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него
пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись.
-- Оксаночка! -- позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула,
улыбнулась лейтенанту, нехотя пошла за матерью.
-- Ты не теряйся, лейтенант! -- шепнул Таранов. Они двое сидели за
столом, ждали. За дверью слышен был приглушенный голос хозяйки: она что-то
быстро говорила, ни одного слова не разобрать.-- На фронт едем. Он
подмигнул, быстро налил стаканы. Выпили. По очереди прикурили от лампы.
-- Может, последний день так, может, завтра убьют, а?
И громко позвал:
-- Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо,
нехорошо. Мы ведь обидеться можем.
Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла, одна, сияя улыбкой.
-- А где же Оксаночка?-- забеспокоился Таранов.
-- Спать полягали.-- Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом
касалась его плеча.-- От если б вы были врачи...
-- А что? Какая болезнь?-- спрашивал Таранов.
-- Та не болезнь. Дороги гоняют строить. От если б вы были врачи, дали
б освобождение дивчине.
-- А мы и есть врачи!-- Таранов усиленно подмигивал ему, глазами
указывал на дверь, за которой была Оксана.
-- То вы шуткуете! -- И полной ручкой махала на него. Таранов ручку
перехватил, к себе потянул.-- У врачей погоны зовсим не такие.
-- А какие же они у врачей?
-- Манэсеньки, манэсеньки.-- И пальцем другой руки рисовала у него на
плече, на погоне.-- Манэсеньки, манэсеньки...
-- А не большесиньки?-- У Таранова влажно поблескивали золотые коронки,
к нижней беловатой изнутри губе присохла болячка.-- Не большесиньки?
Разговор уже шел глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдет покурить.
В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь,
слышал приглушенный голос Таранова, женский смех.
Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На
душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет собою дочь. Может, и при
немцах вот так заслоняла, собою отвлекала от нее. А этот обрадовался: "На
фронт едем..."
Беззвучно, артиллерийскими зарницами вздрагивало небо в западной
стороне. Обмытый дождем узкий серп народившегося месяца, до краев налитый
синевою, стоял над пожарищем, корявая тень заживо сгоревшего дерева
распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные
яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу
на пепелище.
Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шоферы у машин.
Третьяков пошел туда. В доме на полу спали вповалку. Он влез по шаткой
лестнице на сеновал, на ощупь сгреб охапку сена, пахнущего пылью, лег,
укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту-- и скорей бы. Засыпая,
слышал внизу голоса шоферов, медленное гудение самолета где-то высоко над
крышей.
А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе
артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров шесть пешком,
Третьяков явился рано, писаря только еще рассаживались за столами. После
завтрака им ни за что браться не хотелось до прихода начальства, они с
деловым видом открывали и захлопывали ящики.
Полки артиллерийской бригады подивизионно, по-батарейно приданные
стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте, а штаб
стоял в хуторе, в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские
разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда
ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулеметов, но слышней
жужжала на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна ползла она
снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на
подоконнике перегибался, сладострастно и опасливо нацеливался раздавить ее.
Дымком летней кухоньки наносило со двора: там, под вишнями, в
деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и
гимнастерки, вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов,
молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг
корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то
помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе
рубашки грудей, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из
окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело
делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломину сквозь него.
Вытянул всю как в дегте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо,
покачал головой.
Писарю на окне удалось наконец задавить осу. Довольный, обтер пальцы о
побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз-- белый сок
вскипел на зубах.
-- Так -какие тебе, Семиошкин, часы разведчик припер?-- спросил
Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчесанную чубатую голову,
осторожно, чтоб не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук,
начисто прочищал.
Семиошкин поерзал штанами по подоконнику:
-- "Доксу"!
-- Им везет... разведчикам.-- Калистратов на свет поглядел в отверстие
прочищенный мундштучок.-- Впереди идут, все ихнее. Чего им?..
Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов,
обмундированных и снаряженных, проходит через штаб по дороге из училища на
фронт. Иной и обмундирования не успевает износить, а уже двинулось в
обратный путь извещение, вычеркивая его из списков, снимая со всех видов
довольствия, более ненужного ему.
И еще он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал.
Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады-- писарей из-за
столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах, за пишущей
машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было,
словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним
пальцем: тук... тук...-- литеры надолго прилипали к ленте.
Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады: "Калистратов,
скажешь, беру лейтенанта! Здесь останется, у меня, командиром взвода". И
вместо того, чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился
в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись
скопом, они разглядывали сейчас часы Семиошкина, лежавшие на столе. Даже
писарь в очках, как видно, низший в здешней иерархии, вылез было из-за
машинки тоже поглядеть, но ему сказали:
-- Печатай, печатай, нечего тут... Ножичком Калистратов вскрыл заднюю
крышку часов, обнаженный, пульсировал маятник на виду у всех.
-- Ие-ве-ли-сы...-- по складам читал Калистратов нерусские буквы.
Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнув.-- Евельс! Это что?
-- Эти камни еще лучше рубиновых,-- похвастался Семиошкин и сладко
причмокнул яблоком.-- На шестнадцати камнях!
-- "Евельс"... Везет разведчикам. Кто-то хохотнул:
-- Оно у них не долго задерживается. Третьяков вышел во двор ждать
связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты,
опрокинула его, ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в
корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастерок,
расставя босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко
рту помидор, высасывал из него сок. Вся рубашонка на животе была в
помидорных зернах и в соке. "Наверное, без отца родился",-- лениво соображал
Третьяков. Он рано встал сегодня, и на утреннем солнце, под отдаленное
буханье орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которые
он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их
травою, даже глянул, где сорвать поросистей, но тут издали заметил связного.
С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходившиеся к
штабу, солдат быстро шел ува-листой походкой, тени штакетника и солнечный
свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошел в штаб.
Успевший вручить донесение связной пил воду у двери. Допил, насухо за собой
стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведром жестяную кружку. Тут
же, у дверей, присевши на корточки, вытер снятой с головы пилоткой враз
вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах вздулись пузырями.
Старший писарь, для солидности подальше отнеся от глаз, строго читал
донесение, а связной, оперев карабин о стену, пригрозив ему пальцем, чтоб
стоял, сворачивал курить.
-- Из триста шестнадцатого?-- спросил Третьяков. Связной слюнявил
языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу. Прикурил, сладостно
затянулся, спросил, щурясь от дыма:
-- Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать? Сожженные солнцем брови
его были белы от насевшей пыли, распаренное лицо-- как умытое. Мокрые,
потемнели, прилипли отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз
подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился:
-- Вот ведь забыл совсем... Как отшибло память...-- И, вставши,
расстегивал карман гимнастерки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпицу,
развернул на ладони-- в ней была серебряная медаль "За отвагу".
Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как
недавно разглядывали часы. Была она старого образца, с красной замаслившейся
лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закоптилось в огне, а
посреди-- вмятина и дырка. Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на
обороте нельзя было разобрать.
-- Это какой же Сунцов?-- спрашивал старший писарь Калистратов, как
видно гордясь своим знанием личного состава.-- Который к нам в Гулькевичах с
пополнением прибыл?
-- А я не знаю,-- доброжелательно улыбался связной и сложенной пилоткой
вновь утер лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти
по солнцу, и выпитая вода выходила из него потом.-- Приказали: снеси в штаб,
отдай, мол.
-- Так как же его убило?
-- А как? На НП, должно. Разведчик.
-- Телефонист. Вот сказано: связист.
-- Разве связист? Ну, значит, по связи...-- еще охотней согласился
солдат.-- Связь обеспечивал...
Старший писарь отчего-то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол
к ней сопроводительную бумагу. И когда открывал заскрипевшую крышку
железного ящика, был торжествен и строг, словно некий обряд совершал.
Серебряная медаль звякнула о железное дно, и снова со скрежетом и лязгом
опустилась крышка.
Вскоре-- вслед за связным-- Третьяков шел в полк. Они свернули в
проулок. Навстречу во всю ширину его-- от плетня до плетня-- шли с завтрака
офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до
плетня, а ближние и за него перевалили.
Старший по званию, майор, что-то рассказывал уверенно, а шедший с
правого края офицер заглядывал вдоль строя, улыбкой участвуя в разговоре. И
с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова, его
золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом, выправкой строевой он весь
так пришелся в этой шеренге возвращавшихся с завтрака, словно всегда и был
здесь.
Чем ближе к фонту, тем ощутимей повсюду следы огромного побоища. Уже
прошли по полям похоронные команды, хороня убитых; уже трофейные команды
собрали и свезли, что вновь годилось для боя; окрестные жители стаскивали
каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними, и теперь
годилось для жизни. Ржавела в полях сгоревшая, разбитая техника, и над всем,
над тишиною смерти-- колючая ясность и синева осеннего неба, с которого
пролились на землю дожди.
А мимо по грейдеру цокотала подковками пехота, позвякивала окованными
прикладами о котелки, полы шинелей на ходу хлестали по ногам, тонковатым в
обмотках. Солдаты всех ростов и возрастов, снаряженные и нагруженные, шли на
смену тем, кто полег здесь. И самые молодые, ничего еще не видавшие, тянули
шеи из необмятых воротников шинелей, со щемящим любопытством и робостью
живого перед вечной тайной смерти вглядывались в поле недавнего боя. Там,
куда они шли в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку:
доносило усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом,
удивляясь и стыдясь, чувствовал Третьяков это беспокойство. Увидел сожженный
немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть.
Танк был какой-то новый, громадной тех, что видел он на Северо-Западном
фронте. Синяя оплавленная пробоина в броне: снаряд, должно быть,
подкалиберный, как сквозь масло прошел. А броня мощная, толще прежней.
Ветер шевелил вдавленные в чернозем сырые клочья нашего серого
шинельного сукна. В осколках луж, в танковом следу блестело похолодавшее
небо, свежо и ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и
волновался, и мысли всякие, как впервые... Восемь месяцев не был на фронте,
отвык, заново надо привыкать.
Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком ночевал он на краю
большого сожженного немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицо
мятое, на котором брить почти нечего, кисти рук в крупных веснушках, в белом
волосе.
-- Старший лейтенант Таранов!-- представился он и четко, словно
ожегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке --
строевик. Все на нем было не с чужого плеча: суконная зеленоватая
гимнастерка, синие диагоналевые галифе-- цвет настольного сукна и чернил.
Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нес он шинель офицерского
покроя из темного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру:
спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от
низу до хлястика. В такой шинели хорошо на параде, на коне, а укрыться ей
невозможно: какой стороной на себя ни натягивай, ветер гуляет и звезды
видны. Вот с нею на третьем году войны добирался старший лейтенант Таранов
из запасного полка на фронт.
-- Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать,-- сказал
он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку.
Таранов сам выбрал дом для ночевки и очень удачно. Хозяйка, лет сорока,
украинка, статная, гладко причесанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась
офицерам: по крайней мере не набьется полная хата войск. И вскоре Таранов,
поперек повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин,
вскрывал консервные банки, и женщина старалась рядом с ним. А за спиной ее,
привлеченный запахом еды, ходил мальчонка лет трех, тянулся заглянуть на
стол.
-- Ты лягай спать, горе мое!-- прикрикнула хозяйка и, как будто злясь
на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама
приниженно, испуганно глянула на Таранова.
Сбегав через дорогу к шоферам, Третьяков заправил бензином керосиновую
лампу, всыпал в нее горсть соли, чтобы бензин не взорвался, а когда
вернулся, за столом сидели уже трое.
-- Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала!-- поблескивая
золотыми коронками из-под бледных, как отсыревших изнутри губ, шумно
встретил его Таранов. И подмигивал, указывал глазами.
Рядом с хозяйкой сидела дочь лет семнадцати. Была она тоже крупна,
хороша собой, но сидела, как монашенка, опустив черные ресницы. Когда
Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза
синие-синие. Заговорила первая:
-- Мы не взорвемось?
-- Что вы! -- стал успокаивать Третьяков.-- Проверено на фронте. Соли
всыпал в бензин, ни за что не взорвется.
И споткнулся о ее взгляд. Она снисходительно улыбалась:
-- Я ж така трусиха, усего боюсь... А мать черными глазами стерегла ее
и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемета:
-- Тут нимцы увходять, тут я писля операции уся, уся разрезанная лежу.
Ой, боже ж мий! Оксаночке четырнадцять рокив и тэ, малэ... Шо мэни робить?
-- Тебя Оксаной зовут?-- спросил Третьяков тихо.
-- Оксана. А вас?
-- Володя.
Она подала под столом свою руку, мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него
пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись.
-- Оксаночка! -- позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула,
улыбнулась лейтенанту, нехотя пошла за матерью.
-- Ты не теряйся, лейтенант! -- шепнул Таранов. Они двое сидели за
столом, ждали. За дверью слышен был приглушенный голос хозяйки: она что-то
быстро говорила, ни одного слова не разобрать.-- На фронт едем. Он
подмигнул, быстро налил стаканы. Выпили. По очереди прикурили от лампы.
-- Может, последний день так, может, завтра убьют, а?
И громко позвал:
-- Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо,
нехорошо. Мы ведь обидеться можем.
Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла, одна, сияя улыбкой.
-- А где же Оксаночка?-- забеспокоился Таранов.
-- Спать полягали.-- Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом
касалась его плеча.-- От если б вы были врачи...
-- А что? Какая болезнь?-- спрашивал Таранов.
-- Та не болезнь. Дороги гоняют строить. От если б вы были врачи, дали
б освобождение дивчине.
-- А мы и есть врачи!-- Таранов усиленно подмигивал ему, глазами
указывал на дверь, за которой была Оксана.
-- То вы шуткуете! -- И полной ручкой махала на него. Таранов ручку
перехватил, к себе потянул.-- У врачей погоны зовсим не такие.
-- А какие же они у врачей?
-- Манэсеньки, манэсеньки.-- И пальцем другой руки рисовала у него на
плече, на погоне.-- Манэсеньки, манэсеньки...
-- А не большесиньки?-- У Таранова влажно поблескивали золотые коронки,
к нижней беловатой изнутри губе присохла болячка.-- Не большесиньки?
Разговор уже шел глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдет покурить.
В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь,
слышал приглушенный голос Таранова, женский смех.
Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На
душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет собою дочь. Может, и при
немцах вот так заслоняла, собою отвлекала от нее. А этот обрадовался: "На
фронт едем..."
Беззвучно, артиллерийскими зарницами вздрагивало небо в западной
стороне. Обмытый дождем узкий серп народившегося месяца, до краев налитый
синевою, стоял над пожарищем, корявая тень заживо сгоревшего дерева
распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные
яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу
на пепелище.
Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шоферы у машин.
Третьяков пошел туда. В доме на полу спали вповалку. Он влез по шаткой
лестнице на сеновал, на ощупь сгреб охапку сена, пахнущего пылью, лег,
укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту-- и скорей бы. Засыпая,
слышал внизу голоса шоферов, медленное гудение самолета где-то высоко над
крышей.
А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе
артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров шесть пешком,
Третьяков явился рано, писаря только еще рассаживались за столами. После
завтрака им ни за что браться не хотелось до прихода начальства, они с
деловым видом открывали и захлопывали ящики.
Полки артиллерийской бригады подивизионно, по-батарейно приданные
стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте, а штаб
стоял в хуторе, в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские
разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда
ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулеметов, но слышней
жужжала на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна ползла она
снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на
подоконнике перегибался, сладострастно и опасливо нацеливался раздавить ее.
Дымком летней кухоньки наносило со двора: там, под вишнями, в
деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и
гимнастерки, вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов,
молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг
корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то
помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе
рубашки грудей, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из
окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело
делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломину сквозь него.
Вытянул всю как в дегте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо,
покачал головой.
Писарю на окне удалось наконец задавить осу. Довольный, обтер пальцы о
побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз-- белый сок
вскипел на зубах.
-- Так -какие тебе, Семиошкин, часы разведчик припер?-- спросил
Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчесанную чубатую голову,
осторожно, чтоб не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук,
начисто прочищал.
Семиошкин поерзал штанами по подоконнику:
-- "Доксу"!
-- Им везет... разведчикам.-- Калистратов на свет поглядел в отверстие
прочищенный мундштучок.-- Впереди идут, все ихнее. Чего им?..
Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов,
обмундированных и снаряженных, проходит через штаб по дороге из училища на
фронт. Иной и обмундирования не успевает износить, а уже двинулось в
обратный путь извещение, вычеркивая его из списков, снимая со всех видов
довольствия, более ненужного ему.
И еще он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал.
Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады-- писарей из-за
столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах, за пишущей
машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было,
словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним
пальцем: тук... тук...-- литеры надолго прилипали к ленте.
Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады: "Калистратов,
скажешь, беру лейтенанта! Здесь останется, у меня, командиром взвода". И
вместо того, чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился
в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись
скопом, они разглядывали сейчас часы Семиошкина, лежавшие на столе. Даже
писарь в очках, как видно, низший в здешней иерархии, вылез было из-за
машинки тоже поглядеть, но ему сказали:
-- Печатай, печатай, нечего тут... Ножичком Калистратов вскрыл заднюю
крышку часов, обнаженный, пульсировал маятник на виду у всех.
-- Ие-ве-ли-сы...-- по складам читал Калистратов нерусские буквы.
Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнув.-- Евельс! Это что?
-- Эти камни еще лучше рубиновых,-- похвастался Семиошкин и сладко
причмокнул яблоком.-- На шестнадцати камнях!
-- "Евельс"... Везет разведчикам. Кто-то хохотнул:
-- Оно у них не долго задерживается. Третьяков вышел во двор ждать
связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты,
опрокинула его, ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в
корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастерок,
расставя босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко
рту помидор, высасывал из него сок. Вся рубашонка на животе была в
помидорных зернах и в соке. "Наверное, без отца родился",-- лениво соображал
Третьяков. Он рано встал сегодня, и на утреннем солнце, под отдаленное
буханье орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которые
он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их
травою, даже глянул, где сорвать поросистей, но тут издали заметил связного.
С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходившиеся к
штабу, солдат быстро шел ува-листой походкой, тени штакетника и солнечный
свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошел в штаб.
Успевший вручить донесение связной пил воду у двери. Допил, насухо за собой
стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведром жестяную кружку. Тут
же, у дверей, присевши на корточки, вытер снятой с головы пилоткой враз
вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах вздулись пузырями.
Старший писарь, для солидности подальше отнеся от глаз, строго читал
донесение, а связной, оперев карабин о стену, пригрозив ему пальцем, чтоб
стоял, сворачивал курить.
-- Из триста шестнадцатого?-- спросил Третьяков. Связной слюнявил
языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу. Прикурил, сладостно
затянулся, спросил, щурясь от дыма:
-- Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать? Сожженные солнцем брови
его были белы от насевшей пыли, распаренное лицо-- как умытое. Мокрые,
потемнели, прилипли отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз
подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился:
-- Вот ведь забыл совсем... Как отшибло память...-- И, вставши,
расстегивал карман гимнастерки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпицу,
развернул на ладони-- в ней была серебряная медаль "За отвагу".
Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как
недавно разглядывали часы. Была она старого образца, с красной замаслившейся
лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закоптилось в огне, а
посреди-- вмятина и дырка. Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на
обороте нельзя было разобрать.
-- Это какой же Сунцов?-- спрашивал старший писарь Калистратов, как
видно гордясь своим знанием личного состава.-- Который к нам в Гулькевичах с
пополнением прибыл?
-- А я не знаю,-- доброжелательно улыбался связной и сложенной пилоткой
вновь утер лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти
по солнцу, и выпитая вода выходила из него потом.-- Приказали: снеси в штаб,
отдай, мол.
-- Так как же его убило?
-- А как? На НП, должно. Разведчик.
-- Телефонист. Вот сказано: связист.
-- Разве связист? Ну, значит, по связи...-- еще охотней согласился
солдат.-- Связь обеспечивал...
Старший писарь отчего-то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол
к ней сопроводительную бумагу. И когда открывал заскрипевшую крышку
железного ящика, был торжествен и строг, словно некий обряд совершал.
Серебряная медаль звякнула о железное дно, и снова со скрежетом и лязгом
опустилась крышка.
Вскоре-- вслед за связным-- Третьяков шел в полк. Они свернули в
проулок. Навстречу во всю ширину его-- от плетня до плетня-- шли с завтрака
офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до
плетня, а ближние и за него перевалили.
Старший по званию, майор, что-то рассказывал уверенно, а шедший с
правого края офицер заглядывал вдоль строя, улыбкой участвуя в разговоре. И
с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова, его
золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом, выправкой строевой он весь
так пришелся в этой шеренге возвращавшихся с завтрака, словно всегда и был
здесь.
 Той же ночью Третьяков вел орудия к фронту. Весь их дивизион
перекидывали куда-то левей. Заскочил в сумерках командир батареи капитан
Повысенко, ткнул ногтем в карту:
-- Вот этот ложок видишь? Высотку видишь? Поставишь орудия за обратным
скатом.-- Железный ноготь, обкуренный до черноты, провел черту.-- Ясно? Мой
НП будет на высоте плюс сто тридцать два и семь. Поставишь батарею, потянешь
ко мне связь.
И опять:
-- Ясно?
-- Ясно,-- сказал Третьяков. На карте все было ясно.
Рядом рокотал трактор, из выхлопной трубы выпархивали искры, яркие в
сумерках. Зачехленные, в походном положении, орудия были уже прицеплены, но
ба-тарейцы все что-то грузили на них сверху, все что-то несли. У прицепа с
батарейным имуществом суетился старшина. Повысенко поглядел туда неподвижным
взглядом, подошел.
В прицепе, под брезентовым верхом, стоял в темноте на четвереньках
командир огневого взвода Завго-родний, мучился болями. Его хотели отправлять
в медсанбат, но на фронте заболевший поневоле чувствует себя кем-то вроде
симулянта. Тут либо ранит, либо убивает, а какая может быть болезнь на
фронте? Сейчас ты жив, через час убило-- не все равно, здорового убило или
заболевшего? И Завгородний превозмогал себя. В последний момент старшина
вспомнил испытанное средство: намешал полстакана керосина с солью, дал
выпить: "Оно сначала пожгеть, пожгеть, потом от-пу-устит..."
Подойдя к заднему борту, Повысенко заглянул внутрь прицепа, в темноту:
-- Ну как, полегчало? И старшина всунулся:
-- Жгеть? Жгеть?
Он чувствовал себя ответственным -- и за средство и за болезнь.
-- Легча-ает,-- через силу простонал Завгородний. И переступил коленями
на шинелях: лечь он не мог.
-- Средство верное,-- обнадежил старшина.-- Пожгеть, пожгеть и--
отпу-устит...
И погладил себя по душе, до самой ременной пряжки, где и должно было
отпустить.
Давило низкое, небо, все серое, как одна сплошная туча. И угольными
тенями под ним несло разорванные облака. Притихло перед дождем. Трактора с
прицепленными орудиями стояли в посадке; правей за кукурузным полем глухо
выстукивали пулеметы, взвивались над землей трассы пуль, все уже яркие.
-- Значит, так.-- Комбат подумал, пожевал шелушащимися, обветренными
губами.-- Твой взвод управления беру с собой. Случ-чего Паравян,
помкомвзвода, с тобой будет. Все ясно? Действуй!
Козырнул и зашуршал плащ-палаткой, удаляясь.
Дождались темноты. Тронулись. Взрокотав, трактора потянули за собой
орудия, подминая под гусеницы кустарник, давя на выезде из посадки молодые
деревца. По рыхлой земле глубокий развороченный след оставался за батареей.
Двигались без света. Сверху-- черное небо, под ногами и впереди
светлела пыльная дорога. Спустился дождь. На тяжелые колеса пушек, на
резиновые ободья валом наматывался чернозем.
Фронт все время оставался правей; по нему и ориентировался Третьяков.
Невысоко взлетали там ракеты и гасли, задушенные дождем. В смутных
движущихся отсветах каждый раз видел Третьяков батарейцев в мокрых
плащ-палатках, идущих за пушками. И обязательно несколько человек,
нахохлившись, сидели на каждой пушке, дремали, а сверху дождь сыпал.
-- Паравян! А ну, сгони с пушек! Тряхнет, попадают сверху, подавит
сонных.
Паравян, статный, красивый помкомвзвода, смотрел на него из-под
намокших выгнутых ресниц своими черными глазами, молча не одобрял и шел
выполнять.
-- Хочешь, чтоб людей подавило? Сколько раз говорить!
И знал Третьяков, что говорить ему столько, сколько будут двигаться. Он
тоже был бойцом, и тоже его вот так сгоняли, а он заходил с другой стороны
и, как только не видел командир, опять влезал на пушку, потому что хотел
спать, а спать сидя лучше, чем на ходу. Но сейчас не кто-то другой, кого в
душе чертыхать можно, отвечал за него, а он сам командовал людьми и отвечал
за них и потому приказывал сгонять сонных бойцов. И Паравян неохотно шел
выполнять.
Никого из них, кроме все того же Паравяна, не знал он ни в лицо, ни по
фамилиям. Он вел их, они шли за ним. Он и в своем-то взводе управления еще
никого не успел узнать. Дело было перед самым обедом, вызвали в штаб
командира отделения разведки Чабарова, который заменял убитого командира
взвода, приказали сдать взвод ему, лейтенанту Третьякову. Чабаров, старый
фронтовик, глянул на девятнадцатилетнего лейтенанта, присланного командовать
над ним, ничего не сказал, повел к бойцам.
Весь взвод, все, кто в этот момент не находился на наблюдательном
пункте, рыли за хатой щели от бомбежки: не для себя рыли, для штаба
дивизиона. Над стрижеными головами, над мокрыми подмышками, над втянутыми от
усилия животами взлетали вразнобой и падали кирки. В закаменелой от солнца
земле кирка, вонзаясь, оставляла металлический след и вновь взлетала,
блещущая, как серебряный слиток.
Освещенные солнцем солдатские тела даже после целого лета были белы,
только лица, шеи и кисти рук черные от загара. И все это были молодые
ребята, начинавшие наливаться силой: за войну подросли в строй, только двое,
трое -- пожилых, жилистых, с вытянутыми работой мускулами, начавшей обвисать
кожей. Но особенно один из всех- выделялся, мощный, как борец, от горла до
ремня брюк заросший черной шерстью; когда он вскидывал кирку, не ребра
проступали под кожей, а мышцы меж ребер.
Пройдя взглядом по этим блестевшим от пота телам, увидел Третьяков у
многих отметины прежних ран, затянутые глянцевой кожицей, увидел их глазами
себя: перед ними, тяжело работавшими, голыми по пояс, стоял он, только что
выпущенный из училища, в пилотке гребешком, весь новый, как выщелкнутый из
обоймы патрон. Это не зря Чабаров вот таким представил его взводу, нашел
момент. И не станешь объяснять, что тоже побывал, повидал за войну.
После уж, когда подошло время за обедом идти, построил Чабаров взвод, с
оружием, с котелками в руках, подал список, собственноручно накарябанный на
бумаге. А сам, подбористый, коренастый, широкоскулый, с коричневым от загара
лицом, в котором ясно различалась монгольская кровь, стал правофланговым,
всем видом своим давая понять, что дисциплину он уважает, а его, нового
командира взвода, пока что уважать обождет. И вот взвод стоял, глядел на
него, а на листе бумаги были перед Третьяковым фамилии.
-- Джеджелашвили!-- вызвал он. Поразило, зачем два раза "дже", когда и
одного было бы достаточно. И еще успел подумать, что это, наверное, тот
самый, заросший по горло черной шерстью.
-- Я!
Из строя выступил светлый мальчик, морковный румянец во всю щеку, глаза
рыжеватые, глядит весело:
Джеджелашвили. А у того, борца, фамилия оказалась Насруллаев. И кого ни
вызывал он из строя, ни одна фамилия как-то не подходила к человеку. Так и
осталось у него на первых порах: список сам по себе, взвод сам по себе.
Этот его взвод увел с собой командир батареи -- оборудовать новый
наблюдательный пункт, а он вел пушки и огневиков Завгороднего, которого
везли в прицепе. И уже сам не представлял толком, куда он их ведет. К трем
ноль-ноль пушки должны были стоять на огневых позициях, а они пока что и
Ясеневки не проехали. "Там будет хутор Ясенивка чи Яблонивка,-- сказал
комбат, на стертом сгибе карты пытаясь разобрать названия.-- В общем, сам
увидишь... От него вправо и вправо..." Но они шли и час и два часа, а
никакого хутора не было видно, сколько ни вглядывался Третьяков при смутных
отсветах ракет, в дожде приподымавших над передовой мокрый полог ночи. И,
ужасаясь мысли, что он ведет не туда, сбился, страшась позора, он делал
единственное, что мог; не подавал вида, шел тем уверенней, чем меньше
уверенности было в нем самом.
Что-то зачернело наконец впереди неясно. Взошла ракета, и, присев,
успел Третьяков разглядеть на фоне неба: какие-то сараи длинные, низкие,
что-то еще высилось за ними. Должно быть, тополя... Ракета погасла, сплошная
сомкнулась темень.
Заторопившись, обрадованный, оскользаясь сапогами по размокшему
чернозему, он обогнал передний трактор, махнул трактористу рукой: за мной,
мол. Все равно голоса не было слышно.
То, что он принял издали за сараи, оказалось вблизи батареей
стодвадцатидвухмиллиметровых пушек. Увязанные, как возы, стояли сбоку дороги
длинноствольные пушки с тракторами одна другой вслед. И оттуда уже шел к
нему кто-то в плащ-палатке. Подошел, взял под козырек, отряхнув капли с
капюшона, подал мокрую холодную руку:
-- Глуши моторы!
-- Зачем глушить?
-- Не видишь, что впереди?
Ничего еще не различая, поняв только, что это не хутор, значит, не туда
куда-то они вышли, Третьяков спросил:
-- А Ясеневка тут должна быть, Ясеневка... До Ясеневки далеко?
Лицо человека, смутно различимое под капюшоном, показалось старым,
сморщенным. Но на груди его, где плащ-палатка разошлась, воинственно
блестели пряжки боевых наплечных ремней, надетых поверх шинели, тоненький
ремешок планшетки пересекал их, и еще болтался мокрый от дождя бинокль.
-- Километров пять до нее будет.
-- Как пять? Было четыре, мы уже два часа идем...
-- Ну, может, четыре,-- человек безразлично махнул рукой.-- Взводный?
Вот и я сам такой Ванька-- взводный. У тебя стопятидесятидвух гаубицы-пушки?
То же, что мои, один черт. Пятнадцать тонн вместе с трактором! А мост
впереди-- плечом спихнешь.
Вместе пошли смотреть мост. От обеих батарей потянулись за ними бойцы.
По мокрым, скользким бревнам настила дошли до середины. Внизу то ли овраг,
то ли пересохшее русло-- и не разглядишь отсюда.
-- А Ясеневка на той стороне?
-- Что, Ясеневка? Ясеневка, Ясеневка... У тебя этот мост есть на карте?
И у меня нету.-- Раскрыв планшетку, взводный ногтем щелкал по целлулоиду,
под которым мутно различалась карта, рукавом шинели смахивал сыпавшийся
сверху дождь.-- На карте его нету, а он -- вот он!
И для большей наглядности бил каблуком в бревна. Даже подпрыгнул на
них. А вокруг стояли бойцы обеих батарей.
-- На карте нет, значит, и на местности не должно быть. А раз он есть,
на карту нанеси. Так я понимаю?
Он понимал правильно: на карту не нанесли, он воевать не обязан.
По откосу, вымочив колени о высокую траву, Третьяков сбежал под мост.
Опоры из бревен. Схвачены скобами наверху. Когда вот так снизу глядел, все
это сооружение показалось ненадежным.
В училище объясняли им, как рассчитать грузоподъемность моста. Майор
Батюшков преподавал у них инженерное дело. Черт его рассчитает сейчас, когда
не видно ничего. А в уши назойливо лез голос взводного -- не отставая, тот
шел за ним, в каждую опору бил кулаком:
-- Вон они! Вон они! Разве ж выдержит такой гpуз? -- И ногтем пытался
уколупнуть:-- Она еще и гнилая вся...
Как будто главней войны было сейчас убедить Третьякова.
Взошла ракета, не поднявшись над краем черной земли. Мутным светом
налило овраг, и на нем всплыл мост: бревенчатый настил, люди под дождем. А
они двое стояли внизу в траве. Остов грузовика валялся среди камней; по
кабине, смятой, как жестянка, и мокрой сек дождь. "Чего он меня убеждает?"--
разозлился Третьяков. И за свою нерешительность остро возненавидев этого
человека, полез наверх.
Он подошел к первому орудию:
-- Где трактористы?
Бойцы начали оглядываться, потом один из них, ближний, который
оглядывался живей всех, назвался:
-- Я!
Словно вдруг сам себя среди всех нашел. Но не вышел вперед, остался
среди бойцов стоять: так он прочней себя чувствовал.
-- Командиры орудий, трактористы, ко мне! -- приказал Третьяков, тем
отделяя их от батареи.
Один за другим подошли и стали перед ним шесть человек. Трактористов
сразу отличить можно: эти все закопченные.
-- Значит, так, людей всех-- от орудий. Командиры орудий, пойдете
впереди. Каждый -- впереди своего орудия. Трактористам: орудия поведете на
первой скорости. Пройдет одно, тогда другое вести. Ясно?
Молчание. Один из двух командиров орудий был Паравян, который
"случ-чего с тобой будет".
-- Ясно я говорю?
Не сразу недружно ответили: "Ясно..." А позади стояла и молчала
батарея. Они были вместе, а он, поставленный над ними, никому и ничем не
известный, был один. И не столько даже мосту они не доверяли-- выдержит, не
выдержит,-- как ему они не верили. И другая батарея ждала, уступала им
дорогу идти первыми.
-- Твой трактор?-- Третьяков пальцем указал на тракториста, который
поначалу больше всех оглядывался. И на трактор указал.
-- Этот?-- тракторист тянул время. На тракторе до малинового свечения
раскалилась у основания выхлопная труба, капли дождя испарялись на лету.--
Мой.
-- Фамилия?
-- А что фамилие, товарищ лейтенант? Семакин мое фамилие.
-- Ты, Семакин, поведешь первое орудие.
-- Я, товарищ лейтенант, поведу!-- звонко заговорил Семакин и рукой
махнул отчаянно: мол, ему себя не жаль.-- Я поведу. Я приказания всегда
выполняю!-- При этом он отрицательно тряс головой.-- Только трактор чем
будем вытаскивать? Ему под мостом лежать. И орудие тож самое...
Он говорил, подпираемый сочувственным молчанием батарейцев. Все они
вместе и по отдельности каждый отвечали и за страну, и за войну, и за все,
что есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к
сроку, отвечал он один. А раз было кому, они не отвечали.
-- Я под мостом буду стоять, если ты испугался, боишься вести. Надо
мной поведешь орудие!
И, скомандовав: трактористам-- по местам, всем бойцам-- от орудий!--
повел батарею к мосту.
Когда гусеницы трактора легли на первые бревна и они, зашевелясь,
дрогнув, вдавились, Третьяков сбежал вниз. При командире батареи они не
стали бы жаться, друг на друга оглядываться, а на него можно и свой груз
переложить.
-- Давай!-- махнул рукой, крикнул он снизу, хоть там, рядом с
трактором, слышать его не могли. И как в свою судьбу вошел под мост.
Все прогибалось над головой, над поднятым вверх лицом, с бревна на
бревно передавая катившуюся тяжесть. Показалось, опоры оседают. И тут пушка
въехала на мост. Застонал, зашатался мост. "Рухнет!"-- даже дыхание
перехватило. Бревна терлись друг о друга, сверху сыпалась труха. Мигая
запорошенными глазами, не видя ничего, он протирал их шершавыми пальцами,
пытался разглядеть ослепленно, что над ним, но все мерцало. И сквозь выхлопы
мотора слышен был треск дерева.
Не разглядев, он почувствовал, как вся эта огромная тяжесть съехала с
моста на земную твердь, и мост вздохнул над ним. Только теперь и ощутил он,
какая сила давила сверху: по своим напрягшимся мускулам ощутил, будто он сам
спиной подпирал мост.
Третьяков вылез из оврага: не стоять же ему все время под мостом, не
цирк все-таки. Приказав на всякий случай отцепить прицеп, везти его на
длинном тросе, он, не ожидая, перешел мост. Он шел мимо орудия, мимо
стоявших около него батарейцев, он был прав, он делал то, что должен делать,
но отчего-то смотреть на них ему сейчас было неприятно и уже стыдновато
становилось за себя. Под мост полез, чего-то кричал... Проще было сесть
рядом с трактористом и спокойно вести батарею: и шуму меньше и толку больше.
К середине ночи, на хуторе, достучавшись в хату, подняли старика
показывать дорогу. В одном белье, ничего на себя не надев, сидел он на
тракторе: надеялся, наверное, так жальче будет его, отпустят скорей. Ему
дали на плечи ватный бушлат, пропахший соляркой, и он, запахнувшись
рукавами, грел ногу об ногу.
-- Ось, ось... по тэй стежечке...-- Голая цыплячья шея его с клоками
белого пуха высовывалась из воротника.
-- "Осесь, осесь",-- передразнивал тракторист, весь мокрый, в мокрой
натянутой на голову пилотке.-- Где ты меня ведешь? Тут бабы до ветра ходят.
Ты веди, где пушка пройдет!
Старик покорно мигал слезящимися глазами, и опять вытянутая из бушлата
трясущаяся рука его указывала вперед, на дождь. Он вывел батарею в посадку,
и его отпустили.
Заглушили моторы. И близко, резко вдруг застучал пулемет. Из черноты
земли засверкали трассы пуль, возникая и исчезая. Передовая была где-то
недалеко. И он с тяжелыми пушками заперся сюда.
Подошли трактористы:
-- Горючего нет, товарищ лейтенант.
-- Как нет?
-- Пожгли.
-- Всю ночь ездим-ездим...
Слабый хлопок выстрела. Прочертив искрящийся дымный след, взвилась
ракета. Вспыхнула, раскрылся свет над ними, и посадка, пушки, люди-- все
поднялось к свету, как на голой ладони.
-- Как же нет горючего?-- спрашивал Третьяков, чувствуя полнейшую свою
беспомощность и отчаяние.-- Как нет, когда должно быть?
Они стояли перед ним, глядели в землю и молчали. И могли так стоять
бесконечно, это он видел. Свет погас. Не зная, что теперь делать, что еще
говорить,-- а кричать, ругаться вовсе было бесполезно,-- Третьяков отошел.
Показалось, что из прицепа Завгородний позвал его, стон какой-то послышался,
но он сделал вид, что не слышит. Утешений ему не надо, да и что он, больной,
оттуда мог сделать?
Какие-то лошади бродили в посадке. Одна, светлой масти, прижмурив
глаза, обгрызала кору с дерева. От мокрого крупа ее подымался пар. Третьяков
только сейчас увидел, что дождь кончился. И от земли, из травы исходит
туман.
Он услышал голоса, подошел ближе. Тяжело дыша, приглушенно ругаясь,
расчет закатывал пушку в свежевырытый окоп. Придерживая за ствол, налегая на
станины, на резиновые колеса, полуголые, мокрые от дождя, батарейцы скатили
орудие. Сдержанно возбужденные стояли вокруг него. Это были позиции
дивизионных пушек. Он разыскал командира взвода. Стариковатый с виду, в
пехотинских обмотках и ботинках, на каждый из которых налипло по пуду
чернозема, тот поначалу недоверчиво слушал Третьякова. Наконец понял, в чем
дело. Сличили карты. И вдруг, словно местность повернулась перед глазами,
все понятно стало. С полкилометра отсюда был тот скат высоты, за которым
следовало поставить батарею.
Торопясь, пока не рассвело, он отыскал позиции батареи, все там
облазил, сообразил, какой дорогой поведет сюда орудия, и вернулся в посадку.
Бойцы спали, только Паравян, завернувшись в плащ-палатку, ходил у орудий.
Скомандовали подъем. Озябшие в сырых бушлатах, не согревшиеся и во сне,
подходили трактористы, зевали с дрожью. Он объяснил, как поведет орудия, и
горючее нашлось.
-- Там в канистрах было немного... И отводили глаза. Он так
расстроился, когда сказали, что горючее кончилось, что даже по бакам не
проверил. А теперь не только в канистрах, но еще и бочка солярки
обнаружилась. Ну, что ж, трактористы тоже были правы: ездить всю ночь
неведомо куда, и, правда, все горючее пожжешь.
Перед рассветом, когда сгустилась сырая тьма, Третьяков, оставив
огневиков рыть орудийные окопы, привел связь на МП. Чабаров в свежевырытом
ровике устанавливал стереотрубу.
-- Где комбат?
-- Спит вон наверху комбат.
Взлетела ракета на передовой, и Третьяков увидел: укрывшись с головой
плащ-палаткой, выставив мокрые сапоги наружу, спал комбат за бруствером.
-- Товарищ капитан! Товарищ капитан!.. Повысенко сел на земле, жмурясь
от света ракеты, глянул мутными глазами, не соображая в первый момент.
Зевнул до слез, вздрогнул, потряс головой:
-- Ага... Привел связь7
Уже в темноте долго глядел на светящиеся стрелки циферблата.
-- Где ж ты столько ездил? Тебя как по фамилии, Четвериков?
-- Третьяков.
-- Ага, Третьяков, верно. Тебя за смертью посылать. Встал во весь рост,
потянулся, зевнул с подвывом, просыпаясь окончательно.
-- Орудийные окопы вырыли?
-- Роют.
У Третьякова все еще стоял в ушах рев тракторов, а ноги как будто шли
по вязкому чернозему. Только голова после всей этой бессонной ночи была
легкая, ясная, и огромный в своей плащ-палатке комбат то близко был виден,
то отдалялся в красноватый свет пожара.
Той же ночью Третьяков вел орудия к фронту. Весь их дивизион
перекидывали куда-то левей. Заскочил в сумерках командир батареи капитан
Повысенко, ткнул ногтем в карту:
-- Вот этот ложок видишь? Высотку видишь? Поставишь орудия за обратным
скатом.-- Железный ноготь, обкуренный до черноты, провел черту.-- Ясно? Мой
НП будет на высоте плюс сто тридцать два и семь. Поставишь батарею, потянешь
ко мне связь.
И опять:
-- Ясно?
-- Ясно,-- сказал Третьяков. На карте все было ясно.
Рядом рокотал трактор, из выхлопной трубы выпархивали искры, яркие в
сумерках. Зачехленные, в походном положении, орудия были уже прицеплены, но
ба-тарейцы все что-то грузили на них сверху, все что-то несли. У прицепа с
батарейным имуществом суетился старшина. Повысенко поглядел туда неподвижным
взглядом, подошел.
В прицепе, под брезентовым верхом, стоял в темноте на четвереньках
командир огневого взвода Завго-родний, мучился болями. Его хотели отправлять
в медсанбат, но на фронте заболевший поневоле чувствует себя кем-то вроде
симулянта. Тут либо ранит, либо убивает, а какая может быть болезнь на
фронте? Сейчас ты жив, через час убило-- не все равно, здорового убило или
заболевшего? И Завгородний превозмогал себя. В последний момент старшина
вспомнил испытанное средство: намешал полстакана керосина с солью, дал
выпить: "Оно сначала пожгеть, пожгеть, потом от-пу-устит..."
Подойдя к заднему борту, Повысенко заглянул внутрь прицепа, в темноту:
-- Ну как, полегчало? И старшина всунулся:
-- Жгеть? Жгеть?
Он чувствовал себя ответственным -- и за средство и за болезнь.
-- Легча-ает,-- через силу простонал Завгородний. И переступил коленями
на шинелях: лечь он не мог.
-- Средство верное,-- обнадежил старшина.-- Пожгеть, пожгеть и--
отпу-устит...
И погладил себя по душе, до самой ременной пряжки, где и должно было
отпустить.
Давило низкое, небо, все серое, как одна сплошная туча. И угольными
тенями под ним несло разорванные облака. Притихло перед дождем. Трактора с
прицепленными орудиями стояли в посадке; правей за кукурузным полем глухо
выстукивали пулеметы, взвивались над землей трассы пуль, все уже яркие.
-- Значит, так.-- Комбат подумал, пожевал шелушащимися, обветренными
губами.-- Твой взвод управления беру с собой. Случ-чего Паравян,
помкомвзвода, с тобой будет. Все ясно? Действуй!
Козырнул и зашуршал плащ-палаткой, удаляясь.
Дождались темноты. Тронулись. Взрокотав, трактора потянули за собой
орудия, подминая под гусеницы кустарник, давя на выезде из посадки молодые
деревца. По рыхлой земле глубокий развороченный след оставался за батареей.
Двигались без света. Сверху-- черное небо, под ногами и впереди
светлела пыльная дорога. Спустился дождь. На тяжелые колеса пушек, на
резиновые ободья валом наматывался чернозем.
Фронт все время оставался правей; по нему и ориентировался Третьяков.
Невысоко взлетали там ракеты и гасли, задушенные дождем. В смутных
движущихся отсветах каждый раз видел Третьяков батарейцев в мокрых
плащ-палатках, идущих за пушками. И обязательно несколько человек,
нахохлившись, сидели на каждой пушке, дремали, а сверху дождь сыпал.
-- Паравян! А ну, сгони с пушек! Тряхнет, попадают сверху, подавит
сонных.
Паравян, статный, красивый помкомвзвода, смотрел на него из-под
намокших выгнутых ресниц своими черными глазами, молча не одобрял и шел
выполнять.
-- Хочешь, чтоб людей подавило? Сколько раз говорить!
И знал Третьяков, что говорить ему столько, сколько будут двигаться. Он
тоже был бойцом, и тоже его вот так сгоняли, а он заходил с другой стороны
и, как только не видел командир, опять влезал на пушку, потому что хотел
спать, а спать сидя лучше, чем на ходу. Но сейчас не кто-то другой, кого в
душе чертыхать можно, отвечал за него, а он сам командовал людьми и отвечал
за них и потому приказывал сгонять сонных бойцов. И Паравян неохотно шел
выполнять.
Никого из них, кроме все того же Паравяна, не знал он ни в лицо, ни по
фамилиям. Он вел их, они шли за ним. Он и в своем-то взводе управления еще
никого не успел узнать. Дело было перед самым обедом, вызвали в штаб
командира отделения разведки Чабарова, который заменял убитого командира
взвода, приказали сдать взвод ему, лейтенанту Третьякову. Чабаров, старый
фронтовик, глянул на девятнадцатилетнего лейтенанта, присланного командовать
над ним, ничего не сказал, повел к бойцам.
Весь взвод, все, кто в этот момент не находился на наблюдательном
пункте, рыли за хатой щели от бомбежки: не для себя рыли, для штаба
дивизиона. Над стрижеными головами, над мокрыми подмышками, над втянутыми от
усилия животами взлетали вразнобой и падали кирки. В закаменелой от солнца
земле кирка, вонзаясь, оставляла металлический след и вновь взлетала,
блещущая, как серебряный слиток.
Освещенные солнцем солдатские тела даже после целого лета были белы,
только лица, шеи и кисти рук черные от загара. И все это были молодые
ребята, начинавшие наливаться силой: за войну подросли в строй, только двое,
трое -- пожилых, жилистых, с вытянутыми работой мускулами, начавшей обвисать
кожей. Но особенно один из всех- выделялся, мощный, как борец, от горла до
ремня брюк заросший черной шерстью; когда он вскидывал кирку, не ребра
проступали под кожей, а мышцы меж ребер.
Пройдя взглядом по этим блестевшим от пота телам, увидел Третьяков у
многих отметины прежних ран, затянутые глянцевой кожицей, увидел их глазами
себя: перед ними, тяжело работавшими, голыми по пояс, стоял он, только что
выпущенный из училища, в пилотке гребешком, весь новый, как выщелкнутый из
обоймы патрон. Это не зря Чабаров вот таким представил его взводу, нашел
момент. И не станешь объяснять, что тоже побывал, повидал за войну.
После уж, когда подошло время за обедом идти, построил Чабаров взвод, с
оружием, с котелками в руках, подал список, собственноручно накарябанный на
бумаге. А сам, подбористый, коренастый, широкоскулый, с коричневым от загара
лицом, в котором ясно различалась монгольская кровь, стал правофланговым,
всем видом своим давая понять, что дисциплину он уважает, а его, нового
командира взвода, пока что уважать обождет. И вот взвод стоял, глядел на
него, а на листе бумаги были перед Третьяковым фамилии.
-- Джеджелашвили!-- вызвал он. Поразило, зачем два раза "дже", когда и
одного было бы достаточно. И еще успел подумать, что это, наверное, тот
самый, заросший по горло черной шерстью.
-- Я!
Из строя выступил светлый мальчик, морковный румянец во всю щеку, глаза
рыжеватые, глядит весело:
Джеджелашвили. А у того, борца, фамилия оказалась Насруллаев. И кого ни
вызывал он из строя, ни одна фамилия как-то не подходила к человеку. Так и
осталось у него на первых порах: список сам по себе, взвод сам по себе.
Этот его взвод увел с собой командир батареи -- оборудовать новый
наблюдательный пункт, а он вел пушки и огневиков Завгороднего, которого
везли в прицепе. И уже сам не представлял толком, куда он их ведет. К трем
ноль-ноль пушки должны были стоять на огневых позициях, а они пока что и
Ясеневки не проехали. "Там будет хутор Ясенивка чи Яблонивка,-- сказал
комбат, на стертом сгибе карты пытаясь разобрать названия.-- В общем, сам
увидишь... От него вправо и вправо..." Но они шли и час и два часа, а
никакого хутора не было видно, сколько ни вглядывался Третьяков при смутных
отсветах ракет, в дожде приподымавших над передовой мокрый полог ночи. И,
ужасаясь мысли, что он ведет не туда, сбился, страшась позора, он делал
единственное, что мог; не подавал вида, шел тем уверенней, чем меньше
уверенности было в нем самом.
Что-то зачернело наконец впереди неясно. Взошла ракета, и, присев,
успел Третьяков разглядеть на фоне неба: какие-то сараи длинные, низкие,
что-то еще высилось за ними. Должно быть, тополя... Ракета погасла, сплошная
сомкнулась темень.
Заторопившись, обрадованный, оскользаясь сапогами по размокшему
чернозему, он обогнал передний трактор, махнул трактористу рукой: за мной,
мол. Все равно голоса не было слышно.
То, что он принял издали за сараи, оказалось вблизи батареей
стодвадцатидвухмиллиметровых пушек. Увязанные, как возы, стояли сбоку дороги
длинноствольные пушки с тракторами одна другой вслед. И оттуда уже шел к
нему кто-то в плащ-палатке. Подошел, взял под козырек, отряхнув капли с
капюшона, подал мокрую холодную руку:
-- Глуши моторы!
-- Зачем глушить?
-- Не видишь, что впереди?
Ничего еще не различая, поняв только, что это не хутор, значит, не туда
куда-то они вышли, Третьяков спросил:
-- А Ясеневка тут должна быть, Ясеневка... До Ясеневки далеко?
Лицо человека, смутно различимое под капюшоном, показалось старым,
сморщенным. Но на груди его, где плащ-палатка разошлась, воинственно
блестели пряжки боевых наплечных ремней, надетых поверх шинели, тоненький
ремешок планшетки пересекал их, и еще болтался мокрый от дождя бинокль.
-- Километров пять до нее будет.
-- Как пять? Было четыре, мы уже два часа идем...
-- Ну, может, четыре,-- человек безразлично махнул рукой.-- Взводный?
Вот и я сам такой Ванька-- взводный. У тебя стопятидесятидвух гаубицы-пушки?
То же, что мои, один черт. Пятнадцать тонн вместе с трактором! А мост
впереди-- плечом спихнешь.
Вместе пошли смотреть мост. От обеих батарей потянулись за ними бойцы.
По мокрым, скользким бревнам настила дошли до середины. Внизу то ли овраг,
то ли пересохшее русло-- и не разглядишь отсюда.
-- А Ясеневка на той стороне?
-- Что, Ясеневка? Ясеневка, Ясеневка... У тебя этот мост есть на карте?
И у меня нету.-- Раскрыв планшетку, взводный ногтем щелкал по целлулоиду,
под которым мутно различалась карта, рукавом шинели смахивал сыпавшийся
сверху дождь.-- На карте его нету, а он -- вот он!
И для большей наглядности бил каблуком в бревна. Даже подпрыгнул на
них. А вокруг стояли бойцы обеих батарей.
-- На карте нет, значит, и на местности не должно быть. А раз он есть,
на карту нанеси. Так я понимаю?
Он понимал правильно: на карту не нанесли, он воевать не обязан.
По откосу, вымочив колени о высокую траву, Третьяков сбежал под мост.
Опоры из бревен. Схвачены скобами наверху. Когда вот так снизу глядел, все
это сооружение показалось ненадежным.
В училище объясняли им, как рассчитать грузоподъемность моста. Майор
Батюшков преподавал у них инженерное дело. Черт его рассчитает сейчас, когда
не видно ничего. А в уши назойливо лез голос взводного -- не отставая, тот
шел за ним, в каждую опору бил кулаком:
-- Вон они! Вон они! Разве ж выдержит такой гpуз? -- И ногтем пытался
уколупнуть:-- Она еще и гнилая вся...
Как будто главней войны было сейчас убедить Третьякова.
Взошла ракета, не поднявшись над краем черной земли. Мутным светом
налило овраг, и на нем всплыл мост: бревенчатый настил, люди под дождем. А
они двое стояли внизу в траве. Остов грузовика валялся среди камней; по
кабине, смятой, как жестянка, и мокрой сек дождь. "Чего он меня убеждает?"--
разозлился Третьяков. И за свою нерешительность остро возненавидев этого
человека, полез наверх.
Он подошел к первому орудию:
-- Где трактористы?
Бойцы начали оглядываться, потом один из них, ближний, который
оглядывался живей всех, назвался:
-- Я!
Словно вдруг сам себя среди всех нашел. Но не вышел вперед, остался
среди бойцов стоять: так он прочней себя чувствовал.
-- Командиры орудий, трактористы, ко мне! -- приказал Третьяков, тем
отделяя их от батареи.
Один за другим подошли и стали перед ним шесть человек. Трактористов
сразу отличить можно: эти все закопченные.
-- Значит, так, людей всех-- от орудий. Командиры орудий, пойдете
впереди. Каждый -- впереди своего орудия. Трактористам: орудия поведете на
первой скорости. Пройдет одно, тогда другое вести. Ясно?
Молчание. Один из двух командиров орудий был Паравян, который
"случ-чего с тобой будет".
-- Ясно я говорю?
Не сразу недружно ответили: "Ясно..." А позади стояла и молчала
батарея. Они были вместе, а он, поставленный над ними, никому и ничем не
известный, был один. И не столько даже мосту они не доверяли-- выдержит, не
выдержит,-- как ему они не верили. И другая батарея ждала, уступала им
дорогу идти первыми.
-- Твой трактор?-- Третьяков пальцем указал на тракториста, который
поначалу больше всех оглядывался. И на трактор указал.
-- Этот?-- тракторист тянул время. На тракторе до малинового свечения
раскалилась у основания выхлопная труба, капли дождя испарялись на лету.--
Мой.
-- Фамилия?
-- А что фамилие, товарищ лейтенант? Семакин мое фамилие.
-- Ты, Семакин, поведешь первое орудие.
-- Я, товарищ лейтенант, поведу!-- звонко заговорил Семакин и рукой
махнул отчаянно: мол, ему себя не жаль.-- Я поведу. Я приказания всегда
выполняю!-- При этом он отрицательно тряс головой.-- Только трактор чем
будем вытаскивать? Ему под мостом лежать. И орудие тож самое...
Он говорил, подпираемый сочувственным молчанием батарейцев. Все они
вместе и по отдельности каждый отвечали и за страну, и за войну, и за все,
что есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к
сроку, отвечал он один. А раз было кому, они не отвечали.
-- Я под мостом буду стоять, если ты испугался, боишься вести. Надо
мной поведешь орудие!
И, скомандовав: трактористам-- по местам, всем бойцам-- от орудий!--
повел батарею к мосту.
Когда гусеницы трактора легли на первые бревна и они, зашевелясь,
дрогнув, вдавились, Третьяков сбежал вниз. При командире батареи они не
стали бы жаться, друг на друга оглядываться, а на него можно и свой груз
переложить.
-- Давай!-- махнул рукой, крикнул он снизу, хоть там, рядом с
трактором, слышать его не могли. И как в свою судьбу вошел под мост.
Все прогибалось над головой, над поднятым вверх лицом, с бревна на
бревно передавая катившуюся тяжесть. Показалось, опоры оседают. И тут пушка
въехала на мост. Застонал, зашатался мост. "Рухнет!"-- даже дыхание
перехватило. Бревна терлись друг о друга, сверху сыпалась труха. Мигая
запорошенными глазами, не видя ничего, он протирал их шершавыми пальцами,
пытался разглядеть ослепленно, что над ним, но все мерцало. И сквозь выхлопы
мотора слышен был треск дерева.
Не разглядев, он почувствовал, как вся эта огромная тяжесть съехала с
моста на земную твердь, и мост вздохнул над ним. Только теперь и ощутил он,
какая сила давила сверху: по своим напрягшимся мускулам ощутил, будто он сам
спиной подпирал мост.
Третьяков вылез из оврага: не стоять же ему все время под мостом, не
цирк все-таки. Приказав на всякий случай отцепить прицеп, везти его на
длинном тросе, он, не ожидая, перешел мост. Он шел мимо орудия, мимо
стоявших около него батарейцев, он был прав, он делал то, что должен делать,
но отчего-то смотреть на них ему сейчас было неприятно и уже стыдновато
становилось за себя. Под мост полез, чего-то кричал... Проще было сесть
рядом с трактористом и спокойно вести батарею: и шуму меньше и толку больше.
К середине ночи, на хуторе, достучавшись в хату, подняли старика
показывать дорогу. В одном белье, ничего на себя не надев, сидел он на
тракторе: надеялся, наверное, так жальче будет его, отпустят скорей. Ему
дали на плечи ватный бушлат, пропахший соляркой, и он, запахнувшись
рукавами, грел ногу об ногу.
-- Ось, ось... по тэй стежечке...-- Голая цыплячья шея его с клоками
белого пуха высовывалась из воротника.
-- "Осесь, осесь",-- передразнивал тракторист, весь мокрый, в мокрой
натянутой на голову пилотке.-- Где ты меня ведешь? Тут бабы до ветра ходят.
Ты веди, где пушка пройдет!
Старик покорно мигал слезящимися глазами, и опять вытянутая из бушлата
трясущаяся рука его указывала вперед, на дождь. Он вывел батарею в посадку,
и его отпустили.
Заглушили моторы. И близко, резко вдруг застучал пулемет. Из черноты
земли засверкали трассы пуль, возникая и исчезая. Передовая была где-то
недалеко. И он с тяжелыми пушками заперся сюда.
Подошли трактористы:
-- Горючего нет, товарищ лейтенант.
-- Как нет?
-- Пожгли.
-- Всю ночь ездим-ездим...
Слабый хлопок выстрела. Прочертив искрящийся дымный след, взвилась
ракета. Вспыхнула, раскрылся свет над ними, и посадка, пушки, люди-- все
поднялось к свету, как на голой ладони.
-- Как же нет горючего?-- спрашивал Третьяков, чувствуя полнейшую свою
беспомощность и отчаяние.-- Как нет, когда должно быть?
Они стояли перед ним, глядели в землю и молчали. И могли так стоять
бесконечно, это он видел. Свет погас. Не зная, что теперь делать, что еще
говорить,-- а кричать, ругаться вовсе было бесполезно,-- Третьяков отошел.
Показалось, что из прицепа Завгородний позвал его, стон какой-то послышался,
но он сделал вид, что не слышит. Утешений ему не надо, да и что он, больной,
оттуда мог сделать?
Какие-то лошади бродили в посадке. Одна, светлой масти, прижмурив
глаза, обгрызала кору с дерева. От мокрого крупа ее подымался пар. Третьяков
только сейчас увидел, что дождь кончился. И от земли, из травы исходит
туман.
Он услышал голоса, подошел ближе. Тяжело дыша, приглушенно ругаясь,
расчет закатывал пушку в свежевырытый окоп. Придерживая за ствол, налегая на
станины, на резиновые колеса, полуголые, мокрые от дождя, батарейцы скатили
орудие. Сдержанно возбужденные стояли вокруг него. Это были позиции
дивизионных пушек. Он разыскал командира взвода. Стариковатый с виду, в
пехотинских обмотках и ботинках, на каждый из которых налипло по пуду
чернозема, тот поначалу недоверчиво слушал Третьякова. Наконец понял, в чем
дело. Сличили карты. И вдруг, словно местность повернулась перед глазами,
все понятно стало. С полкилометра отсюда был тот скат высоты, за которым
следовало поставить батарею.
Торопясь, пока не рассвело, он отыскал позиции батареи, все там
облазил, сообразил, какой дорогой поведет сюда орудия, и вернулся в посадку.
Бойцы спали, только Паравян, завернувшись в плащ-палатку, ходил у орудий.
Скомандовали подъем. Озябшие в сырых бушлатах, не согревшиеся и во сне,
подходили трактористы, зевали с дрожью. Он объяснил, как поведет орудия, и
горючее нашлось.
-- Там в канистрах было немного... И отводили глаза. Он так
расстроился, когда сказали, что горючее кончилось, что даже по бакам не
проверил. А теперь не только в канистрах, но еще и бочка солярки
обнаружилась. Ну, что ж, трактористы тоже были правы: ездить всю ночь
неведомо куда, и, правда, все горючее пожжешь.
Перед рассветом, когда сгустилась сырая тьма, Третьяков, оставив
огневиков рыть орудийные окопы, привел связь на МП. Чабаров в свежевырытом
ровике устанавливал стереотрубу.
-- Где комбат?
-- Спит вон наверху комбат.
Взлетела ракета на передовой, и Третьяков увидел: укрывшись с головой
плащ-палаткой, выставив мокрые сапоги наружу, спал комбат за бруствером.
-- Товарищ капитан! Товарищ капитан!.. Повысенко сел на земле, жмурясь
от света ракеты, глянул мутными глазами, не соображая в первый момент.
Зевнул до слез, вздрогнул, потряс головой:
-- Ага... Привел связь7
Уже в темноте долго глядел на светящиеся стрелки циферблата.
-- Где ж ты столько ездил? Тебя как по фамилии, Четвериков?
-- Третьяков.
-- Ага, Третьяков, верно. Тебя за смертью посылать. Встал во весь рост,
потянулся, зевнул с подвывом, просыпаясь окончательно.
-- Орудийные окопы вырыли?
-- Роют.
У Третьякова все еще стоял в ушах рев тракторов, а ноги как будто шли
по вязкому чернозему. Только голова после всей этой бессонной ночи была
легкая, ясная, и огромный в своей плащ-палатке комбат то близко был виден,
то отдалялся в красноватый свет пожара.
 Несколько дней на этом участке велись вялые бои. Неубранное поле
пшеницы между немецкими и нашими окопами все больше осыпалось от разрывов,
черные воронки пятнили его. Ночами по хлебам уползала разведка: к немцам--
наша, к нам-- немецкая. И подымалась вдруг всплошная стрельба, начинали
скакать ракеты, светящиеся пулеметные трассы секли по полю, осадисто и
звонко ударяли минометы. И кого-то волокли по траншее, в общий счет
безымянных жертв войны, а он чертил по земле каблуками сапог, пожелтелыми
пальцами уроненной руки.
В жаркий полдень вспыхнуло от снаряда хлебное поле. Вихревой смерч
взметнулся, огонь погнало ветром, перебросило через окопы, и по всей
передовой и на высотке, где с разведчиком и телефонистом сидел Третьяков на
наблюдательном пункте, сменив командира батареи, осталась выжженная до
корней трав земля, прах и пепел. Жирный чад горелого зерна пропитал все
насквозь: и воздух, и еду, и одежду.
Когда, обойдя свой круг над многими полями сражений, в дым и пыль
садилось в тылу у немцев отяжелелое солнце и под пеплом облаков остывал
багровый закат, в небе уже высоко стоял месяц. Он наливался светом, холодно
блистал над черной землей.
При зеленом его свете, глядя на свои руки, в которые въелась гарь,
черной каймой окружала обломанные ногти, вспоминал иногда Третьяков, какие
они отмытые были у него на болоте под Старой Руссой -- кожа сморщенная,
отмякшая, как после стирки. А станет переобуваться, чтоб хоть в голенище
сапога подсушить край портянки, нога из нее, как неживая, как из воды нога
утопленника.
Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между
нашим и немецким передним краем, огня не разводили ни разу, и все на них
было сырое. А весна затяжная стояла в том, сорок втором году, холодная. На
майские праздники повалил вдруг снег, крупными хлопьями при солнце понеслась
косая метель, зарябило над хмурой водой, весь их островок стал белым. Потом
еще зеленей заблестела вытаявшая из-под снега трава.
И не забыть, как среди ночи подскочил он от свистящего шепота: "Немцы!"
Вышний ветер растянул облака, с вечера обложившие небо, вода смутно
блистала. Весь сотрясаемый ознобной дрожью, зубом на зуб не попадая
спросонья, больше всего в свои семнадцать лет боясь, что еще за труса
сочтут, Третьяков вглядывался из-за бруствера и ничего не мог разглядеть.
Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз. Вдруг от кустов
неслышно откачнулась волна. Еще одна. И пошли по воде, укачивая на себе
лунный свет. Тень за тенью, без всплеска, из куста в куст-- четверо. Только
волна возникала и отделялась.
Там, в кустах, всех четверых положили из карабинов. И по молодой своей
глупости полез он поглядеть на немцев: какие они? Что-то в самом себе хотел
выяснить. Полез и едва не погиб: один из разведчиков оказался живой еще. На
себе Третьяков притащил его и, когда перевязывал, уже слабевшего,
покрывавшегося смертной испариной, с удивлением не находил в себе ни злобы к
нему, ни ненависти, хоть немец этот только что в него стрелял.
Он до сих пор так и не выяснил для себя многого, но война шла третий
год и, что непонятно, стало привычно и просто. По своим законам текло время
на войне: что было давно, иногда приблизится ясно, словно это вчерашнее, а
самое долгое, самое нескончаемое, то, что происходит сейчас. Казалось, он
уже полжизни сидит на этой выгоревшей высотке, втянувшись в привычное
фронтовое состояние, когда спал-- не спал в любой час и спать готов и
подхватиться по тревоге. И многое он знал уже про своих бойцов, сидевших с
ним вместе. Младший, Обухов, рыжеватый и чернобровый, весь по смуглому лицу
осыпанный коричневыми пятнами веснушек, в свои неполные восемнадцать лет
воевал охотно. Все он посмеивался над связистом Суя-ровым, который больше,
чем вдвое, был старше его:
-- Ты расскажи, расскажи лейтенанту, за что тебе срок впаяли?
И сам же начинал рассказывать, светя синеватыми белками глаз:
-- Ему водку на нюх подносить нельзя. Он весь проспиртованный: грамм
выпьет, за себя не отвечает. Сколько ты лет получил до войны?
Суяров пригнетенно отмалчивался. Было что-то ненадежное в нем, в его
улыбке, временами искательной, обнажавшей черные от табака зубы. Но чаще он
только мигал, когда разговор шел про него, и сосредоточенно сосал мокрую
иссосанную цигарку, до синевы напиваясь табачным дымом. И почему-то
неприятно было смотреть, как у него сам по себе вздрагивает, копошится
обрубок безымянного пальца.
Когда уже обжились и на слух начали различать, откуда какая стреляет
немецкая батарея, пришел приказ смотать связь, срочно возвращаться на
огневые позиции. Сорвали плащ-палатку, заменявшую вход, наспех переворошили
сено на нарах, оглянулся Третьяков напоследок, и так вдруг жаль стало кидать
эту тесненькую их землянку, словно с ней что-то от души отрывал. На фронте
всегда так: место, где с тобой ничего не случилось, кажется уже особенно
надежным.
Под высокой луной, светившей ярко, они ползали по обгорелой земле,
сматывали провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял
ракеты. Когда весь ты на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе,
и каждая ракета над тобой зависает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было
сидеть, как безопасно.
За обратным скатом высоты, в низине пошли в полный рост. Здесь, в сыром
логу, трава была высокая, вся в росе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на
ходу, отчего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что
перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как весь он
прокопчен насквозь.
Нагруженные катушками провода, лопаты, стереотрубу, все имущество и
оружие неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой
ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда
по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется-- и нет
никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на
дорогу-- и конец его и начало,-- все теряется в пыли, многолюдна Россия.
Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом
году столько осталось зарытых и незарытых.
Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине, падал отсвет, в нем
гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась в пыли горбатая от ноши пехота. И
возникало на миг: высокий, на голову выше всех пехотинец, в белой на свету
пилотке, прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу; блеснуло
смазкой вороненое длинное противотанковое ружье на плече у бронебойщика,
скуластое его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив
все запахи керосиновой вонью, промчались танки, облепленные по броне
пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отсвет прожектора, среди пехоты,
втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею: медленно
двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч,
пошли налегке.
Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод
управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее
солнце, опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив
на солнце портянки, Третьяков задремывал сидя, босые ступни его пригревало в
затишке. Густо-синее небо над головой, желтые, шелестящие на ветру вершины
деревьев плывут, плывут навстречу белым облакам... Он засыпал, просыпался...
Пахло в лесу осенью, костром, вокруг костра спал его взвод. Над огнем,
горевшим без дыма,-- закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с
ложки над паром. За неделю, что он в полку, Третьяков еще не всех запомнил в
своем взводе, но этого бойца узнал. Плоское лицо масляно блестит от близкого
жара, глаза сожмурены... Кытин! Фамилия сама выскочила: Кытин.
Огонь лизал сальное, дымящееся ведро. Попробовав с ложки еще раз, Кытин
засомневался, подумал, досолил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной пар,
захотелось есть.
-- Ты чего варишь, Кытин? Тот обернулся:
-- Проснулись, товарищ лейтенант?
-- Варишь, говорю, кого?
-- Да бегало тут о четырех ногах... С рожками.
-- А как оно разговаривало?
У Кытина глаза сошлись в щелочки:
-- Бе-еэ,-- проблеял он.-- Давайте портянки к огню, товарищ лейтенант,
теплыми наденете.
-- Они на солнце просохли.
Размяв портянки в черных от копоти пальцах, Третьяков обулся, встал. По
всему лесу, поваленная усталостью, спала пехота. Еще подтягивались
отставшие, брели как во сне; завидев своих, сразу же валились на землю. И от
одного бойца к другому бегала медсестра с сумкой на боку, смахивала слезы со
щек.
-- Один градусник был, и тот украли,-- пожаловалась она Третьякову,
незнакомому лейтенанту, больше и пожаловаться было некому. Немолодая, лет
тридцати, завивка шестимесячная набита пылью. Кому нужен ее градусник
воровать? Разбился или потерялся, а она ищет. И плачет оттого, что сил нет,
весь этот пеший ночной марш проделала со всеми. Солдаты спят, а она еще
ходит от одного к другому, будит сонных, заставляет разуваться, чем-то
смазывает потертые ноги, чем-то присыпает: мозоль хоть и не пуля, а с ног
валит. Вот кого Третьякову всегда жаль на войне: женщин. Особенно таких,
некрасивых, надорванных. Этим и на войне тяжелей.
Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали
молодые деревца; какие-то из них, может быть, еще и оживут. Снял пилотку,
шинель, стал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, и в нем
он увидел себя: кто-то, как цыган, черный, глядел оттуда. Щеки от пыли,
набившейся в отросшую щетину, темные; запавшие глаза обвело черным, скулы
обтянуты, они шелушащиеся какие-то, шершавые. За одну неделю сам на себя
стал непохож. Он отогнал к краю упавшие на воду сухие листья и водяного
жука, скакавшего невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике,
коричневая, но когда зачерпнул в ладонь, прозрачна оказалась она, чиста и
холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул с плеч. Потом,
вытерши подолом рубашки и шею и лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные
волосы и, когда застегивал на горле стоячий воротник, чувствовал себя
чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять,-- столько
он ее наглотался ночью.
Все это время над лесом подвывало с шуршанием в вышине: наша тяжелая
артиллерия била с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась
листва с деревьев. Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаную обрушенную
во многих местах траншею и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на
дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал. Но бескровным
было желтое его нерусское лицо, неплотно прижмуренный глаз тускло блестел. И
вся осыпана землей остриженная под машинку черная, круглая голова: уже
убитого, хоронил его другой снаряд.
Третьяков отошел за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих
воронок-- и впереди, и позади, и прямые попадания,-- огонь был силен. Этот
грохот и слышали они на подходе.
Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно
стекало в низину, там перестукивались пулеметы, блестела, как стекло, мокрая
крыша коровника, часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою
синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращенный к солнцу клин
подсолнечника.
Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за
курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти,
где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его. А когда уходил,
наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно.
Шинель на груди в свежих сгустках крови, а лица вообще нет. На песчаном
бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали еще. Много
видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было
то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся
золотая, манила, как непрожитая жизнь.
Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял эмалированный
таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе
гладил ветер по стриженым головам. Помкомвзвода Ча-баров, скрестив ноги
по-турецки, почетно сидел у таза. Завидев лейтенанта, стукнул ложкой, бойцы
зашевелились, кто лежал, начал садиться.
-- Ешьте, ешьте,-- сказал Третьяков. Но Чабаров строго глянул вокруг
себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую золу котелок, подал
лейтенанту. Они были все вместе, свои, а он пока еще не свой. Постелив
шинель под бок, Третьяков лег и тоже начал есть. Наварист был суп из
молодого козленка, и мясо-- сладкое, сочное.
-- А что, товарищ лейтенант,-- спросил Кытин, ласковыми глазами
хозяйки, всех накормившей, глядя на него,-- на нашем фронте и воевать можно?
И все заговорили о том, что лето не зима, летом вообще воевать можно,
не то, что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды.
Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудийные
окопы, а они уже и поспать успели и поели-- вот это и есть взвод управления:
разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления и
любил его за то, что здесь свободней. Чем ближе к опасности, тем человек
свободней душой.
Он смотрел на них, живых, веселых вблизи смерти. Макая мясо в крупную
соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал, к их удовольствию, про
Северо-Западный фронт, мокрый и голодный. Закурил после еды, сказал Чабарову
назначить с ним в ночь двух человек -- разведчика и связиста,-- и тот
назначил Кытина и вновь Суярова, который знает -- за что. И все это
делалось, и солнце подымалось выше над лесом, а своим чередом в сознании
проходило иное. Он все видел осыпанную снарядами песчаную траншею. Неужели
только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только им суждено и посмертно
оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят
сейчас в этом лесу,-- до них здесь так же сидели на траве,-- неужели от них
от всех ничего не остается? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто
не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит
самолет, взобравшись на недосягаемую высоту. Неужели и мысль невысказанная и
боль-- все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и
придет час -- отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих,
когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие-- Пушкин будущий,
Толстой-- остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже
не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?
Несколько дней на этом участке велись вялые бои. Неубранное поле
пшеницы между немецкими и нашими окопами все больше осыпалось от разрывов,
черные воронки пятнили его. Ночами по хлебам уползала разведка: к немцам--
наша, к нам-- немецкая. И подымалась вдруг всплошная стрельба, начинали
скакать ракеты, светящиеся пулеметные трассы секли по полю, осадисто и
звонко ударяли минометы. И кого-то волокли по траншее, в общий счет
безымянных жертв войны, а он чертил по земле каблуками сапог, пожелтелыми
пальцами уроненной руки.
В жаркий полдень вспыхнуло от снаряда хлебное поле. Вихревой смерч
взметнулся, огонь погнало ветром, перебросило через окопы, и по всей
передовой и на высотке, где с разведчиком и телефонистом сидел Третьяков на
наблюдательном пункте, сменив командира батареи, осталась выжженная до
корней трав земля, прах и пепел. Жирный чад горелого зерна пропитал все
насквозь: и воздух, и еду, и одежду.
Когда, обойдя свой круг над многими полями сражений, в дым и пыль
садилось в тылу у немцев отяжелелое солнце и под пеплом облаков остывал
багровый закат, в небе уже высоко стоял месяц. Он наливался светом, холодно
блистал над черной землей.
При зеленом его свете, глядя на свои руки, в которые въелась гарь,
черной каймой окружала обломанные ногти, вспоминал иногда Третьяков, какие
они отмытые были у него на болоте под Старой Руссой -- кожа сморщенная,
отмякшая, как после стирки. А станет переобуваться, чтоб хоть в голенище
сапога подсушить край портянки, нога из нее, как неживая, как из воды нога
утопленника.
Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между
нашим и немецким передним краем, огня не разводили ни разу, и все на них
было сырое. А весна затяжная стояла в том, сорок втором году, холодная. На
майские праздники повалил вдруг снег, крупными хлопьями при солнце понеслась
косая метель, зарябило над хмурой водой, весь их островок стал белым. Потом
еще зеленей заблестела вытаявшая из-под снега трава.
И не забыть, как среди ночи подскочил он от свистящего шепота: "Немцы!"
Вышний ветер растянул облака, с вечера обложившие небо, вода смутно
блистала. Весь сотрясаемый ознобной дрожью, зубом на зуб не попадая
спросонья, больше всего в свои семнадцать лет боясь, что еще за труса
сочтут, Третьяков вглядывался из-за бруствера и ничего не мог разглядеть.
Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз. Вдруг от кустов
неслышно откачнулась волна. Еще одна. И пошли по воде, укачивая на себе
лунный свет. Тень за тенью, без всплеска, из куста в куст-- четверо. Только
волна возникала и отделялась.
Там, в кустах, всех четверых положили из карабинов. И по молодой своей
глупости полез он поглядеть на немцев: какие они? Что-то в самом себе хотел
выяснить. Полез и едва не погиб: один из разведчиков оказался живой еще. На
себе Третьяков притащил его и, когда перевязывал, уже слабевшего,
покрывавшегося смертной испариной, с удивлением не находил в себе ни злобы к
нему, ни ненависти, хоть немец этот только что в него стрелял.
Он до сих пор так и не выяснил для себя многого, но война шла третий
год и, что непонятно, стало привычно и просто. По своим законам текло время
на войне: что было давно, иногда приблизится ясно, словно это вчерашнее, а
самое долгое, самое нескончаемое, то, что происходит сейчас. Казалось, он
уже полжизни сидит на этой выгоревшей высотке, втянувшись в привычное
фронтовое состояние, когда спал-- не спал в любой час и спать готов и
подхватиться по тревоге. И многое он знал уже про своих бойцов, сидевших с
ним вместе. Младший, Обухов, рыжеватый и чернобровый, весь по смуглому лицу
осыпанный коричневыми пятнами веснушек, в свои неполные восемнадцать лет
воевал охотно. Все он посмеивался над связистом Суя-ровым, который больше,
чем вдвое, был старше его:
-- Ты расскажи, расскажи лейтенанту, за что тебе срок впаяли?
И сам же начинал рассказывать, светя синеватыми белками глаз:
-- Ему водку на нюх подносить нельзя. Он весь проспиртованный: грамм
выпьет, за себя не отвечает. Сколько ты лет получил до войны?
Суяров пригнетенно отмалчивался. Было что-то ненадежное в нем, в его
улыбке, временами искательной, обнажавшей черные от табака зубы. Но чаще он
только мигал, когда разговор шел про него, и сосредоточенно сосал мокрую
иссосанную цигарку, до синевы напиваясь табачным дымом. И почему-то
неприятно было смотреть, как у него сам по себе вздрагивает, копошится
обрубок безымянного пальца.
Когда уже обжились и на слух начали различать, откуда какая стреляет
немецкая батарея, пришел приказ смотать связь, срочно возвращаться на
огневые позиции. Сорвали плащ-палатку, заменявшую вход, наспех переворошили
сено на нарах, оглянулся Третьяков напоследок, и так вдруг жаль стало кидать
эту тесненькую их землянку, словно с ней что-то от души отрывал. На фронте
всегда так: место, где с тобой ничего не случилось, кажется уже особенно
надежным.
Под высокой луной, светившей ярко, они ползали по обгорелой земле,
сматывали провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял
ракеты. Когда весь ты на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе,
и каждая ракета над тобой зависает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было
сидеть, как безопасно.
За обратным скатом высоты, в низине пошли в полный рост. Здесь, в сыром
логу, трава была высокая, вся в росе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на
ходу, отчего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что
перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как весь он
прокопчен насквозь.
Нагруженные катушками провода, лопаты, стереотрубу, все имущество и
оружие неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой
ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда
по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется-- и нет
никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на
дорогу-- и конец его и начало,-- все теряется в пыли, многолюдна Россия.
Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом
году столько осталось зарытых и незарытых.
Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине, падал отсвет, в нем
гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась в пыли горбатая от ноши пехота. И
возникало на миг: высокий, на голову выше всех пехотинец, в белой на свету
пилотке, прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу; блеснуло
смазкой вороненое длинное противотанковое ружье на плече у бронебойщика,
скуластое его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив
все запахи керосиновой вонью, промчались танки, облепленные по броне
пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отсвет прожектора, среди пехоты,
втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею: медленно
двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч,
пошли налегке.
Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод
управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее
солнце, опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив
на солнце портянки, Третьяков задремывал сидя, босые ступни его пригревало в
затишке. Густо-синее небо над головой, желтые, шелестящие на ветру вершины
деревьев плывут, плывут навстречу белым облакам... Он засыпал, просыпался...
Пахло в лесу осенью, костром, вокруг костра спал его взвод. Над огнем,
горевшим без дыма,-- закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с
ложки над паром. За неделю, что он в полку, Третьяков еще не всех запомнил в
своем взводе, но этого бойца узнал. Плоское лицо масляно блестит от близкого
жара, глаза сожмурены... Кытин! Фамилия сама выскочила: Кытин.
Огонь лизал сальное, дымящееся ведро. Попробовав с ложки еще раз, Кытин
засомневался, подумал, досолил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной пар,
захотелось есть.
-- Ты чего варишь, Кытин? Тот обернулся:
-- Проснулись, товарищ лейтенант?
-- Варишь, говорю, кого?
-- Да бегало тут о четырех ногах... С рожками.
-- А как оно разговаривало?
У Кытина глаза сошлись в щелочки:
-- Бе-еэ,-- проблеял он.-- Давайте портянки к огню, товарищ лейтенант,
теплыми наденете.
-- Они на солнце просохли.
Размяв портянки в черных от копоти пальцах, Третьяков обулся, встал. По
всему лесу, поваленная усталостью, спала пехота. Еще подтягивались
отставшие, брели как во сне; завидев своих, сразу же валились на землю. И от
одного бойца к другому бегала медсестра с сумкой на боку, смахивала слезы со
щек.
-- Один градусник был, и тот украли,-- пожаловалась она Третьякову,
незнакомому лейтенанту, больше и пожаловаться было некому. Немолодая, лет
тридцати, завивка шестимесячная набита пылью. Кому нужен ее градусник
воровать? Разбился или потерялся, а она ищет. И плачет оттого, что сил нет,
весь этот пеший ночной марш проделала со всеми. Солдаты спят, а она еще
ходит от одного к другому, будит сонных, заставляет разуваться, чем-то
смазывает потертые ноги, чем-то присыпает: мозоль хоть и не пуля, а с ног
валит. Вот кого Третьякову всегда жаль на войне: женщин. Особенно таких,
некрасивых, надорванных. Этим и на войне тяжелей.
Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали
молодые деревца; какие-то из них, может быть, еще и оживут. Снял пилотку,
шинель, стал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, и в нем
он увидел себя: кто-то, как цыган, черный, глядел оттуда. Щеки от пыли,
набившейся в отросшую щетину, темные; запавшие глаза обвело черным, скулы
обтянуты, они шелушащиеся какие-то, шершавые. За одну неделю сам на себя
стал непохож. Он отогнал к краю упавшие на воду сухие листья и водяного
жука, скакавшего невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике,
коричневая, но когда зачерпнул в ладонь, прозрачна оказалась она, чиста и
холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул с плеч. Потом,
вытерши подолом рубашки и шею и лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные
волосы и, когда застегивал на горле стоячий воротник, чувствовал себя
чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять,-- столько
он ее наглотался ночью.
Все это время над лесом подвывало с шуршанием в вышине: наша тяжелая
артиллерия била с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась
листва с деревьев. Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаную обрушенную
во многих местах траншею и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на
дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал. Но бескровным
было желтое его нерусское лицо, неплотно прижмуренный глаз тускло блестел. И
вся осыпана землей остриженная под машинку черная, круглая голова: уже
убитого, хоронил его другой снаряд.
Третьяков отошел за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих
воронок-- и впереди, и позади, и прямые попадания,-- огонь был силен. Этот
грохот и слышали они на подходе.
Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно
стекало в низину, там перестукивались пулеметы, блестела, как стекло, мокрая
крыша коровника, часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою
синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращенный к солнцу клин
подсолнечника.
Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за
курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти,
где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его. А когда уходил,
наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно.
Шинель на груди в свежих сгустках крови, а лица вообще нет. На песчаном
бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали еще. Много
видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было
то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся
золотая, манила, как непрожитая жизнь.
Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял эмалированный
таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе
гладил ветер по стриженым головам. Помкомвзвода Ча-баров, скрестив ноги
по-турецки, почетно сидел у таза. Завидев лейтенанта, стукнул ложкой, бойцы
зашевелились, кто лежал, начал садиться.
-- Ешьте, ешьте,-- сказал Третьяков. Но Чабаров строго глянул вокруг
себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую золу котелок, подал
лейтенанту. Они были все вместе, свои, а он пока еще не свой. Постелив
шинель под бок, Третьяков лег и тоже начал есть. Наварист был суп из
молодого козленка, и мясо-- сладкое, сочное.
-- А что, товарищ лейтенант,-- спросил Кытин, ласковыми глазами
хозяйки, всех накормившей, глядя на него,-- на нашем фронте и воевать можно?
И все заговорили о том, что лето не зима, летом вообще воевать можно,
не то, что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды.
Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудийные
окопы, а они уже и поспать успели и поели-- вот это и есть взвод управления:
разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления и
любил его за то, что здесь свободней. Чем ближе к опасности, тем человек
свободней душой.
Он смотрел на них, живых, веселых вблизи смерти. Макая мясо в крупную
соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал, к их удовольствию, про
Северо-Западный фронт, мокрый и голодный. Закурил после еды, сказал Чабарову
назначить с ним в ночь двух человек -- разведчика и связиста,-- и тот
назначил Кытина и вновь Суярова, который знает -- за что. И все это
делалось, и солнце подымалось выше над лесом, а своим чередом в сознании
проходило иное. Он все видел осыпанную снарядами песчаную траншею. Неужели
только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только им суждено и посмертно
оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят
сейчас в этом лесу,-- до них здесь так же сидели на траве,-- неужели от них
от всех ничего не остается? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто
не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит
самолет, взобравшись на недосягаемую высоту. Неужели и мысль невысказанная и
боль-- все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и
придет час -- отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих,
когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие-- Пушкин будущий,
Толстой-- остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже
не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?
 За полчаса до начала артподготовки Третьяков спрыгнул в свой окоп.
Дремал Кытин, подняв воротник шинели, затылком опершись о земляную стену; он
приоткрыл глаза и опять закрыл. Суяров на корточках жадно насасывался
махорочным дымом, сплевывал меж колен жидкую слюну. Узнав лейтенанта, из
вежливости поколыхал рукою табачное облако над головой у себя.
-- Водки выпьете, товарищ лейтенант?-- спросил Кытин. В рассветном
сумраке плоское лицо его со смеженными глазами было точно монгольским. А сам
он из-под Тамбова, из деревни. Вот куда предки его дошли убивать других его
предков. А в нем обе эти крови помирились и не воюют друг с другом.
-- Откуда у тебя водка?
-- Тут старшина пехотный...-- Кытин зевнул, как щенок, показав все
нЈбо. Глаза влажные, похоже, правда, спал.-- Они, в пехоте, потери на другой
день сообщают. Сначала водку получат, потом потери сообщат. Завтра, знаете,
сколько у них будет водки!..
Третьяков глянул на часы:
-- Уже сегодня, не завтра. Давай, сто грамм выпью. Он выпил из крышки,
и показалась водка некрепкой, словно воду пил. Чуть только потеплело в
груди. Стоял, носком сапога отбивал глину со стенки окопа. Вот они,
последние эти необратимые минуты. В темноте завтрак разнесли пехоте, и
каждый хоть и не говорил об этом, а думал, доскребая котелок; может, в
последний раз... С этой мыслью и ложку вытертую прятал за обмотку: может,
больше и не пригодится. Оттого, что мысль эта в тебе, все не таким кажется,
как всегда. И солнце дольше не встает, и тишина-- до дрожи. Неужели немцы не
чувствуют? Или затаились, ждут? И уже не остановить, не изменить ничего
нельзя. Это в первые месяцы на фронте он стыдился себя, думал, он один так.
Все так в эти минуты, каждый одолевает их с самим собой наедине: другой
жизни ведь не будет.
Вот в эти минуты, когда как будто ничего не происходит, только ждешь, а
оно движется необратимо к последней своей черте, ко взрыву, и уже ни ты,
никто не может этого остановить, в такие минуты и ощутим неслышный ход
истории. Чувствуешь вдруг ясно, как вся эта махина, составившаяся из тысяч и
тысяч усилий разных людей, двинулась, движется не чьей-то уже волей, а сама,
получив свой ход, и потому неостановимо.
Все в нем было напряжено сейчас, а Суяров, на дне окопа кресалом
высекавший огонь, смутился, увидев снизу, какое до безразличия спокойное
лицо у лейтенанта: опершись спиной о бруствер, он рассеянно отбивал глину
носком сапога, словно чтоб только не заснуть.
Ночь эту, остаток ее, Третьяков просидел в землянке у командира роты,
которого ему предстояло поддерживать огнем. Не спали. В бязевой нательной
рубашке, утираясь грязноватым, захватанным полотенцем, командир роты пил чай
и рассказывал, как лежал он в госпитале, аж в Сызрани, какая хорошая женщина
была там начмед.
Под низким накатом землянки глаза его посвечи-вали покорно и мягко. Он
слизывал пот с верхней бритой губы, шея была вся мокрая, пот вновь и вновь
копился в отсыревших складках, а повыше ключицы, где глянцевой кожицей
стянуло след страшной раны, заметно бился пульс, такой незащищенный, и
временами что-то напухало.
Третьяков слушал его, сам говорил, но вдруг странно становилось, словно
всЈ это происходит не с ним: вот они сидят под землей, пьют чай, ждут часа.
И на той стороне, у немцев, тоже, может быть, не спят, ждут. А потом как
волной подхватит, и выскочат из окопов, побегут убивать друг друга...
Странно все это покажется людям когда-нибудь.
Он выпил одну за другой три кружки чая, пахнущего от котелка
комбижиром, и случайно в разговоре выяснилось, что этот полк и есть тот
самый стрелковый полк, в котором служил отчим. Но только теперь номер его
другой, потому что в сорок втором году в окружении осталось знамя, и полк
был расформирован и переименован. У матери хранилось письмо однополчанина;
тот своими глазами видел, как убило отчима, когда прорывались из окружения,
и написал ей. А все-таки надежда оставалась: ведь столько самых невероятных
случаев было за войну. И, обманывая судьбу, боясь оборвать последнюю
надежду, Третьяков спросил осторожно:
-- Дядька у меня был в вашем полку. Командир саперного взвода, младший
лейтенант Безайц... Под Харьковом... Не знал случайно?
Само так получилось, что сказал "дядька", словно бы это еще не про
отчима, если скажет "убит".
-- Безайц... Фамилия, понимаешь, такая... Ты вот кого спроси: Посохин,
начальник штаба батальона, адъютант старший. Безайц... Должен помнить. А я
под Харьковом не был, я только после госпиталя в этом полку.
В мае сорок второго года, когда началось наше наступление под
Харьковом, так закончившееся потом, он послал отчиму из-под Старой Руссы
восторженное мальчишеское письмо, писал, что завидует ему, что и они, мол, у
себя тут тоже скоро... А уже замкнулось кольцо окружения под Харьковом.
У матери так жалко дрогнуло лицо, когда она попросила его на вокзале:
"Ты ведь там будешь, на Юго-Западном фронте... В тех самых местах... Может
быть, хоть что-то удастся узнать про Игоря Леонидовича..."
Она всегда в его присутствии называла отчима по имени-отчеству и даже
теперь постеснялась назвать иначе.
Впервые в нем что-то шевельнулось к отчиму, когда началась война и
Безайца призвали. Втроем, с матерью и Лялькой, пошли они на сборный пункт,
помещавшийся на проспекте, в Лялькиной школе. И он увидел, как все
переменилось. Отчим ждал их, сидел прямо на тротуаре, спиной опершись о
кирпичный столб школьных ворот. Инженер-конструктор, которого многие знали
здесь, он в своем городе, словно в чужом, где его не знают и не запомнит
никто, сидел прямо на асфальте, оперев руки об острые колени. Увидел их,
идущих к нему, встал, равнодушно отряхнул штаны сзади и обнял мать. Высокий,
худой, в хлопчатобумажной гимнастерке, в пилотке на голове, он прижал мать
лицом к пуговицам у себя на груди и поверх ее головы, которой касался бритым
подбородком, смотрел перед собой и гладил мать по волосам. И такой был у
него взгляд, словно там, куда он глядел, видел уже все, что ее ожидает.
Поразило тогда, какие тонкие у него ноги в черных обмотках. И вот на
этих тонких ногах, в огромных солдатских ботинках ушел он на войну. Все
годы, что жили вместе, как квартиранта, не замечал он отчима, а тут не за
мать даже, за него впервые защемило сердце.
Мать в этот раз, когда после училища увидал ее, такая была постаревшая,
вся плоская-плоская стала. И жилы на шее. А Лялька за два года переменилась
-- не узнать. Война, едят неизвестно что-- и расцвела. Когда уходил на
фронт, посмотреть было не на что: коленки и две косюльки на худой спине. А
тут она шла с ним по улице-- офицеры оборачивались вслед.
Третьяков глянул на часы и поспешно схватился за кисет. Но понял:
свернуть уже не успеет. . -- Дай докурить!
Он взял у Су Ярова цигарку, глубоко, как воздуху вдохнул, затянулся на
все дыхание несколько раз и выпрямился в окопе. Когда глянул назад, солнце
еще не всходило, но на лице почувствовал его свет. И свет этот дрогнул,
толкнуло воздух, грохнуло и засверкало. Стал ощутим воздух над головой: в
нем с шелестом проносились снаряды-- и ниже и выше, в несколько этажей.
Они стояли в окопе все трое, глядели в сторону немцев. Из поля
подсолнухов впереди плеснулась земля, обвальный грохот сотряс все, и с этой
минуты грохотало и тряслось безостановочно, а над передовой стеною
подымались вверх пыль и дым. И, оглушая, звонче всех садила батарея
дивизионных пушек, стоявшая позади их окопа.
Вдруг ширкнуло над головами низко. Пригнулись раньше, чем успели
сообразить.
-- Связь проверь!-- крикнул Третьяков, сознавая радостно: жив!
Опять визгнуло. Били по батарее. Откуда-- не разглядеть: все впереди в
дыму. И в дым с ревом пронеслись наши штурмовики, засновали в нем черными
тенями: перед их крыльями сверкало. Казалось, там, впереди, они стремительно
снижаются к полю. Мелькнули над крышами фермы-- из крыш взлетело к ним
несколько взрывов.
Еще грохотало и рушилось, а все почувствовали, как над передовой словно
сомкнулась тишина. Вот миг, вот она, сила земного притяжения, когда пехота
подымается в атаку, отрывает себя от земли.
-- Ррра-а-а! -- допахнуло стонущий крик. И сразу треск автоматов,
длинные пулеметные очереди.
Выплеснутые из окопов наружу, согнутые, будто перехваченные болью,
бежали по полю пехотинцы, скрываясь в пыли разрывов, в дыму.
Когда они трое, волоча за собой по полю телефонный кабель, спрыгнули в
траншею, пехота уже мелькала впереди в подсолнухах. Поразило, как всякий раз
в немецкой траншее: била, била наша артиллерия, а убитых немцев почти нет.
Что они, уволокли их с собой? Только рядом с опрокинутым пулеметом лежал
мертвый пулеметчик.
В следующий момент все они трое повалились на дно траншеи. Лежали,
прикрыв головы руками, чем попало. Суяров навалил катушку на голову,
отползал в сторону. Переждав налет, Третьяков приподнялся. Немецкий
пулеметчик, тепло одетый, в каске, в очках, все так же лежал навзничь в
траншее, как кукла увязанная. Слепо блестели запыленные стекла очков, целые,
нетреснутые даже; белый нос покойника торчал из них.
Сел Кытин, отплевываясь,-- в рот, в нос набилась земля. Удушливо пахло
взрывчаткой. Низко волокся дым. По одному выскочили из траншеи. Уцелевшие
подсолнухи на поле, ярко-желтые в дыму, все шляпками повернуты им навстречу:
там, позади, всходило солнце над полем боя.
Лежа на спине, Третьяков пригнул тяжелую шляпку подсолнуха. Набитая
вызревшими семечками, как патронами, она выгнулась вся. Смахнул ладонью
засохший цвет, отломил край.
-- Пошли!
Кинул горсть семечек в рот и бежал по полю, выплевывая мягкую,
неотвердевшую шелуху.
Он издали заметил этот окопчик: между подсолнухами и посадкой. В сухой
траве впереди него ползала пехота. Чего они там ползают? Бой уже к деревне
подкатился, а они тут ползают. Но окопчик был хорош, из него все поле
открывалось. Третьяков махнул ребятам:
-- По одному-- за мной!
И побежал, вжимая голову в плечи. Несколько пуль визгнуло над затылком.
Спрыгнул в окоп. И тут же-- пулеметная очередь поверху. Выглянул. В траве,
вихляясь, полз Кытин. Прикладом автомата заслонил голову, катушка провода на
спине, как башня танка.
Один за другим они ввалились в окоп. По щекам -- черноземные потоки
пота. Сразу же начали подключаться.
Только теперь Третьяков понял, почему пехота елозит в траве: пулемет
положил ее на этом поле и держит. Подымется голова, пулемет шлет из посадки
длинную очередь, и шевеление затихает.
-- Лебеда, Лебеда, Лебеда!-- вызывал батарею Суяров испуганным голосом,
а слышалось: "Беда, беда, беда..." Не надо было в этот окоп соваться. Поле
видит, а толку что? Даже пулемет уничтожить не может. У тяжелых пушек,
стоящих за два километра отсюда, рассеивание снарядов такое на этой
дальности, что раньше он по своей пехоте угодит.
-- Лебеда?! Слышь меня? Это я, Акация! Товарищ лейтенант!-- Суяров
снизу подавал трубку, смигивал мокрыми веками, плечом размазывал грязь по
щеке. Рад был, что связь цела, не лезть ему под пули.
В трубке-- сипловатый голос Повысенко. И тут же командир дивизиона
отобрал трубку: сидит на батарейном НП. Слышно было, как он спрашивает
Повысенко:
"Кто у тебя там? Новенький? Как его?.."
А он тоже комдива в глаза еще не видал, только голос его слышал.
-- Третьяков! Где находишься? Докладывай обстановку! И не врать мне,
понял? Не ври!
-- Я тут на поле, товарищ Третий. Левей посадки. Пехота тут залегла...
Впереди окопа от пехотинца к пехотинцу ползал в это время командир
взвода в зеленой пилотке, хлопал каждого по заду малой пехотной лопаткой.
-- По-пластунски -- вперед!
А пока к другому отполз-- "По-пластунски-- вперед!"-- этот уже замер.
Зеленая пилотка его гребешком высилась из травы. "Пилотку бы снял..."--
мелькнуло у Третьякова, а сам докладывал командиру дивизиона обстановку. На
дне окопа отдышавшийся Кытин грыз семечки, шелуха звеньями висела с нижней
губы.
Визг мины. Пригнулись дружно. Несколько мин разорвалось наверху.
Сжавшись, Третьяков и клапан трубки прижал, забыл отпустить.
-- Что там у вас?-- кричал командир дивизиона, которому слышно было в
трубку, как здесь грохочет. -- Где ты находишься?
-- На поле, я ж говорю.
-- На каком на поле? На каком на поле?
-- Тут пулемет держит...
-- Ты воевать думаешь? На черта тебе пулемет?
-- Он пехоте не дает...
-- Я тебя спрашиваю: ты думаешь воевать?
Визгнуло коротко. Откуда-то недалеко бьет: визг-- разрыв! Визг--
разрыв! А выстрела не слышно. Но батарея-- недалеко. Высунулся и еле успел
присесть: так низко пронеслось, казалось, голову собьет. Выглянул. По
звуку-- из-за деревни откуда-то.
На поле от свежей воронки расползались в стороны пехотинцы. Один
остался неподвижно лежать ничком. Ее если не уничтожить, эту батарею, она
тут всю пехоту переколотит. Пулемет они сами уничтожат, а минометная
батарея... И не выскочишь отсюда. Вот если б на крышу коровника забраться...
Одним ухом он ловил полет мины, в другом раздавался накаленный голос
командира дивизиона. А Третьякову орать не на кого, дальше -- одна пехота.
-- Крыши коровников видите, товарищ Третий? На миг дыхание пресеклось:
показалось, вот она летит, твоя... Рвануло так, что окоп встряхнулся.
-- Крыши коровников видите?-- кричал Третьяков, оглушенный.
Пошевелился, отряхивая с себя землю.-- Там буду находиться.
Донеслось неясно, сквозь глушь:
-- Там наши? Немцы? Кто там?
А черт их знает, кто там. Пехота наша мелькала. Если на крышу залезть,
оттуда все должно быть видно.
-- Буду там, доложу!
-- Ты гляди...
А что глядеть-- не разобрал: уши забило звоном. Тряхнул головой, еще
сильней зазвенело. Крикнул Суя-рову отключаться. Тут сидеть нечего. Зачем
только сюда сунулся, всех за собой потащил... Они сидят, а пехота на поле
под огнем лежит. Досидятся, что их тоже здесь ухлопает зря. Но до чего вдруг
спасительным показался этот окоп, когда надо теперь вылезать из него!
-- Кытин! Давай первым.
Первому особенно неохота лезть. Но первого и пулеметчик не ждет, он
после изготовится, других ждать будет.
-- Бери катушку, аппарат-- и пулей в подсолнухи! Кытин смахнул с губ
шелуху, обтер ладони о колени, посерьезнел. Закинул автомат за спину, смерил
прищуренным глазом расстояние.
-- Я пошел.
Лег животом на бруствер, перекинул ноги, вскочил и побежал, метя полами
шинели по траве. Они смотрели. Не добежав, кинул вперед себя тяжелую
катушку, нырнул за ней следом головой в подсолнухи. Когда ударил пулемет,
только шляпки раскачивались, указывая след.
-- Суяров! Давай ты.
Тот сосредоточенно куском напильника по кремню высекал огонь.
Торопился. Прикурил. Несколько раз подряд жадно затянулся. Цигарка
вздрагивала в пальцах, а он сосал ее, сосал.
-- Ждать, пока ты накуришься?
-- Щас, товарищ лейтенант, щас... Руки копошатся у рта, дергается
обрубок безымянного пальца.
-- Долго ты?
-- Сейчас, товарищ лейтенант... Лицо опавшее, все мокрое от пота, как
облитое. Он стал вдруг отползать, сидя, заслоняться локтем.
-- Вии-уу!-- потянулось к ним из-за поля.-- Бах! Бах! Бах!
-- Ты пойдешь, нет? Пойдешь? И сапогами подымал его с земли, а тот
ложился на спину.
-- Пойдешь? Пойдешь?
Суяров охал изумленно, внутри у него охало. Опять разорвалось наверху.
А они тут возились в дыму, в окопе. Не владея собой, Третьяков схватил его
за отвороты шинели, поднял с земли, притянул:
-- Жить хочешь?
И тряс, встряхивал его. Близко перед глазами-- облитые потом веки,
вздрагивающий, мерцающий взгляд.
-- Больше всех хочешь жить? И чувствовал дрожь в себе и сладостное
нетерпение: бить. Пхнул от себя, Суяров глухо ударился спиной о стенку
окопа, выронил из носа кровь, яркую, как сок недозрелой вишни. Распахнутыми
глазами глядел с земли, а сам опять валился на спину, поднимал над лицом
копошащиеся пальцы. -- Живи, сволочь!
Третьяков схватил его автомат, схватил катушку, большую
восьмисотметровую немецкую катушку красного телефонного провода, выкинул
наверх.
Кто-то стонущий свалился в окоп. Зеленая пилотка. Испуганный, мутящийся
взгляд. Руками в крови, в земле зажимает живот сбоку. Увидел это, когда уже
разгибался бежать. На миг спасительная мысль: остаться, перевязать... Но уже
бежал, в руке гремела катушка, провод сматывался на землю. И тут возник
из-за поля вой мины. Ни выстрела, ни толчка-- только этот отдельный, самый
из всех слышный вой. И, пригибаясь все ниже по мере того, как возвышался
вой, Третьяков с разматывающейся катушкой в руке бежал под него, как в
укрытие, ноги сами несли быстрей, быстрей. И быстрей, быстрей, неотвратимей
понеслось сверху. Снижался железный визг, в него одного нацеленный. Упал на
землю. Всем своим распятым на земле телом, спиной между лопатками чувствовал
его, ждал. И когда сделалось нестерпимо, когда дыхание перехватило, визг
оборвался. Смертная зависла тишина. Зажмурился... Рвануло сзади. Вскочил
живей прежнего. Отбегая, глянул назад. Дым разрыва стоял над окопом. Добежал
до подсолнухов, упал. Глянул еще раз. Из самого окопа исходил дым разрыва.
Там были Суяров и командир взвода в зеленой пилотке.
За полчаса до начала артподготовки Третьяков спрыгнул в свой окоп.
Дремал Кытин, подняв воротник шинели, затылком опершись о земляную стену; он
приоткрыл глаза и опять закрыл. Суяров на корточках жадно насасывался
махорочным дымом, сплевывал меж колен жидкую слюну. Узнав лейтенанта, из
вежливости поколыхал рукою табачное облако над головой у себя.
-- Водки выпьете, товарищ лейтенант?-- спросил Кытин. В рассветном
сумраке плоское лицо его со смеженными глазами было точно монгольским. А сам
он из-под Тамбова, из деревни. Вот куда предки его дошли убивать других его
предков. А в нем обе эти крови помирились и не воюют друг с другом.
-- Откуда у тебя водка?
-- Тут старшина пехотный...-- Кытин зевнул, как щенок, показав все
нЈбо. Глаза влажные, похоже, правда, спал.-- Они, в пехоте, потери на другой
день сообщают. Сначала водку получат, потом потери сообщат. Завтра, знаете,
сколько у них будет водки!..
Третьяков глянул на часы:
-- Уже сегодня, не завтра. Давай, сто грамм выпью. Он выпил из крышки,
и показалась водка некрепкой, словно воду пил. Чуть только потеплело в
груди. Стоял, носком сапога отбивал глину со стенки окопа. Вот они,
последние эти необратимые минуты. В темноте завтрак разнесли пехоте, и
каждый хоть и не говорил об этом, а думал, доскребая котелок; может, в
последний раз... С этой мыслью и ложку вытертую прятал за обмотку: может,
больше и не пригодится. Оттого, что мысль эта в тебе, все не таким кажется,
как всегда. И солнце дольше не встает, и тишина-- до дрожи. Неужели немцы не
чувствуют? Или затаились, ждут? И уже не остановить, не изменить ничего
нельзя. Это в первые месяцы на фронте он стыдился себя, думал, он один так.
Все так в эти минуты, каждый одолевает их с самим собой наедине: другой
жизни ведь не будет.
Вот в эти минуты, когда как будто ничего не происходит, только ждешь, а
оно движется необратимо к последней своей черте, ко взрыву, и уже ни ты,
никто не может этого остановить, в такие минуты и ощутим неслышный ход
истории. Чувствуешь вдруг ясно, как вся эта махина, составившаяся из тысяч и
тысяч усилий разных людей, двинулась, движется не чьей-то уже волей, а сама,
получив свой ход, и потому неостановимо.
Все в нем было напряжено сейчас, а Суяров, на дне окопа кресалом
высекавший огонь, смутился, увидев снизу, какое до безразличия спокойное
лицо у лейтенанта: опершись спиной о бруствер, он рассеянно отбивал глину
носком сапога, словно чтоб только не заснуть.
Ночь эту, остаток ее, Третьяков просидел в землянке у командира роты,
которого ему предстояло поддерживать огнем. Не спали. В бязевой нательной
рубашке, утираясь грязноватым, захватанным полотенцем, командир роты пил чай
и рассказывал, как лежал он в госпитале, аж в Сызрани, какая хорошая женщина
была там начмед.
Под низким накатом землянки глаза его посвечи-вали покорно и мягко. Он
слизывал пот с верхней бритой губы, шея была вся мокрая, пот вновь и вновь
копился в отсыревших складках, а повыше ключицы, где глянцевой кожицей
стянуло след страшной раны, заметно бился пульс, такой незащищенный, и
временами что-то напухало.
Третьяков слушал его, сам говорил, но вдруг странно становилось, словно
всЈ это происходит не с ним: вот они сидят под землей, пьют чай, ждут часа.
И на той стороне, у немцев, тоже, может быть, не спят, ждут. А потом как
волной подхватит, и выскочат из окопов, побегут убивать друг друга...
Странно все это покажется людям когда-нибудь.
Он выпил одну за другой три кружки чая, пахнущего от котелка
комбижиром, и случайно в разговоре выяснилось, что этот полк и есть тот
самый стрелковый полк, в котором служил отчим. Но только теперь номер его
другой, потому что в сорок втором году в окружении осталось знамя, и полк
был расформирован и переименован. У матери хранилось письмо однополчанина;
тот своими глазами видел, как убило отчима, когда прорывались из окружения,
и написал ей. А все-таки надежда оставалась: ведь столько самых невероятных
случаев было за войну. И, обманывая судьбу, боясь оборвать последнюю
надежду, Третьяков спросил осторожно:
-- Дядька у меня был в вашем полку. Командир саперного взвода, младший
лейтенант Безайц... Под Харьковом... Не знал случайно?
Само так получилось, что сказал "дядька", словно бы это еще не про
отчима, если скажет "убит".
-- Безайц... Фамилия, понимаешь, такая... Ты вот кого спроси: Посохин,
начальник штаба батальона, адъютант старший. Безайц... Должен помнить. А я
под Харьковом не был, я только после госпиталя в этом полку.
В мае сорок второго года, когда началось наше наступление под
Харьковом, так закончившееся потом, он послал отчиму из-под Старой Руссы
восторженное мальчишеское письмо, писал, что завидует ему, что и они, мол, у
себя тут тоже скоро... А уже замкнулось кольцо окружения под Харьковом.
У матери так жалко дрогнуло лицо, когда она попросила его на вокзале:
"Ты ведь там будешь, на Юго-Западном фронте... В тех самых местах... Может
быть, хоть что-то удастся узнать про Игоря Леонидовича..."
Она всегда в его присутствии называла отчима по имени-отчеству и даже
теперь постеснялась назвать иначе.
Впервые в нем что-то шевельнулось к отчиму, когда началась война и
Безайца призвали. Втроем, с матерью и Лялькой, пошли они на сборный пункт,
помещавшийся на проспекте, в Лялькиной школе. И он увидел, как все
переменилось. Отчим ждал их, сидел прямо на тротуаре, спиной опершись о
кирпичный столб школьных ворот. Инженер-конструктор, которого многие знали
здесь, он в своем городе, словно в чужом, где его не знают и не запомнит
никто, сидел прямо на асфальте, оперев руки об острые колени. Увидел их,
идущих к нему, встал, равнодушно отряхнул штаны сзади и обнял мать. Высокий,
худой, в хлопчатобумажной гимнастерке, в пилотке на голове, он прижал мать
лицом к пуговицам у себя на груди и поверх ее головы, которой касался бритым
подбородком, смотрел перед собой и гладил мать по волосам. И такой был у
него взгляд, словно там, куда он глядел, видел уже все, что ее ожидает.
Поразило тогда, какие тонкие у него ноги в черных обмотках. И вот на
этих тонких ногах, в огромных солдатских ботинках ушел он на войну. Все
годы, что жили вместе, как квартиранта, не замечал он отчима, а тут не за
мать даже, за него впервые защемило сердце.
Мать в этот раз, когда после училища увидал ее, такая была постаревшая,
вся плоская-плоская стала. И жилы на шее. А Лялька за два года переменилась
-- не узнать. Война, едят неизвестно что-- и расцвела. Когда уходил на
фронт, посмотреть было не на что: коленки и две косюльки на худой спине. А
тут она шла с ним по улице-- офицеры оборачивались вслед.
Третьяков глянул на часы и поспешно схватился за кисет. Но понял:
свернуть уже не успеет. . -- Дай докурить!
Он взял у Су Ярова цигарку, глубоко, как воздуху вдохнул, затянулся на
все дыхание несколько раз и выпрямился в окопе. Когда глянул назад, солнце
еще не всходило, но на лице почувствовал его свет. И свет этот дрогнул,
толкнуло воздух, грохнуло и засверкало. Стал ощутим воздух над головой: в
нем с шелестом проносились снаряды-- и ниже и выше, в несколько этажей.
Они стояли в окопе все трое, глядели в сторону немцев. Из поля
подсолнухов впереди плеснулась земля, обвальный грохот сотряс все, и с этой
минуты грохотало и тряслось безостановочно, а над передовой стеною
подымались вверх пыль и дым. И, оглушая, звонче всех садила батарея
дивизионных пушек, стоявшая позади их окопа.
Вдруг ширкнуло над головами низко. Пригнулись раньше, чем успели
сообразить.
-- Связь проверь!-- крикнул Третьяков, сознавая радостно: жив!
Опять визгнуло. Били по батарее. Откуда-- не разглядеть: все впереди в
дыму. И в дым с ревом пронеслись наши штурмовики, засновали в нем черными
тенями: перед их крыльями сверкало. Казалось, там, впереди, они стремительно
снижаются к полю. Мелькнули над крышами фермы-- из крыш взлетело к ним
несколько взрывов.
Еще грохотало и рушилось, а все почувствовали, как над передовой словно
сомкнулась тишина. Вот миг, вот она, сила земного притяжения, когда пехота
подымается в атаку, отрывает себя от земли.
-- Ррра-а-а! -- допахнуло стонущий крик. И сразу треск автоматов,
длинные пулеметные очереди.
Выплеснутые из окопов наружу, согнутые, будто перехваченные болью,
бежали по полю пехотинцы, скрываясь в пыли разрывов, в дыму.
Когда они трое, волоча за собой по полю телефонный кабель, спрыгнули в
траншею, пехота уже мелькала впереди в подсолнухах. Поразило, как всякий раз
в немецкой траншее: била, била наша артиллерия, а убитых немцев почти нет.
Что они, уволокли их с собой? Только рядом с опрокинутым пулеметом лежал
мертвый пулеметчик.
В следующий момент все они трое повалились на дно траншеи. Лежали,
прикрыв головы руками, чем попало. Суяров навалил катушку на голову,
отползал в сторону. Переждав налет, Третьяков приподнялся. Немецкий
пулеметчик, тепло одетый, в каске, в очках, все так же лежал навзничь в
траншее, как кукла увязанная. Слепо блестели запыленные стекла очков, целые,
нетреснутые даже; белый нос покойника торчал из них.
Сел Кытин, отплевываясь,-- в рот, в нос набилась земля. Удушливо пахло
взрывчаткой. Низко волокся дым. По одному выскочили из траншеи. Уцелевшие
подсолнухи на поле, ярко-желтые в дыму, все шляпками повернуты им навстречу:
там, позади, всходило солнце над полем боя.
Лежа на спине, Третьяков пригнул тяжелую шляпку подсолнуха. Набитая
вызревшими семечками, как патронами, она выгнулась вся. Смахнул ладонью
засохший цвет, отломил край.
-- Пошли!
Кинул горсть семечек в рот и бежал по полю, выплевывая мягкую,
неотвердевшую шелуху.
Он издали заметил этот окопчик: между подсолнухами и посадкой. В сухой
траве впереди него ползала пехота. Чего они там ползают? Бой уже к деревне
подкатился, а они тут ползают. Но окопчик был хорош, из него все поле
открывалось. Третьяков махнул ребятам:
-- По одному-- за мной!
И побежал, вжимая голову в плечи. Несколько пуль визгнуло над затылком.
Спрыгнул в окоп. И тут же-- пулеметная очередь поверху. Выглянул. В траве,
вихляясь, полз Кытин. Прикладом автомата заслонил голову, катушка провода на
спине, как башня танка.
Один за другим они ввалились в окоп. По щекам -- черноземные потоки
пота. Сразу же начали подключаться.
Только теперь Третьяков понял, почему пехота елозит в траве: пулемет
положил ее на этом поле и держит. Подымется голова, пулемет шлет из посадки
длинную очередь, и шевеление затихает.
-- Лебеда, Лебеда, Лебеда!-- вызывал батарею Суяров испуганным голосом,
а слышалось: "Беда, беда, беда..." Не надо было в этот окоп соваться. Поле
видит, а толку что? Даже пулемет уничтожить не может. У тяжелых пушек,
стоящих за два километра отсюда, рассеивание снарядов такое на этой
дальности, что раньше он по своей пехоте угодит.
-- Лебеда?! Слышь меня? Это я, Акация! Товарищ лейтенант!-- Суяров
снизу подавал трубку, смигивал мокрыми веками, плечом размазывал грязь по
щеке. Рад был, что связь цела, не лезть ему под пули.
В трубке-- сипловатый голос Повысенко. И тут же командир дивизиона
отобрал трубку: сидит на батарейном НП. Слышно было, как он спрашивает
Повысенко:
"Кто у тебя там? Новенький? Как его?.."
А он тоже комдива в глаза еще не видал, только голос его слышал.
-- Третьяков! Где находишься? Докладывай обстановку! И не врать мне,
понял? Не ври!
-- Я тут на поле, товарищ Третий. Левей посадки. Пехота тут залегла...
Впереди окопа от пехотинца к пехотинцу ползал в это время командир
взвода в зеленой пилотке, хлопал каждого по заду малой пехотной лопаткой.
-- По-пластунски -- вперед!
А пока к другому отполз-- "По-пластунски-- вперед!"-- этот уже замер.
Зеленая пилотка его гребешком высилась из травы. "Пилотку бы снял..."--
мелькнуло у Третьякова, а сам докладывал командиру дивизиона обстановку. На
дне окопа отдышавшийся Кытин грыз семечки, шелуха звеньями висела с нижней
губы.
Визг мины. Пригнулись дружно. Несколько мин разорвалось наверху.
Сжавшись, Третьяков и клапан трубки прижал, забыл отпустить.
-- Что там у вас?-- кричал командир дивизиона, которому слышно было в
трубку, как здесь грохочет. -- Где ты находишься?
-- На поле, я ж говорю.
-- На каком на поле? На каком на поле?
-- Тут пулемет держит...
-- Ты воевать думаешь? На черта тебе пулемет?
-- Он пехоте не дает...
-- Я тебя спрашиваю: ты думаешь воевать?
Визгнуло коротко. Откуда-то недалеко бьет: визг-- разрыв! Визг--
разрыв! А выстрела не слышно. Но батарея-- недалеко. Высунулся и еле успел
присесть: так низко пронеслось, казалось, голову собьет. Выглянул. По
звуку-- из-за деревни откуда-то.
На поле от свежей воронки расползались в стороны пехотинцы. Один
остался неподвижно лежать ничком. Ее если не уничтожить, эту батарею, она
тут всю пехоту переколотит. Пулемет они сами уничтожат, а минометная
батарея... И не выскочишь отсюда. Вот если б на крышу коровника забраться...
Одним ухом он ловил полет мины, в другом раздавался накаленный голос
командира дивизиона. А Третьякову орать не на кого, дальше -- одна пехота.
-- Крыши коровников видите, товарищ Третий? На миг дыхание пресеклось:
показалось, вот она летит, твоя... Рвануло так, что окоп встряхнулся.
-- Крыши коровников видите?-- кричал Третьяков, оглушенный.
Пошевелился, отряхивая с себя землю.-- Там буду находиться.
Донеслось неясно, сквозь глушь:
-- Там наши? Немцы? Кто там?
А черт их знает, кто там. Пехота наша мелькала. Если на крышу залезть,
оттуда все должно быть видно.
-- Буду там, доложу!
-- Ты гляди...
А что глядеть-- не разобрал: уши забило звоном. Тряхнул головой, еще
сильней зазвенело. Крикнул Суя-рову отключаться. Тут сидеть нечего. Зачем
только сюда сунулся, всех за собой потащил... Они сидят, а пехота на поле
под огнем лежит. Досидятся, что их тоже здесь ухлопает зря. Но до чего вдруг
спасительным показался этот окоп, когда надо теперь вылезать из него!
-- Кытин! Давай первым.
Первому особенно неохота лезть. Но первого и пулеметчик не ждет, он
после изготовится, других ждать будет.
-- Бери катушку, аппарат-- и пулей в подсолнухи! Кытин смахнул с губ
шелуху, обтер ладони о колени, посерьезнел. Закинул автомат за спину, смерил
прищуренным глазом расстояние.
-- Я пошел.
Лег животом на бруствер, перекинул ноги, вскочил и побежал, метя полами
шинели по траве. Они смотрели. Не добежав, кинул вперед себя тяжелую
катушку, нырнул за ней следом головой в подсолнухи. Когда ударил пулемет,
только шляпки раскачивались, указывая след.
-- Суяров! Давай ты.
Тот сосредоточенно куском напильника по кремню высекал огонь.
Торопился. Прикурил. Несколько раз подряд жадно затянулся. Цигарка
вздрагивала в пальцах, а он сосал ее, сосал.
-- Ждать, пока ты накуришься?
-- Щас, товарищ лейтенант, щас... Руки копошатся у рта, дергается
обрубок безымянного пальца.
-- Долго ты?
-- Сейчас, товарищ лейтенант... Лицо опавшее, все мокрое от пота, как
облитое. Он стал вдруг отползать, сидя, заслоняться локтем.
-- Вии-уу!-- потянулось к ним из-за поля.-- Бах! Бах! Бах!
-- Ты пойдешь, нет? Пойдешь? И сапогами подымал его с земли, а тот
ложился на спину.
-- Пойдешь? Пойдешь?
Суяров охал изумленно, внутри у него охало. Опять разорвалось наверху.
А они тут возились в дыму, в окопе. Не владея собой, Третьяков схватил его
за отвороты шинели, поднял с земли, притянул:
-- Жить хочешь?
И тряс, встряхивал его. Близко перед глазами-- облитые потом веки,
вздрагивающий, мерцающий взгляд.
-- Больше всех хочешь жить? И чувствовал дрожь в себе и сладостное
нетерпение: бить. Пхнул от себя, Суяров глухо ударился спиной о стенку
окопа, выронил из носа кровь, яркую, как сок недозрелой вишни. Распахнутыми
глазами глядел с земли, а сам опять валился на спину, поднимал над лицом
копошащиеся пальцы. -- Живи, сволочь!
Третьяков схватил его автомат, схватил катушку, большую
восьмисотметровую немецкую катушку красного телефонного провода, выкинул
наверх.
Кто-то стонущий свалился в окоп. Зеленая пилотка. Испуганный, мутящийся
взгляд. Руками в крови, в земле зажимает живот сбоку. Увидел это, когда уже
разгибался бежать. На миг спасительная мысль: остаться, перевязать... Но уже
бежал, в руке гремела катушка, провод сматывался на землю. И тут возник
из-за поля вой мины. Ни выстрела, ни толчка-- только этот отдельный, самый
из всех слышный вой. И, пригибаясь все ниже по мере того, как возвышался
вой, Третьяков с разматывающейся катушкой в руке бежал под него, как в
укрытие, ноги сами несли быстрей, быстрей. И быстрей, быстрей, неотвратимей
понеслось сверху. Снижался железный визг, в него одного нацеленный. Упал на
землю. Всем своим распятым на земле телом, спиной между лопатками чувствовал
его, ждал. И когда сделалось нестерпимо, когда дыхание перехватило, визг
оборвался. Смертная зависла тишина. Зажмурился... Рвануло сзади. Вскочил
живей прежнего. Отбегая, глянул назад. Дым разрыва стоял над окопом. Добежал
до подсолнухов, упал. Глянул еще раз. Из самого окопа исходил дым разрыва.
Там были Суяров и командир взвода в зеленой пилотке.
 Прижимаясь к бревенчатой стене коровника, Третьяков ощупью дошел до
угла, выглянул. Свистнуло у виска. Переждал, собрался. Вжав голову в плечи,
перебежал пустое пространство. Упал. Жирная от навоза, перемешанная парными
копытами засохшая земля. Вскочил, скидывая доску, запиравшую ворота, увидел,
как под жердями загона проползает Кытин, весь вывалянный в соломе и навозе.
Потянул ворота на себя, внутрь шарахнулись овцы.
Вбежал Кытин, разматывая за собой провод.
-- Аппарат подключай, быстро!
И полез наверх. Мешала шинель. Торопясь, обрывая крючки, скинул ее на
землю. Грохнуло за стеной, из пробоины в крыше, солнечный столб косо уперся
в солому. Третьяков опять влез на загородку, подпрыгнул, схватясь руками за
балку, подтянулся, сел верхом. Слой птичьего помета, бархатный слой пыли
лежал на ней. Вставши на балке во весь рост, прикладом автомата вышиб над
собой шифер, полез наружу. По рубчатой крыше, придерживаясь рукой, взбежал
на резиновых подошвах, лег за коньком на горячий шифер. Вот откуда
распахнулось все!
Внизу он видел бой в деревне. На огородах, за домами накапливалась
пехота, по одному перебегали улицу. Пыльная улица, как смертная черта, по
ней непрерывно мели пулеметы. Уже несколько человек распласталось в пыли. И
все равно то один, то другой пехотинец отрывался от дома, бежал стремглав,
вжимая голову, падал на той стороне.
За деревней, за садами, так близко, что лица различались в бинокль,
увидел Третьяков минометную батарею в логу. Дюжий немец в каске, стоявший
меж двух задранных вверх минометных стволов, с обеих рук поочередно опустил
в них мины, пыхнуло раз за разом, и в траве приподнялся телефонист. Стоя на
коленях, он ждал с трубкой. Что-то закричал, взмахнул рукой: немецкий
наблюдатель, лежавший где-то с биноклем, передал ему команду.
Третьяков ударил в крышу прикладом автомата, пробил шифер рядом с
собой: -- Кытин!
С яркого солнца глаза не различали, что там внизу: тьма, косые пыльные
полосы света из пробоин в крыше.
-- Связь есть, Кытин?
-- Есть!
Кытин возился в соломе, что-то делал с телефонным аппаратом. В углу
коровника сбились овцы.
-- Батарею вызывай!
С вечера еще, когда садилось солнце, приметил Третьяков невысокий
курган. Срезанный понизу туманом, он парил над полем, а на освещенной его
вершине, показалось, копошатся немцы. Он дал по кургану один снаряд и
приказал записать установки: репер номер один. От него он сейчас выведет
снаряды на цель.
Командир дивизиона некоторое время путал его вопросами: проверял, не
отсиживается ли он где-либо. Потребовал ракетой указать свое
местонахождение, но ни ракеты, ни ракетницы у Третьякова не было.
На минометной батарее немец в каске тем временем поочередно опускал
мины в стволы минометов. Ему подавали их снизу, а он-- левой-правой,
левой-правой-- хвостами вниз опускал их и поспешно зажимал уши. Из стволов
пыхало, и, пока мины летели в воздухе, он успевал другие покидать в стволы и
что-то весело кричал и зажимал уши под каской. И дальше, за кустами,
невидимые отсюда, били из оврага минометы. Там вздрагивали верхушки кустов,
от них отскакивали летучие дымки, подхватываемые ветром, и каска то
появлялась там, то исчезала. Минометная батарея вела губительный беглый
огонь, мины рвались на том самом поле между посадкой и подсолнухами, где
лежала наша распластанная пехота.
Наконец разрешили открыть огонь. Третьяков передал команду. Бахнуло
позади, будто не орудие выстрелило, а тяжким чем-то саданули в землю.
Разрыва своего он ждал не дыша. Из всего боя, из всей войны только и было
сейчас для него то место на земле, где должен был взлететь разрыв снаряда.
Немцы-минометчики попадали вдруг на землю. Потом начали подыматься. Но
разрыва он так и не увидел.
Третьяков убавил прицел, взял левей. Пока ждал от Кытина "Выстрел!",
увидел случайно, как от угла дома оторвался пехотинец, бежал через улицу,
быстро мелькая подошвами окованных ботинок. Под ноги резанула пулеметная
струя, как черту по пыли провела. Пехотинец упал.
-- Выстрел!-- раздалось снизу. Ловя ухом полет снаряда, он мысленно
направлял его в цель, а сам уже стоял на крыше на коленях и не замечал
этого.
Немцы еще дружней попадали на землю, но разрыва опять не было.
Машинально глянул на то место, где упал пехотинец. Пусто. Никого. Но как-то
не связалось в сознании: увидел и забыл.
В третий раз он передал команду, и снова все то же повторилось. Облитый
потом-- три снаряда выпустил и не только в вилку не взял цель, разрыва
своего не нашел,-- он резко убавил прицел. Пока ждал, увидел сверху, как
из-под сарая, из-за телеги у стены, высунулась голова, плечи немца. Скрылся,
опять выглянул. Третьяков лег за коньком крыши, потянул через голову
автомат. Ремнем скинуло пилотку, успел только глянуть вслед, как она
скользнула вниз по шиферу.
Немец уже вылез весь. Никем не видимый, он выбирался к своим. Сгибаясь,
сильно припадая на левую ногу, побежал. Единственно боясь упустить,
Третьяков повел следом ствол автомата. Он уже нажимал спусковой крючок,
когда немец, словно ощутив, обернулся, показал лицо. Тревога и боязливая
радость были на нем: спасся, жив! И тут же лицо дрогнуло непоправимо. Немец
начал распрямляться, распрямляться, мучительно-сладко потянулся спиной, куда
вошла очередь, выгнул грудь; поднятые, судорогой сводимые руки завело за
плечи. И рухнул, роняя автомат.
В тот же самый момент увидел Третьяков свой разрыв. Среди других
разрывов на поле, позади батареи, из кустов встал дым. Овраг там, низина--
вот почему он не видел своих разрывов: в овраге рвались. Он изменил прицел.
-- Выстрел!-- прокричал снизу Кытин. С биноклем у глаз Третьяков ждал.
Солнце отвесно пекло затылок, мокрую спину между лопаток.
В логу немцы вдруг кинулись от минометов. Падали на бегу,
распластывались кто где. Долгий, бесконечный миг ожидания длился. Отчетливо
видел сейчас Третьяков в бинокль брошенную огневую позицию: ящики с минами,
задранные вверх стволы минометов, блеск солнца на пыльных стволах-- пусто,
время остановилось. Один минометчик не выдержал, вскочил с земли... И тут
рвануло из низины.
-- Батарее три снаряда-- беглый огонь!-- кричал Третьяков. И пока там
рвалось и взлетало, под ним дрожала крыша, на которой он лежал.
А когда опала выкинутая взрывами земля, когда дым потащило ветром, на
огневой позиции, открывшейся вновь, ничего не было. Только перепаханная
земля, воронки.
Потом заметил: что-то живое шевелится на той стороне оврага. Вгляделся.
Одолевая гребень, выползал из оврага минометчик, через силу волочил себя по
земле, как передавленный.
Прижимаясь к бревенчатой стене коровника, Третьяков ощупью дошел до
угла, выглянул. Свистнуло у виска. Переждал, собрался. Вжав голову в плечи,
перебежал пустое пространство. Упал. Жирная от навоза, перемешанная парными
копытами засохшая земля. Вскочил, скидывая доску, запиравшую ворота, увидел,
как под жердями загона проползает Кытин, весь вывалянный в соломе и навозе.
Потянул ворота на себя, внутрь шарахнулись овцы.
Вбежал Кытин, разматывая за собой провод.
-- Аппарат подключай, быстро!
И полез наверх. Мешала шинель. Торопясь, обрывая крючки, скинул ее на
землю. Грохнуло за стеной, из пробоины в крыше, солнечный столб косо уперся
в солому. Третьяков опять влез на загородку, подпрыгнул, схватясь руками за
балку, подтянулся, сел верхом. Слой птичьего помета, бархатный слой пыли
лежал на ней. Вставши на балке во весь рост, прикладом автомата вышиб над
собой шифер, полез наружу. По рубчатой крыше, придерживаясь рукой, взбежал
на резиновых подошвах, лег за коньком на горячий шифер. Вот откуда
распахнулось все!
Внизу он видел бой в деревне. На огородах, за домами накапливалась
пехота, по одному перебегали улицу. Пыльная улица, как смертная черта, по
ней непрерывно мели пулеметы. Уже несколько человек распласталось в пыли. И
все равно то один, то другой пехотинец отрывался от дома, бежал стремглав,
вжимая голову, падал на той стороне.
За деревней, за садами, так близко, что лица различались в бинокль,
увидел Третьяков минометную батарею в логу. Дюжий немец в каске, стоявший
меж двух задранных вверх минометных стволов, с обеих рук поочередно опустил
в них мины, пыхнуло раз за разом, и в траве приподнялся телефонист. Стоя на
коленях, он ждал с трубкой. Что-то закричал, взмахнул рукой: немецкий
наблюдатель, лежавший где-то с биноклем, передал ему команду.
Третьяков ударил в крышу прикладом автомата, пробил шифер рядом с
собой: -- Кытин!
С яркого солнца глаза не различали, что там внизу: тьма, косые пыльные
полосы света из пробоин в крыше.
-- Связь есть, Кытин?
-- Есть!
Кытин возился в соломе, что-то делал с телефонным аппаратом. В углу
коровника сбились овцы.
-- Батарею вызывай!
С вечера еще, когда садилось солнце, приметил Третьяков невысокий
курган. Срезанный понизу туманом, он парил над полем, а на освещенной его
вершине, показалось, копошатся немцы. Он дал по кургану один снаряд и
приказал записать установки: репер номер один. От него он сейчас выведет
снаряды на цель.
Командир дивизиона некоторое время путал его вопросами: проверял, не
отсиживается ли он где-либо. Потребовал ракетой указать свое
местонахождение, но ни ракеты, ни ракетницы у Третьякова не было.
На минометной батарее немец в каске тем временем поочередно опускал
мины в стволы минометов. Ему подавали их снизу, а он-- левой-правой,
левой-правой-- хвостами вниз опускал их и поспешно зажимал уши. Из стволов
пыхало, и, пока мины летели в воздухе, он успевал другие покидать в стволы и
что-то весело кричал и зажимал уши под каской. И дальше, за кустами,
невидимые отсюда, били из оврага минометы. Там вздрагивали верхушки кустов,
от них отскакивали летучие дымки, подхватываемые ветром, и каска то
появлялась там, то исчезала. Минометная батарея вела губительный беглый
огонь, мины рвались на том самом поле между посадкой и подсолнухами, где
лежала наша распластанная пехота.
Наконец разрешили открыть огонь. Третьяков передал команду. Бахнуло
позади, будто не орудие выстрелило, а тяжким чем-то саданули в землю.
Разрыва своего он ждал не дыша. Из всего боя, из всей войны только и было
сейчас для него то место на земле, где должен был взлететь разрыв снаряда.
Немцы-минометчики попадали вдруг на землю. Потом начали подыматься. Но
разрыва он так и не увидел.
Третьяков убавил прицел, взял левей. Пока ждал от Кытина "Выстрел!",
увидел случайно, как от угла дома оторвался пехотинец, бежал через улицу,
быстро мелькая подошвами окованных ботинок. Под ноги резанула пулеметная
струя, как черту по пыли провела. Пехотинец упал.
-- Выстрел!-- раздалось снизу. Ловя ухом полет снаряда, он мысленно
направлял его в цель, а сам уже стоял на крыше на коленях и не замечал
этого.
Немцы еще дружней попадали на землю, но разрыва опять не было.
Машинально глянул на то место, где упал пехотинец. Пусто. Никого. Но как-то
не связалось в сознании: увидел и забыл.
В третий раз он передал команду, и снова все то же повторилось. Облитый
потом-- три снаряда выпустил и не только в вилку не взял цель, разрыва
своего не нашел,-- он резко убавил прицел. Пока ждал, увидел сверху, как
из-под сарая, из-за телеги у стены, высунулась голова, плечи немца. Скрылся,
опять выглянул. Третьяков лег за коньком крыши, потянул через голову
автомат. Ремнем скинуло пилотку, успел только глянуть вслед, как она
скользнула вниз по шиферу.
Немец уже вылез весь. Никем не видимый, он выбирался к своим. Сгибаясь,
сильно припадая на левую ногу, побежал. Единственно боясь упустить,
Третьяков повел следом ствол автомата. Он уже нажимал спусковой крючок,
когда немец, словно ощутив, обернулся, показал лицо. Тревога и боязливая
радость были на нем: спасся, жив! И тут же лицо дрогнуло непоправимо. Немец
начал распрямляться, распрямляться, мучительно-сладко потянулся спиной, куда
вошла очередь, выгнул грудь; поднятые, судорогой сводимые руки завело за
плечи. И рухнул, роняя автомат.
В тот же самый момент увидел Третьяков свой разрыв. Среди других
разрывов на поле, позади батареи, из кустов встал дым. Овраг там, низина--
вот почему он не видел своих разрывов: в овраге рвались. Он изменил прицел.
-- Выстрел!-- прокричал снизу Кытин. С биноклем у глаз Третьяков ждал.
Солнце отвесно пекло затылок, мокрую спину между лопаток.
В логу немцы вдруг кинулись от минометов. Падали на бегу,
распластывались кто где. Долгий, бесконечный миг ожидания длился. Отчетливо
видел сейчас Третьяков в бинокль брошенную огневую позицию: ящики с минами,
задранные вверх стволы минометов, блеск солнца на пыльных стволах-- пусто,
время остановилось. Один минометчик не выдержал, вскочил с земли... И тут
рвануло из низины.
-- Батарее три снаряда-- беглый огонь!-- кричал Третьяков. И пока там
рвалось и взлетало, под ним дрожала крыша, на которой он лежал.
А когда опала выкинутая взрывами земля, когда дым потащило ветром, на
огневой позиции, открывшейся вновь, ничего не было. Только перепаханная
земля, воронки.
Потом заметил: что-то живое шевелится на той стороне оврага. Вгляделся.
Одолевая гребень, выползал из оврага минометчик, через силу волочил себя по
земле, как передавленный.
 В пыли и дыму, заслонивших солнце, сражение шло не первый час. Уже
танки, застрявшие перед противотанковым рвом, перебрались через него, и один
горел посреди поля. Был слух, что левей прошла панцирная пехота: в стальных
касках, со стальными пластинами на позвоночнике, со стальным панцирем на
груди, они будто бы раньше танков первыми форсировали противотанковый ров.
За всю войну такой нашей пехоты Третьяков не видел, но говорили, что она
прошла левей.
У противотанкового рва, расковырянного снарядами, стояла подбитая
тридцатьчетверка, а по полю остались лежать пехотинцы. В своих выгоревших
гимнастерках, со скатками через плечо, кто в пилотке, кто стриженой головой
в жесткой, посохшей траве, сливались они с этим рыжим полем. И уже ничей
голос-- ни взводного, ни ротного, ни командующего, окажись он тут,-- не
способен был поднять их. Никому не подвластные отныне, лежали они в траве
перед противотанковым рвом, будто все еще ползли. И внизу, скатившись туда
от разрыва, чуть не наступил Третьяков на полузасыпанного глиной бойца.
Чей-то зеленый телефонный провод пролег через него поперек.
Когда вылезли изо рва и бежали с Кытиным по полю, разматывая за собой
провод, пули высвистывали так близко, что Третьяков на бегу дергал головой,
будто отмахивался от них. Внезапный артналет положил обоих. В какой-то миг,
оторвав лицо от земли, увидел впереди угольно-серую, снеговую в жаркий день
тучу. Клубящейся грозовой стеной стояла она, а перед ней высоко метались
голуби, ослепительно белые. И вдруг увидел, как одного срезало пулей,
впервые в жизни Третьяков увидал это. Голубя подкинуло выше стаи, закружась,
он падал вниз, оставлял в воздухе перья из раскрывшегося крыла. И-- холодом
по сердцу: "Убьет меня сегодня!.." Подумал и сам испугался, что так подумал.
В следующий момент, вскочив, он бежал по полю с автоматом в опущенной руке.
Согнутые, бегущие впереди пехотинцы в своих гимнастерках казались белыми
перед черной стеной тучи, как на негативе.
Нырнув головой в дым разрыва, падая, Третьяков поймал на лету
снижающийся вой мины. И стон чей-то близко, захлебывающийся, жалобный: "Ой!
О-оо! Ой-е-е-еи!.." Стремительней вой мины. Больней стон. И еще два голоса
лаются поспешно: "Дай, говорю... Отдай!" "Вот она тебе щас даст... Щас
отдаст..." Показалось, один голос-- Кытина. Грохнуло. Стон оборвался. Когда
Третьяков вскочил, Кытин и пехотинец в пыли разрыва тянули друг у друга из
рук катушку немецкого телефонного провода, топтались на месте. Пехотинец был
здоровей, рослый, в распахнутой шинели. Кытин, успевая перехватываться,
ударял его по рукам сверху. И еще ногой доставал. При этом кричал отчаянно:
-- Товарищ лейтенант! Лейтенант! Железный скрежет снаряда. Оба присели,
катушку ни один не выпускал из рук.
-- Товарищ лейтенант!..
-- А ну, брось! -- набежав, закричал Третьяков. Пехотинец неохотно
отпускал руки.
-- Моя катушка. Я ее нашел на поле... Взрывной волной качнуло всех
троих. Вытряхивая землю из-за шиворота, Третьяков видел, как Кытин на
корточках уже подсоединяет конец добытого провода:
-- Нашел-- еще найди. Их вон сколько...
А сам прятал довольную улыбку.
Они спрыгнули в траншею, когда над ней еще стояли пыль и дым. Усевшись
на катушку с проводом, словно и тут охраняя ее, Кытин подключал аппарат.
Третьяков лег локтями на бруствер, оглядывал поле в бинокль. Стекла окуляров
запотевали, пот щипал растрескавшиеся губы, тек по ложбине груди под
гимнастеркой.
Впереди спешно окапывалась пехота. Среди переползавших по земле,
распластанных на ней пехотинцев столбом взлетали разрывы, дымы шатало над
полем, и безостановочно, не давая пехоте подняться, секли пулеметы. И над
головой, за толщей воздуха-- дрр!.. дрр!..-- глухо раздавались пулеметные
очереди, то снижаясь, то отдаляясь, завывали моторы-- клубком перекатывался
воздушный бой.
По траншее все время перебегали люди. Один раз, прижавшись к стенке,
мельком увидел Третьяков, как протащили под мышки кого-то. Задравшаяся
гимнастерка, впалый желтый живот... Знакомой показалась стриженая голова с
залысинами, чья-то рука надевала на нее пилотку.
Прибежал исчезнувший было Кытин.
-- Товарищ лейтенант, там такие туннели под землей! Метров десять
глубины, ага! А сам уже что-то жевал.
-- Хлеба хотите? Он там все побросал. Идите гляньте. Над головой метров
десять глины, ни один снаряд не возьмет.
За поворотом траншеи в боковой щели друг на друге лежали убитые немцы.
Верхний раскинул ступни в продранных носках, мундир разорван у горла, вместо
лица-- запекшаяся черная корка земли и крови, а над ней ветром шевелило
волнистые светлые волосы. Несколько раз переступал Третьяков через убитых
немцев, пока спускался вниз, в темноту после яркого солнца, хватаясь за
стены руками.
Тут все звуки глуше, от взрывов-- они, как удары, отдавались под землей
-- подскакивали огни свечей, и сыпалось с мощного глиняного свода. На полу,
в желтом сумраке, белели бинты раненых. Среди них увидел он командира роты.
Голый по пояс, коричневый в этом свете, сидел он на земле, а санитар, стоя
на коленях, обматывал ему грудь бинтами. Узнав Третьякова, командир роты
поднял бессильно клонившуюся залысую голову:
-- Вот... опять стукнуло... На один бой меня не хватило...
Туннель, как дымом, наполнялся пылью, удары отдавались непрерывно, и
уже казалось, что-то происходит наверху. Стоя над командиром роты, Третьяков
спрашивал:
-- Старшой, ты говорил, начальник штаба у вас был под Харьковом. Здесь
он, а? Не видал? Про дядьку хотел узнать...
И взглядом торопил, помогал вспомнить. Но командир роты, подняв голову,
смотрел на свод потолка, откуда на лицо ему сыпалась глина. Среди раненых
возникла тревога. Они щупали вокруг себя оружие, некоторые куда-то ползли.
Наверху все грохотало. Пока пробирался туда, повсюду в проходах
толклось множество набежавшего откуда-то народа. И в траншее-- толкотня,
крики, испуганные лица. Визгнуло коротко. Разрыв. Разрыв. Танки! Еще и
голову не высунув из траншеи, понял: они. Бьют прямой наводкой: выстрел --
разрыв. Опять визгнуло коротко, всех пригнуло в траншее. Осыпанный сверху,
Третьяков выглянул из-за бруствера: танки. Низкие, длинноствольные, они
появились из-за бугра, на котором вращались крылья мельницы. Два танка...
Еще за ними -- один, два, три... У переднего пушка сверкнула огнем. Дало
так, что звоном уши заложило.
-- Кытин!
Валялся засыпанный землей аппарат. Катушки с проводом нет. И Кытина
нигде нет. Третьяков схватил трубку. Нет связи. Неужели убежал?
На поле лежала неокопавшаяся пехота. Танки шли, и перед ними, как
ветром, снимало с земли людей. Они вскакивали по одному, бежали, пригибаясь,
словно на четвереньках, разрывы сметали бегущих.
-- Я те побегаю! Я те побегаю! -- яростно кричал в трубку командир
батальона и тряс матерчатым козырьком фуражки над глазами, а сам весь под
землей стоял, в проходе в туннель.
Лейтенант-артиллерист беспомощно суетился с картой у телефона,
белый-белый. Оправдывался в трубку, огня не открывал.
-- Какие у тебя пушки?-- крикнул Третьяков.
-- Гаубицы... Стодвадцатидвух...
-- Где батарея?
-- Вот. Вот,-- показывал лейтенант на карте, смотрел с надеждой.
Третьяков прикинул расстояние:
-- Открывай огонь!
И стал передавать команду.
Какой-то парень, чубатый, в сержантских погонах, неизвестно почему
толкавшийся здесь, восхищенно смотрел на Третьякова.
-- Вот молодец, лейтенант!
И тут Третьяков услышал в трубке задыхающийся голос Кытина:
-- Акация, Акация!..
-- Кытин?
-- Я! Тут порыв на поле...
И сейчас же голос командира дивизиона:
-- Что там у вас происходит? Третьяков! Что делается там у вас?
-- Немец контратакует танками! Надо заградительный огонь...
-- Танки, танки... Сколько видишь танков? Сам сколько видишь?
-- Пять видел... Сейчас...
Он хотел сказать "посчитаю", его ударило, сбило с ног. Комья земли
рушились сверху, били по согнутой спине, по голове, когда он, стоя на
коленях над аппаратом, сдерживал тошноту. Тягучая слюна текла изо рта, он
рукавом вытирал ее. Подумал: "Вот оно..." И поразился: не страшно.
На дне траншеи ничком лежал чубатый сержант, выкинув перед собой руку.
Пальцы на ней шевелились. А там, где только что комбат кричал и тряс
козырьком, дымилась рыхлая воронка.
Поднявшись на слабых ногах, не понимая, ранен он, не ранен,-- но крови
на нем нигде не было,-- Третьяков увидел поле, разрывы, бегущих, падающих на
землю людей. Медленно, словно это голова кружилась, вращались на бугре
пробитые полотнища-- крылья ветряной мельницы, то заслоняя нижним краем, то
открывая идущие танки. И чувствуя неотвратимость надвигающегося и
остановившееся время, сквозь звон и глушь в ушах, как чужой, слыша свой
голос, он передавал команду дивизиону. Вскинул бинокль к глазам. Резче,
ближе все стало, притянутое увеличительными стеклами. Взблескивая
гусеницами, надвигался вырвавшийся вперед танк, и крыло мельницы с
оторванным полотнищем, опускаясь сверху, отделяло его от остальных.
Вскинулся разрыв. Что-то дернуло телефонный аппарат, поволокло с
бруствера. Подхватив его, прижимая коленом к стенке окопа, Третьяков
прокричал новую команду. Сильней дернуло аппарат. Обернулся. Над
бруствером-- черное, белозубое улыбающееся лицо.
-- Насруллаев!
Еще шире, радостней улыбка, зубов сто выставил напоказ, и все белые,
крепкие. Насруллаев, его связист, лежит на земле. Приполз. И две катушки
телефонного провода на нем. И провод в руке, за который он дергает.
-- Вниз прыгай! Быстро!
Улыбается, как будто не понимает русского языка.
-- Вниз, кому говорю! Кытин где?
Потянулся сдернуть Насруллаева в окоп, но ударило под локоть, болью
прожгло руку. Он подхватил левую руку другой рукой, в которой была
телефонная трубка, не понимая, кто его ударил, чувствуя только, что не может
вдохнуть. И раньше, чем он увидел свою кровь, увидел страх и боль на лице
Насруллаева, смотревшего на него. Потом закапало из рукава шинели. Сразу
ослабев, чувствуя, как обморочно немеет лицо, губы, он сел на дно траншеи,
зачем-то здоровой рукой нашаривая рядом с собой автомат.
В пыли и дыму, заслонивших солнце, сражение шло не первый час. Уже
танки, застрявшие перед противотанковым рвом, перебрались через него, и один
горел посреди поля. Был слух, что левей прошла панцирная пехота: в стальных
касках, со стальными пластинами на позвоночнике, со стальным панцирем на
груди, они будто бы раньше танков первыми форсировали противотанковый ров.
За всю войну такой нашей пехоты Третьяков не видел, но говорили, что она
прошла левей.
У противотанкового рва, расковырянного снарядами, стояла подбитая
тридцатьчетверка, а по полю остались лежать пехотинцы. В своих выгоревших
гимнастерках, со скатками через плечо, кто в пилотке, кто стриженой головой
в жесткой, посохшей траве, сливались они с этим рыжим полем. И уже ничей
голос-- ни взводного, ни ротного, ни командующего, окажись он тут,-- не
способен был поднять их. Никому не подвластные отныне, лежали они в траве
перед противотанковым рвом, будто все еще ползли. И внизу, скатившись туда
от разрыва, чуть не наступил Третьяков на полузасыпанного глиной бойца.
Чей-то зеленый телефонный провод пролег через него поперек.
Когда вылезли изо рва и бежали с Кытиным по полю, разматывая за собой
провод, пули высвистывали так близко, что Третьяков на бегу дергал головой,
будто отмахивался от них. Внезапный артналет положил обоих. В какой-то миг,
оторвав лицо от земли, увидел впереди угольно-серую, снеговую в жаркий день
тучу. Клубящейся грозовой стеной стояла она, а перед ней высоко метались
голуби, ослепительно белые. И вдруг увидел, как одного срезало пулей,
впервые в жизни Третьяков увидал это. Голубя подкинуло выше стаи, закружась,
он падал вниз, оставлял в воздухе перья из раскрывшегося крыла. И-- холодом
по сердцу: "Убьет меня сегодня!.." Подумал и сам испугался, что так подумал.
В следующий момент, вскочив, он бежал по полю с автоматом в опущенной руке.
Согнутые, бегущие впереди пехотинцы в своих гимнастерках казались белыми
перед черной стеной тучи, как на негативе.
Нырнув головой в дым разрыва, падая, Третьяков поймал на лету
снижающийся вой мины. И стон чей-то близко, захлебывающийся, жалобный: "Ой!
О-оо! Ой-е-е-еи!.." Стремительней вой мины. Больней стон. И еще два голоса
лаются поспешно: "Дай, говорю... Отдай!" "Вот она тебе щас даст... Щас
отдаст..." Показалось, один голос-- Кытина. Грохнуло. Стон оборвался. Когда
Третьяков вскочил, Кытин и пехотинец в пыли разрыва тянули друг у друга из
рук катушку немецкого телефонного провода, топтались на месте. Пехотинец был
здоровей, рослый, в распахнутой шинели. Кытин, успевая перехватываться,
ударял его по рукам сверху. И еще ногой доставал. При этом кричал отчаянно:
-- Товарищ лейтенант! Лейтенант! Железный скрежет снаряда. Оба присели,
катушку ни один не выпускал из рук.
-- Товарищ лейтенант!..
-- А ну, брось! -- набежав, закричал Третьяков. Пехотинец неохотно
отпускал руки.
-- Моя катушка. Я ее нашел на поле... Взрывной волной качнуло всех
троих. Вытряхивая землю из-за шиворота, Третьяков видел, как Кытин на
корточках уже подсоединяет конец добытого провода:
-- Нашел-- еще найди. Их вон сколько...
А сам прятал довольную улыбку.
Они спрыгнули в траншею, когда над ней еще стояли пыль и дым. Усевшись
на катушку с проводом, словно и тут охраняя ее, Кытин подключал аппарат.
Третьяков лег локтями на бруствер, оглядывал поле в бинокль. Стекла окуляров
запотевали, пот щипал растрескавшиеся губы, тек по ложбине груди под
гимнастеркой.
Впереди спешно окапывалась пехота. Среди переползавших по земле,
распластанных на ней пехотинцев столбом взлетали разрывы, дымы шатало над
полем, и безостановочно, не давая пехоте подняться, секли пулеметы. И над
головой, за толщей воздуха-- дрр!.. дрр!..-- глухо раздавались пулеметные
очереди, то снижаясь, то отдаляясь, завывали моторы-- клубком перекатывался
воздушный бой.
По траншее все время перебегали люди. Один раз, прижавшись к стенке,
мельком увидел Третьяков, как протащили под мышки кого-то. Задравшаяся
гимнастерка, впалый желтый живот... Знакомой показалась стриженая голова с
залысинами, чья-то рука надевала на нее пилотку.
Прибежал исчезнувший было Кытин.
-- Товарищ лейтенант, там такие туннели под землей! Метров десять
глубины, ага! А сам уже что-то жевал.
-- Хлеба хотите? Он там все побросал. Идите гляньте. Над головой метров
десять глины, ни один снаряд не возьмет.
За поворотом траншеи в боковой щели друг на друге лежали убитые немцы.
Верхний раскинул ступни в продранных носках, мундир разорван у горла, вместо
лица-- запекшаяся черная корка земли и крови, а над ней ветром шевелило
волнистые светлые волосы. Несколько раз переступал Третьяков через убитых
немцев, пока спускался вниз, в темноту после яркого солнца, хватаясь за
стены руками.
Тут все звуки глуше, от взрывов-- они, как удары, отдавались под землей
-- подскакивали огни свечей, и сыпалось с мощного глиняного свода. На полу,
в желтом сумраке, белели бинты раненых. Среди них увидел он командира роты.
Голый по пояс, коричневый в этом свете, сидел он на земле, а санитар, стоя
на коленях, обматывал ему грудь бинтами. Узнав Третьякова, командир роты
поднял бессильно клонившуюся залысую голову:
-- Вот... опять стукнуло... На один бой меня не хватило...
Туннель, как дымом, наполнялся пылью, удары отдавались непрерывно, и
уже казалось, что-то происходит наверху. Стоя над командиром роты, Третьяков
спрашивал:
-- Старшой, ты говорил, начальник штаба у вас был под Харьковом. Здесь
он, а? Не видал? Про дядьку хотел узнать...
И взглядом торопил, помогал вспомнить. Но командир роты, подняв голову,
смотрел на свод потолка, откуда на лицо ему сыпалась глина. Среди раненых
возникла тревога. Они щупали вокруг себя оружие, некоторые куда-то ползли.
Наверху все грохотало. Пока пробирался туда, повсюду в проходах
толклось множество набежавшего откуда-то народа. И в траншее-- толкотня,
крики, испуганные лица. Визгнуло коротко. Разрыв. Разрыв. Танки! Еще и
голову не высунув из траншеи, понял: они. Бьют прямой наводкой: выстрел --
разрыв. Опять визгнуло коротко, всех пригнуло в траншее. Осыпанный сверху,
Третьяков выглянул из-за бруствера: танки. Низкие, длинноствольные, они
появились из-за бугра, на котором вращались крылья мельницы. Два танка...
Еще за ними -- один, два, три... У переднего пушка сверкнула огнем. Дало
так, что звоном уши заложило.
-- Кытин!
Валялся засыпанный землей аппарат. Катушки с проводом нет. И Кытина
нигде нет. Третьяков схватил трубку. Нет связи. Неужели убежал?
На поле лежала неокопавшаяся пехота. Танки шли, и перед ними, как
ветром, снимало с земли людей. Они вскакивали по одному, бежали, пригибаясь,
словно на четвереньках, разрывы сметали бегущих.
-- Я те побегаю! Я те побегаю! -- яростно кричал в трубку командир
батальона и тряс матерчатым козырьком фуражки над глазами, а сам весь под
землей стоял, в проходе в туннель.
Лейтенант-артиллерист беспомощно суетился с картой у телефона,
белый-белый. Оправдывался в трубку, огня не открывал.
-- Какие у тебя пушки?-- крикнул Третьяков.
-- Гаубицы... Стодвадцатидвух...
-- Где батарея?
-- Вот. Вот,-- показывал лейтенант на карте, смотрел с надеждой.
Третьяков прикинул расстояние:
-- Открывай огонь!
И стал передавать команду.
Какой-то парень, чубатый, в сержантских погонах, неизвестно почему
толкавшийся здесь, восхищенно смотрел на Третьякова.
-- Вот молодец, лейтенант!
И тут Третьяков услышал в трубке задыхающийся голос Кытина:
-- Акация, Акация!..
-- Кытин?
-- Я! Тут порыв на поле...
И сейчас же голос командира дивизиона:
-- Что там у вас происходит? Третьяков! Что делается там у вас?
-- Немец контратакует танками! Надо заградительный огонь...
-- Танки, танки... Сколько видишь танков? Сам сколько видишь?
-- Пять видел... Сейчас...
Он хотел сказать "посчитаю", его ударило, сбило с ног. Комья земли
рушились сверху, били по согнутой спине, по голове, когда он, стоя на
коленях над аппаратом, сдерживал тошноту. Тягучая слюна текла изо рта, он
рукавом вытирал ее. Подумал: "Вот оно..." И поразился: не страшно.
На дне траншеи ничком лежал чубатый сержант, выкинув перед собой руку.
Пальцы на ней шевелились. А там, где только что комбат кричал и тряс
козырьком, дымилась рыхлая воронка.
Поднявшись на слабых ногах, не понимая, ранен он, не ранен,-- но крови
на нем нигде не было,-- Третьяков увидел поле, разрывы, бегущих, падающих на
землю людей. Медленно, словно это голова кружилась, вращались на бугре
пробитые полотнища-- крылья ветряной мельницы, то заслоняя нижним краем, то
открывая идущие танки. И чувствуя неотвратимость надвигающегося и
остановившееся время, сквозь звон и глушь в ушах, как чужой, слыша свой
голос, он передавал команду дивизиону. Вскинул бинокль к глазам. Резче,
ближе все стало, притянутое увеличительными стеклами. Взблескивая
гусеницами, надвигался вырвавшийся вперед танк, и крыло мельницы с
оторванным полотнищем, опускаясь сверху, отделяло его от остальных.
Вскинулся разрыв. Что-то дернуло телефонный аппарат, поволокло с
бруствера. Подхватив его, прижимая коленом к стенке окопа, Третьяков
прокричал новую команду. Сильней дернуло аппарат. Обернулся. Над
бруствером-- черное, белозубое улыбающееся лицо.
-- Насруллаев!
Еще шире, радостней улыбка, зубов сто выставил напоказ, и все белые,
крепкие. Насруллаев, его связист, лежит на земле. Приполз. И две катушки
телефонного провода на нем. И провод в руке, за который он дергает.
-- Вниз прыгай! Быстро!
Улыбается, как будто не понимает русского языка.
-- Вниз, кому говорю! Кытин где?
Потянулся сдернуть Насруллаева в окоп, но ударило под локоть, болью
прожгло руку. Он подхватил левую руку другой рукой, в которой была
телефонная трубка, не понимая, кто его ударил, чувствуя только, что не может
вдохнуть. И раньше, чем он увидел свою кровь, увидел страх и боль на лице
Насруллаева, смотревшего на него. Потом закапало из рукава шинели. Сразу
ослабев, чувствуя, как обморочно немеет лицо, губы, он сел на дно траншеи,
зачем-то здоровой рукой нашаривая рядом с собой автомат.
 Горела деревня, вдали за нею горела станция Янце-во. Там все рвалось,
из огня, как искры из костра, взлетали в черное небо трассы пуль. Все это
возникало то позади, то сбоку, то спереди откуда-то. Машина бездорожно
ползла по полю во тьме, в сумеречных отсветах пламени, проваливалась в
воронки, раненые катились друг на друга, стонали, копошились в кузове, пока
полуторка, завывая слабым мотором, выбиралась на ровное. И опять кружили по
полю, то отдаляясь, то будто вновь приближаясь к бою. Один раз, как видение,
возникло: догоравшая мельница распадалась на глазах, рушились огненные
куски; словно раскаленный проволочный каркас, светился остов.
От толчков и тряски у Третьякова пошла кровь горлом, он вытирал рот
рукавом. Вытрет, посмотрит -- черный мокрый след на сукне. Из всех ран
только одну и почувствовал он в первый миг, когда ударило под локоть по
самому больному, по нерву, вышибло автомат из руки. А потом еще четыре дырки
насчитал на нем санитар. Дышать не давал осколок, вошедший меж ребер. Из-за
него и шла кровь ртом. Весь сжимаясь в ожидании боли, он приготавливался к
новому толчку, когда опять машина провалится и отдастся во всех ранах.
-- Ой, о-ой! -- всхлипывал рядом с ним младший лейтенант.-- Ой, боже
мой, что ж это? Ой, хоть бы скорей бы уж...
Один раз, когда особенно резко тряхнуло, Третьяков от собственной боли
закричал на него:
-- Имей совесть в конце-то концов! Тебе что, хуже всех?
И тот замолчал. И опять кружили по полю, кружению этому не было конца,
мотор то завывал с надрывом, то глох, свет ракет опускался в кузов до самого
дощатого пола, и вновь смыкалась темнота. А время измерялось толчками и
болью.
Стали. Раздались голоса в темноте, шаги. Заскрежетало железо. Откинулся
борт. По одному начали снимать, сводить раненых. Когда снимали младшего
лейтенанта, он не стонал. И голоса замолкли. Его отнесли в сторону, положили
на землю в темноте.
Незнакомый старшина помог Третьякову слезть, суетился, подставлял под
него плечо:
-- На меня, на меня обопрись. Сильней наваливайся, ничего.
Присохшая к ране штанина оторвалась, горячее потекло по ноге. Значит,
еще одна дырка. Ее не чувствовал до сих пор. Быстро подошел кто-то
решительный, маленький, в ремнях. Третьякова остановили перед ним.
-- Вот ты какой, лейтенант... Сейчас мы тебя отправим, медицина
подлечит, опять вернешься в полк. Будем ждать.
Сверху Третьяков увидел на нем погоны капитана, понял: командир
дивизиона. Из боя по голосу не таким он представлялся маленьким.
-- Я на тебя кричал сегодня.-- Капитан нахмурился строго.-- Все мы в
бою нервные. Ты не обижайся, нельзя.
-- Я не обижаюсь.
Все плыло перед глазами, деревья над головой качались, а может, это он
качался. И трудно было дышать.
-- Нельзя обижаться, вот именно: нельзя. Опять старшина повел его, а он
просил, плохо слыша свой голос:
-- Меня туда... Туда отведи... Осколок меж ребер не давал вдохнуть.
-- Туда... старшина...
И тянул к кустам. А тот, не понимая от старательности, только сильней
подпирал плечом, взваливал его на себя:
-- Щас мы придем, недалеко тут, щас...
-- Старшина...
-- Ничего!
Наконец догадался, засуетился, сам начал снимать с него ремень,
распустил ремешок на брюках.
-- Отойди,-- просил Третьяков.
-- Чего там!
-- Отойди... прошу...-- Вдохнуть глубоко не мог, голос от этого был
совсем жалобный.-- Да отойди же.
Рукой держась за деревце, он качался с ним вместе, слабый, хоть плачь.
Но и это готов был перенести, только б не стыд. А старшина, дыша махоркой и
водочкой, повторял: "Чего там!"-- и не обидно, охотно, просто обходился с
ним.
-- А мне доведись?-- говорил он, за таким делом окончательно перейдя на
"ты".-- Неужли не помог бы? Тут друг дружке помогать надо как-либо.
И не отходил, поддерживал его все это время. После сам застегнул на нем
штаны -- у Третьякова уже и сил не осталось сопротивляться, оправил
гимнастерку, поглядел на командирский ремень у себя в руках, на пряжку со
звездой, застеснялся:
-- Ремень у тебя хороший... Они, в госпитале, знаешь как? Что на ком
прибыло, то им и найдено. Лежал, знаю.
Вздохнул, помялся: очень ему не хотелось расставаться с ремнем.
-- А если который без памяти, так и концов потом не найдет и спросить
не знай где.
-- Бери,-- сказал Третьяков, будто рукой махнул. Не ремня ему сейчас
было жалко. Чего-то совсем другого по-человечески было жаль. Да и это уже
становилось безразлично. А тот радостно засуетился, запоясывал его своим
ремнем, говоря невнятно:
-- Мой тоже годный еще. А что потрепался, так его солидольчиком
смазать...
Заправил, обдернул-- болью каждый раз отдавалось в ранах,-- заверил с
легкостью:
-- Тебе там новый дадут!
Опять Третьякова куда-то вели, везли, трясли. Потом он сидел на земле.
Сквозь лес прозрачное светилось зарево: красное зарево, черные деревья на
нем. И всюду под деревьями лежали, сидели, шевелились на земле раненые.
Погромыхивало. Из палатки невдалеке выводили перевязанных, свежие бинты на
них резко белели. И пока санитары, ступая меж людьми, выбирали, кого
следующего взять, раненые с земли смотрели на них, стоны становились
жалобней. Вынесли человека на носилках. Брезентовый полог проехал по нему от
сапог до головы в бинтах.
Третьяков слышал все сквозь звон в ушах. По временам звон начинал
отдаляться, проваливался... Вздрогнув, он просыпался. Сердце колотилось с
перебоями. Он знал: спать нельзя. Это как на морозе: заснешь-- не
проснешься. И крепился, чтоб не заснуть. А в нем слабело все, сердце уже не
билось, дрожало. Он чувствовал, как жизнь уходит из него. Один раз услышал
над собой голоса:
-- Не спи, лейтенант!
Черная тень заслонила зарево, нагнулась ниже:
-- Э-э, ну-ка давай. Давай, давай, вставай... Пособи, Никишин. Вот так.
Во! Идти можешь?..
Жесткий брезент, ободрав по лицу, скинул с головы пилотку. Санитар
поднял, сунул ему в карман шинели.
Внутри, под белым провисшим пологом, свет керосиновых ламп ослепил.
Пока раздевали его, все возникало отдельно. В углу -- голый по пояс
человек, поддерживая одну руку свою другой рукой, смотрел сверху, как сестра
вытягивает пинцетом у него из локтя, из черной дыры, пропитанный коричневый
бинт.
Над столом нагнулись врачи в масках. Там, под руками у них,--
остриженная круглая голова, вместо виска и скулы-- масленые сгустки крови,
сплошная рана. Никелированными щипцами врачи копошатся в ней, вынимают
что-то, звякает металл в тазу под столом. Глаза человека, блестящие сильно,
черные, нерусские в разрезе, смотрят перед собой отдельно от боли, отдельно
ото всего, а желтая нога, вылезшая из-под простыни, дрожит мелкой дрожью.
Третьяков тоже дрожал, раздетый догола. Теплым был стол, когда его туда
положили. Хирург у отодвинутого полога курил из чужой руки. Свои руки в
перчатках держал поднятыми на уровень плеч. Завязанный по глаза нагнулся
сверху, маска притягивалась дыханием, обозначая рот, нос, притягивалась и
отпадала. Чем-то тупым повели по телу. Звякнул металл в тазу. Опять будто
тупым скальпелем провели, тело само сжималось от ожидания боли. Еще
несколько раз звякало в тазу. И-- резанула боль.
-- Ноги прижмите! -- сказал хирург. Раскаленное вошло внутрь до самого
сердца, задохнулся.
-- Кричи, не терпи! Кричи!
Женский голос то пропадал, то рядом дышал, над ухом. Кто-то промокал
ему бинтом лоб, лицо. Один раз близко возникли глаза хирурга, глянули зрачки
в зрачки. Что-то сказал. И просторней вдруг стало сердцу.
Когда уже перевязывали, женщина подала в ватке кровавый сгусток.
-- Осколок на память возьмешь?
-- Зачем он мне?
И этот звякнул о таз.
Слабого, дрожащего отвели Третьякова в палатку. И под шинелью, под
одеялом он продрожал полночи. Закроет глаза и опять видит: бегут согнутые
пехотинцы в сухой траве, впереди стеной-- черная туча, гимнастерки на
пехотинцах и трава-- белые. А то вдруг видел, как дрожит на операционном
столе желтая нога, каменно напрягшаяся от боли, со сжатыми в щепоть
пальцами.
И не раз в эту ночь видел он Суярова, зажмуривался и все равно видел,
как бил его там, под обстрелом, на гиблом этом поле, а тот повалился на
спину, мигает, заслоняясь руками. Ведь это последнее, что было у того в
жизни: как били его. На черта он взял себе это на душу!.. И еще палец на
руке, безымянный,-- отрубленный, как у мамы...
Пехота бежала среди взлетающих разрывов, и туча дыбилась стеной за
противотанковым рвом. Что-то заклубилось в ней, как пыль закрутило смерчем.
Покачиваясь, оно приближалось. И вдруг со сладкой болью в груди все в нем
раскрылось навстречу:
"Мама!"
Печальная-печальная стояла она на той стороне, смотрела безмолвно. Он
чувствовал ее, как дыхание на щеках.
"Мама!"
И, задыхаясь от любви к ней, радуясь, что впервые за взрослую жизнь он
может сказать ей это и ничего между ними не стоит, он устремлялся к ней, а
его тянули за плечо, не пускали, оттягивали назад. Он дернулся с болью и
проснулся. В сером рассвете чья-то забинтованная голова, как белый шар,
качалась над ним.
-- Чего тебе?-- спросил Третьяков и отвернулся: щеки его были мокры от
слез.
-- Кричал ты. Может, нужно что?
-- Ничего мне не нужно.
Он жалел, что его разбудили. Долго лежал так. Светало. В палатке
началась суета. Санитары срочно поили раненых горячим чаем, подбинтовывали,
проверяли повязки. Несколько раз, взволнованный, заходил врач. Что-то
готовилось. Наверное, отправка в тыл.
Снаружи, за пологом, когда его открывали, все было в росе. И они лежали
вровень с росой. Холодное солнце поднялось и стояло над лесом. Раненые
прислушивались к недальнему громыханию боя, шевелились беспокойно на соломе,
застеленной плащ-палатками.
Рядом с Третьяковым, спеленатый бинтами, сидел командир батареи
противотанковых пушек. Обеих рук у него не было выше локтей. Третьяков
чувствовал парной, железистый запах его крови, пропитавшей бинты в тех
местах, где кончались обрубки рук. Поддерживал комбата под спину боец его
батареи, тоже раненный в этом бою, поил чаем из кружки, кому-то рассказывал
за его спиной, как пошли на них немецкие танки, как все получилось.
-- Главное, он ведь портной был до войны,-- громко говорил боец, словно
бы без рук комбат теперь уже и не слышит, и кружкой не попадал ему в губы. А
тот сидел, ждал покорно.-- Как ему без рук? Без рук он и на хлеб себе не
заработает,-- все так же при нем, как без него, говорил боец.
Что-то кавказское или еврейское было в лице комбата: белый нос с
горбинкой, глаза навыкате, рыжеватые пониклые усы на бескровном лице. Отчима
оно напомнило Третьякову, только тот усов не носил.
Резко раздернули вход в палатку и, заслоня солнце, вместе с длинными
тенями, двинувшимися впереди них по земле, толпой вступили в палатку
несколько офицеров. Первым-- полковник в орденах. Из-за голов испуганно
выглядывал врач.
-- Здорово, орлы! А кто первым из вас в бою вскочил в немецкую
траншею?-- Молчание было некоторое время. Полковник ждал. Шелестом прошло по
раненым:
"Командир дивизии!.." У входа в палатку поднялся с соломы легкораненый
боец, молодой, бравый -- хоть под знамя ставь.
-- Я, товарищ полковник!
Командир дивизии оглядел его.
-- Молодец! Герой!
И только повернул назад тугую шею, а уже адъютант из ящичка, который
перед собой держал, подавал большую серебряную медаль "За отвагу". Она
покачивалась на колодке. Командир дивизии собственноручно приколол ее
солдату на грудь.
-- Заслужил! Носи!
Еще один поднялся, не такой бравый на вид. Под гимнастеркой, натянутой
поверх, прижата к животу согнутая в локте рука. И сам он весь над ней
согнулся.
-- Я тоже, товарищ полковник...
И ему прикрепили медаль на гимнастерку. Больше никто встать не решился.
Только слабый чей-то голос спросил из угла:
-- Станцию самою взяли, товарищ полковник? Как ее, станцию эту?..
-- Взяли, взяли, орлы! Выздоравливайте. Медицина у нас хорошая, всех,
кто способен, вернет в строй!..
И так же стремительно вышел. За ним толпой -- остальные. Последним
догонял врач, оглядывался на раненых строго.
Горела деревня, вдали за нею горела станция Янце-во. Там все рвалось,
из огня, как искры из костра, взлетали в черное небо трассы пуль. Все это
возникало то позади, то сбоку, то спереди откуда-то. Машина бездорожно
ползла по полю во тьме, в сумеречных отсветах пламени, проваливалась в
воронки, раненые катились друг на друга, стонали, копошились в кузове, пока
полуторка, завывая слабым мотором, выбиралась на ровное. И опять кружили по
полю, то отдаляясь, то будто вновь приближаясь к бою. Один раз, как видение,
возникло: догоравшая мельница распадалась на глазах, рушились огненные
куски; словно раскаленный проволочный каркас, светился остов.
От толчков и тряски у Третьякова пошла кровь горлом, он вытирал рот
рукавом. Вытрет, посмотрит -- черный мокрый след на сукне. Из всех ран
только одну и почувствовал он в первый миг, когда ударило под локоть по
самому больному, по нерву, вышибло автомат из руки. А потом еще четыре дырки
насчитал на нем санитар. Дышать не давал осколок, вошедший меж ребер. Из-за
него и шла кровь ртом. Весь сжимаясь в ожидании боли, он приготавливался к
новому толчку, когда опять машина провалится и отдастся во всех ранах.
-- Ой, о-ой! -- всхлипывал рядом с ним младший лейтенант.-- Ой, боже
мой, что ж это? Ой, хоть бы скорей бы уж...
Один раз, когда особенно резко тряхнуло, Третьяков от собственной боли
закричал на него:
-- Имей совесть в конце-то концов! Тебе что, хуже всех?
И тот замолчал. И опять кружили по полю, кружению этому не было конца,
мотор то завывал с надрывом, то глох, свет ракет опускался в кузов до самого
дощатого пола, и вновь смыкалась темнота. А время измерялось толчками и
болью.
Стали. Раздались голоса в темноте, шаги. Заскрежетало железо. Откинулся
борт. По одному начали снимать, сводить раненых. Когда снимали младшего
лейтенанта, он не стонал. И голоса замолкли. Его отнесли в сторону, положили
на землю в темноте.
Незнакомый старшина помог Третьякову слезть, суетился, подставлял под
него плечо:
-- На меня, на меня обопрись. Сильней наваливайся, ничего.
Присохшая к ране штанина оторвалась, горячее потекло по ноге. Значит,
еще одна дырка. Ее не чувствовал до сих пор. Быстро подошел кто-то
решительный, маленький, в ремнях. Третьякова остановили перед ним.
-- Вот ты какой, лейтенант... Сейчас мы тебя отправим, медицина
подлечит, опять вернешься в полк. Будем ждать.
Сверху Третьяков увидел на нем погоны капитана, понял: командир
дивизиона. Из боя по голосу не таким он представлялся маленьким.
-- Я на тебя кричал сегодня.-- Капитан нахмурился строго.-- Все мы в
бою нервные. Ты не обижайся, нельзя.
-- Я не обижаюсь.
Все плыло перед глазами, деревья над головой качались, а может, это он
качался. И трудно было дышать.
-- Нельзя обижаться, вот именно: нельзя. Опять старшина повел его, а он
просил, плохо слыша свой голос:
-- Меня туда... Туда отведи... Осколок меж ребер не давал вдохнуть.
-- Туда... старшина...
И тянул к кустам. А тот, не понимая от старательности, только сильней
подпирал плечом, взваливал его на себя:
-- Щас мы придем, недалеко тут, щас...
-- Старшина...
-- Ничего!
Наконец догадался, засуетился, сам начал снимать с него ремень,
распустил ремешок на брюках.
-- Отойди,-- просил Третьяков.
-- Чего там!
-- Отойди... прошу...-- Вдохнуть глубоко не мог, голос от этого был
совсем жалобный.-- Да отойди же.
Рукой держась за деревце, он качался с ним вместе, слабый, хоть плачь.
Но и это готов был перенести, только б не стыд. А старшина, дыша махоркой и
водочкой, повторял: "Чего там!"-- и не обидно, охотно, просто обходился с
ним.
-- А мне доведись?-- говорил он, за таким делом окончательно перейдя на
"ты".-- Неужли не помог бы? Тут друг дружке помогать надо как-либо.
И не отходил, поддерживал его все это время. После сам застегнул на нем
штаны -- у Третьякова уже и сил не осталось сопротивляться, оправил
гимнастерку, поглядел на командирский ремень у себя в руках, на пряжку со
звездой, застеснялся:
-- Ремень у тебя хороший... Они, в госпитале, знаешь как? Что на ком
прибыло, то им и найдено. Лежал, знаю.
Вздохнул, помялся: очень ему не хотелось расставаться с ремнем.
-- А если который без памяти, так и концов потом не найдет и спросить
не знай где.
-- Бери,-- сказал Третьяков, будто рукой махнул. Не ремня ему сейчас
было жалко. Чего-то совсем другого по-человечески было жаль. Да и это уже
становилось безразлично. А тот радостно засуетился, запоясывал его своим
ремнем, говоря невнятно:
-- Мой тоже годный еще. А что потрепался, так его солидольчиком
смазать...
Заправил, обдернул-- болью каждый раз отдавалось в ранах,-- заверил с
легкостью:
-- Тебе там новый дадут!
Опять Третьякова куда-то вели, везли, трясли. Потом он сидел на земле.
Сквозь лес прозрачное светилось зарево: красное зарево, черные деревья на
нем. И всюду под деревьями лежали, сидели, шевелились на земле раненые.
Погромыхивало. Из палатки невдалеке выводили перевязанных, свежие бинты на
них резко белели. И пока санитары, ступая меж людьми, выбирали, кого
следующего взять, раненые с земли смотрели на них, стоны становились
жалобней. Вынесли человека на носилках. Брезентовый полог проехал по нему от
сапог до головы в бинтах.
Третьяков слышал все сквозь звон в ушах. По временам звон начинал
отдаляться, проваливался... Вздрогнув, он просыпался. Сердце колотилось с
перебоями. Он знал: спать нельзя. Это как на морозе: заснешь-- не
проснешься. И крепился, чтоб не заснуть. А в нем слабело все, сердце уже не
билось, дрожало. Он чувствовал, как жизнь уходит из него. Один раз услышал
над собой голоса:
-- Не спи, лейтенант!
Черная тень заслонила зарево, нагнулась ниже:
-- Э-э, ну-ка давай. Давай, давай, вставай... Пособи, Никишин. Вот так.
Во! Идти можешь?..
Жесткий брезент, ободрав по лицу, скинул с головы пилотку. Санитар
поднял, сунул ему в карман шинели.
Внутри, под белым провисшим пологом, свет керосиновых ламп ослепил.
Пока раздевали его, все возникало отдельно. В углу -- голый по пояс
человек, поддерживая одну руку свою другой рукой, смотрел сверху, как сестра
вытягивает пинцетом у него из локтя, из черной дыры, пропитанный коричневый
бинт.
Над столом нагнулись врачи в масках. Там, под руками у них,--
остриженная круглая голова, вместо виска и скулы-- масленые сгустки крови,
сплошная рана. Никелированными щипцами врачи копошатся в ней, вынимают
что-то, звякает металл в тазу под столом. Глаза человека, блестящие сильно,
черные, нерусские в разрезе, смотрят перед собой отдельно от боли, отдельно
ото всего, а желтая нога, вылезшая из-под простыни, дрожит мелкой дрожью.
Третьяков тоже дрожал, раздетый догола. Теплым был стол, когда его туда
положили. Хирург у отодвинутого полога курил из чужой руки. Свои руки в
перчатках держал поднятыми на уровень плеч. Завязанный по глаза нагнулся
сверху, маска притягивалась дыханием, обозначая рот, нос, притягивалась и
отпадала. Чем-то тупым повели по телу. Звякнул металл в тазу. Опять будто
тупым скальпелем провели, тело само сжималось от ожидания боли. Еще
несколько раз звякало в тазу. И-- резанула боль.
-- Ноги прижмите! -- сказал хирург. Раскаленное вошло внутрь до самого
сердца, задохнулся.
-- Кричи, не терпи! Кричи!
Женский голос то пропадал, то рядом дышал, над ухом. Кто-то промокал
ему бинтом лоб, лицо. Один раз близко возникли глаза хирурга, глянули зрачки
в зрачки. Что-то сказал. И просторней вдруг стало сердцу.
Когда уже перевязывали, женщина подала в ватке кровавый сгусток.
-- Осколок на память возьмешь?
-- Зачем он мне?
И этот звякнул о таз.
Слабого, дрожащего отвели Третьякова в палатку. И под шинелью, под
одеялом он продрожал полночи. Закроет глаза и опять видит: бегут согнутые
пехотинцы в сухой траве, впереди стеной-- черная туча, гимнастерки на
пехотинцах и трава-- белые. А то вдруг видел, как дрожит на операционном
столе желтая нога, каменно напрягшаяся от боли, со сжатыми в щепоть
пальцами.
И не раз в эту ночь видел он Суярова, зажмуривался и все равно видел,
как бил его там, под обстрелом, на гиблом этом поле, а тот повалился на
спину, мигает, заслоняясь руками. Ведь это последнее, что было у того в
жизни: как били его. На черта он взял себе это на душу!.. И еще палец на
руке, безымянный,-- отрубленный, как у мамы...
Пехота бежала среди взлетающих разрывов, и туча дыбилась стеной за
противотанковым рвом. Что-то заклубилось в ней, как пыль закрутило смерчем.
Покачиваясь, оно приближалось. И вдруг со сладкой болью в груди все в нем
раскрылось навстречу:
"Мама!"
Печальная-печальная стояла она на той стороне, смотрела безмолвно. Он
чувствовал ее, как дыхание на щеках.
"Мама!"
И, задыхаясь от любви к ней, радуясь, что впервые за взрослую жизнь он
может сказать ей это и ничего между ними не стоит, он устремлялся к ней, а
его тянули за плечо, не пускали, оттягивали назад. Он дернулся с болью и
проснулся. В сером рассвете чья-то забинтованная голова, как белый шар,
качалась над ним.
-- Чего тебе?-- спросил Третьяков и отвернулся: щеки его были мокры от
слез.
-- Кричал ты. Может, нужно что?
-- Ничего мне не нужно.
Он жалел, что его разбудили. Долго лежал так. Светало. В палатке
началась суета. Санитары срочно поили раненых горячим чаем, подбинтовывали,
проверяли повязки. Несколько раз, взволнованный, заходил врач. Что-то
готовилось. Наверное, отправка в тыл.
Снаружи, за пологом, когда его открывали, все было в росе. И они лежали
вровень с росой. Холодное солнце поднялось и стояло над лесом. Раненые
прислушивались к недальнему громыханию боя, шевелились беспокойно на соломе,
застеленной плащ-палатками.
Рядом с Третьяковым, спеленатый бинтами, сидел командир батареи
противотанковых пушек. Обеих рук у него не было выше локтей. Третьяков
чувствовал парной, железистый запах его крови, пропитавшей бинты в тех
местах, где кончались обрубки рук. Поддерживал комбата под спину боец его
батареи, тоже раненный в этом бою, поил чаем из кружки, кому-то рассказывал
за его спиной, как пошли на них немецкие танки, как все получилось.
-- Главное, он ведь портной был до войны,-- громко говорил боец, словно
бы без рук комбат теперь уже и не слышит, и кружкой не попадал ему в губы. А
тот сидел, ждал покорно.-- Как ему без рук? Без рук он и на хлеб себе не
заработает,-- все так же при нем, как без него, говорил боец.
Что-то кавказское или еврейское было в лице комбата: белый нос с
горбинкой, глаза навыкате, рыжеватые пониклые усы на бескровном лице. Отчима
оно напомнило Третьякову, только тот усов не носил.
Резко раздернули вход в палатку и, заслоня солнце, вместе с длинными
тенями, двинувшимися впереди них по земле, толпой вступили в палатку
несколько офицеров. Первым-- полковник в орденах. Из-за голов испуганно
выглядывал врач.
-- Здорово, орлы! А кто первым из вас в бою вскочил в немецкую
траншею?-- Молчание было некоторое время. Полковник ждал. Шелестом прошло по
раненым:
"Командир дивизии!.." У входа в палатку поднялся с соломы легкораненый
боец, молодой, бравый -- хоть под знамя ставь.
-- Я, товарищ полковник!
Командир дивизии оглядел его.
-- Молодец! Герой!
И только повернул назад тугую шею, а уже адъютант из ящичка, который
перед собой держал, подавал большую серебряную медаль "За отвагу". Она
покачивалась на колодке. Командир дивизии собственноручно приколол ее
солдату на грудь.
-- Заслужил! Носи!
Еще один поднялся, не такой бравый на вид. Под гимнастеркой, натянутой
поверх, прижата к животу согнутая в локте рука. И сам он весь над ней
согнулся.
-- Я тоже, товарищ полковник...
И ему прикрепили медаль на гимнастерку. Больше никто встать не решился.
Только слабый чей-то голос спросил из угла:
-- Станцию самою взяли, товарищ полковник? Как ее, станцию эту?..
-- Взяли, взяли, орлы! Выздоравливайте. Медицина у нас хорошая, всех,
кто способен, вернет в строй!..
И так же стремительно вышел. За ним толпой -- остальные. Последним
догонял врач, оглядывался на раненых строго.
 Нескончаемо скользила земля под насыпью, сизая пряжа паровозного дыма
повисала на телеграфных проводах, кружили, кружили, исчезая, возникая вновь,
осенние перелески. И засыпал он под скрип вагона, под стуканье, толчки колес
внизу и просыпался-- все так же расстилает ветром по жнивью паровозный дым,
поворачиваются поля, и под осенним пронзительно-синим небом маячит лес
вдали, ярко-желтый, когда упадет на него солнце.
Где-то на севере снег, наверное, уже выпал: холодом наносило в дверь
вагона. А здесь, сколько едут, все так же прощально греет солнце эту осеннюю
землю, по которой дважды прокатилась война и в ту и в эту сторону.
Проснулся он-- санлетучка стоит в поле. Тишина. Дверь вагона откатили,
в проеме, свесив босые ноги на ветерок, сидит на полу боец в галифе, в
бязевой рубашке с оторванным левым рукавом. Руку разбинтовал, нагнув над ней
стриженую голову, выбирает из раны червей тоненькой щепочкой. Другой боец
стоит внизу, смотрит внимательно, сматывает бинт. Еще один подошел,
прохрустев костылями по осыпающейся щебенке:
-- На что ты их выбираешь? Они полезные, рану очищают.
-- Ага... Знаешь, как под повязкой щекотят! Тонко засвистел паровоз в
голове состава. В открытую дверь полезли раненые, совали внутрь по полу
костыли, кто-то прыгал снаружи, схватясь руками. Его втянули в вагон.
И опять скользит земля под насыпью, садится дым на провода. Тишина в
полях.
С верхних нар Третьяков смотрел, смотрел на эту осеннюю красоту мира,
которую мог бы уже не увидать. Ненамного хватило его в этот раз, на один бой
и то не до конца. А на душе спокойно. Сколько же это надо народу, если война
длится третий год и одному человеку в ней так мало отмеряно?.. Перед
училищем он все же год пробыл на фронте, и ранило его тогда по глупости: не
ранило, ушибло. Конечно, тот Северо-Западный фронт, где все велись бои
местного значения, не равнять с этим. Но и там убивало, много там осталось в
болотах, в тех сырых, заболоченных лесах.
Паровоз потянул на подъем, дым снаружи стал угольно-черный. Живой
колышущейся тенью занавесило солнце в вагоне. Сквозь тяжкое, как из туннеля,
пыхтение паровоза доносился с нижних нар чей-то веселый голос. Временами его
забивал перестук колес, скрип вагонного дерева. А то вдруг голос слышней
становился:
-- ...Они рубашки поскидали, вшей на них!.. Расстелили на столе, сидят
друг перед другом, каждый на своей ногтем давит: "Айн рус капут! Цвай рус
капут!.." Обхохочешься с печи глядеть. И сами смеются.
Рассказывал тот парень, который недавно щепочкой вынимал червей из
раны, Третьяков по голосу узнал.
Одолев подъем, паровоз тяжко выдохнул из себя долгий гудок, опять стал
слышен голос под нарами:
-- ...Бой... Да никакого боя не было! Наши с вечера отошли, склад
запалили, бабы всю ночь растаскивали, кому что досталось. Утром они входят.
Я как раз на крыльце сидел, лепешку молоком запивал. Гляжу-- едут на
велосипедах. Жара, едут в одних трусах. Сапоги только и автоматы на голых
шеях висят-- во война! Я уж большой был, испугался, убежал в хату. Пацаны
после рассказывали, они бегали глядеть: эти выезжают на плотину за деревней,
а по оврагу два красноармейца идут, песни орут: оба пьяным-пьяны. И еще в
карманах по бутылке. Эти сразу автоматы наставили: "Рус, хенде хох!" Они и
подняли руки.
Под покачивание и скрип дерева голос то громче слышался, то выпадал, и
в какой-то момент Третьяков, слабый от потери крови, провалился в сон.
Он увидел себя под мостом: лежал в траве, затаясь за огромным камнем, а
по мосту ехали немцы на мотоциклах.
Он слышал треск и выхлопы мотоциклов, видел, как шевелятся над ним
бревна настила.
Стихло... Выглянул из-за камня. Впереди-- сухое русло оврага, кусты. И
вдруг почувствовал -- не увидел, лопатками, спиной почувствовал на себе
взгляд. Обернулся-- немец. Стоит наверху, смотрит на него. Без шапки, мундир
на потной груди расстегнут, из пыльного голенища торчит запасной магазин
автомата. Не слезая с велосипеда, только повалив его себе на ногу, немец на
верху оврага следил, как он вылезает на свет из-под моста. Враз обессиленный
жутким сознанием непоправимости случившегося, он, не разогнувшись, снизу
вверх смотрел на немца, а мысль металась загнанно; только что все было
по-другому, и уже не изменишь, не исправишь ничего. Немец снимал с потной
шеи автомат, помаргивал белыми ресницами. И, чувствуя, как отнялись ноги под
наставленным дулом, он дернулся, крикнул и от своего крика проснулся.
Лежал, оглушаемый толчками крови в ушах, еще не веря себе, что жив.
Почему во сне всегда так страшно бывает? Ни разу в бою не было ему так
страшно, как приснится потом. И всегда во сне ты бессилен перед
надвигающимся.
Несколько дней спустя из окна санитарного поезда, из простынь, под
мягкое покачивание рессор, увидел он из тепла мелькнувший за стеклом,
прибитый заморозком, еще не опавший сад. И ясно вспомнилось-- даже запах
почувствовал холодных осенних яблок,-- как они всем классом ездили в
подсобное хозяйство. На мокрой от росы желтой листве стояли старые корявые
деревья, яблоки на них были ледяные, из кучи листьев подымался горьковатый
дымок костра, ветром разносило его по саду.
А когда среди дня из серых туч повалил снег с дождем и стало темно, они
собрались в сторожке при огне, озябшими красными руками выхватывали горячие
картофелины из чугуна, стоявшего на столе, макали в соль. И молоко, налитое
в кружки...
Все это так давно было, словно в другой жизни.
Нескончаемо скользила земля под насыпью, сизая пряжа паровозного дыма
повисала на телеграфных проводах, кружили, кружили, исчезая, возникая вновь,
осенние перелески. И засыпал он под скрип вагона, под стуканье, толчки колес
внизу и просыпался-- все так же расстилает ветром по жнивью паровозный дым,
поворачиваются поля, и под осенним пронзительно-синим небом маячит лес
вдали, ярко-желтый, когда упадет на него солнце.
Где-то на севере снег, наверное, уже выпал: холодом наносило в дверь
вагона. А здесь, сколько едут, все так же прощально греет солнце эту осеннюю
землю, по которой дважды прокатилась война и в ту и в эту сторону.
Проснулся он-- санлетучка стоит в поле. Тишина. Дверь вагона откатили,
в проеме, свесив босые ноги на ветерок, сидит на полу боец в галифе, в
бязевой рубашке с оторванным левым рукавом. Руку разбинтовал, нагнув над ней
стриженую голову, выбирает из раны червей тоненькой щепочкой. Другой боец
стоит внизу, смотрит внимательно, сматывает бинт. Еще один подошел,
прохрустев костылями по осыпающейся щебенке:
-- На что ты их выбираешь? Они полезные, рану очищают.
-- Ага... Знаешь, как под повязкой щекотят! Тонко засвистел паровоз в
голове состава. В открытую дверь полезли раненые, совали внутрь по полу
костыли, кто-то прыгал снаружи, схватясь руками. Его втянули в вагон.
И опять скользит земля под насыпью, садится дым на провода. Тишина в
полях.
С верхних нар Третьяков смотрел, смотрел на эту осеннюю красоту мира,
которую мог бы уже не увидать. Ненамного хватило его в этот раз, на один бой
и то не до конца. А на душе спокойно. Сколько же это надо народу, если война
длится третий год и одному человеку в ней так мало отмеряно?.. Перед
училищем он все же год пробыл на фронте, и ранило его тогда по глупости: не
ранило, ушибло. Конечно, тот Северо-Западный фронт, где все велись бои
местного значения, не равнять с этим. Но и там убивало, много там осталось в
болотах, в тех сырых, заболоченных лесах.
Паровоз потянул на подъем, дым снаружи стал угольно-черный. Живой
колышущейся тенью занавесило солнце в вагоне. Сквозь тяжкое, как из туннеля,
пыхтение паровоза доносился с нижних нар чей-то веселый голос. Временами его
забивал перестук колес, скрип вагонного дерева. А то вдруг голос слышней
становился:
-- ...Они рубашки поскидали, вшей на них!.. Расстелили на столе, сидят
друг перед другом, каждый на своей ногтем давит: "Айн рус капут! Цвай рус
капут!.." Обхохочешься с печи глядеть. И сами смеются.
Рассказывал тот парень, который недавно щепочкой вынимал червей из
раны, Третьяков по голосу узнал.
Одолев подъем, паровоз тяжко выдохнул из себя долгий гудок, опять стал
слышен голос под нарами:
-- ...Бой... Да никакого боя не было! Наши с вечера отошли, склад
запалили, бабы всю ночь растаскивали, кому что досталось. Утром они входят.
Я как раз на крыльце сидел, лепешку молоком запивал. Гляжу-- едут на
велосипедах. Жара, едут в одних трусах. Сапоги только и автоматы на голых
шеях висят-- во война! Я уж большой был, испугался, убежал в хату. Пацаны
после рассказывали, они бегали глядеть: эти выезжают на плотину за деревней,
а по оврагу два красноармейца идут, песни орут: оба пьяным-пьяны. И еще в
карманах по бутылке. Эти сразу автоматы наставили: "Рус, хенде хох!" Они и
подняли руки.
Под покачивание и скрип дерева голос то громче слышался, то выпадал, и
в какой-то момент Третьяков, слабый от потери крови, провалился в сон.
Он увидел себя под мостом: лежал в траве, затаясь за огромным камнем, а
по мосту ехали немцы на мотоциклах.
Он слышал треск и выхлопы мотоциклов, видел, как шевелятся над ним
бревна настила.
Стихло... Выглянул из-за камня. Впереди-- сухое русло оврага, кусты. И
вдруг почувствовал -- не увидел, лопатками, спиной почувствовал на себе
взгляд. Обернулся-- немец. Стоит наверху, смотрит на него. Без шапки, мундир
на потной груди расстегнут, из пыльного голенища торчит запасной магазин
автомата. Не слезая с велосипеда, только повалив его себе на ногу, немец на
верху оврага следил, как он вылезает на свет из-под моста. Враз обессиленный
жутким сознанием непоправимости случившегося, он, не разогнувшись, снизу
вверх смотрел на немца, а мысль металась загнанно; только что все было
по-другому, и уже не изменишь, не исправишь ничего. Немец снимал с потной
шеи автомат, помаргивал белыми ресницами. И, чувствуя, как отнялись ноги под
наставленным дулом, он дернулся, крикнул и от своего крика проснулся.
Лежал, оглушаемый толчками крови в ушах, еще не веря себе, что жив.
Почему во сне всегда так страшно бывает? Ни разу в бою не было ему так
страшно, как приснится потом. И всегда во сне ты бессилен перед
надвигающимся.
Несколько дней спустя из окна санитарного поезда, из простынь, под
мягкое покачивание рессор, увидел он из тепла мелькнувший за стеклом,
прибитый заморозком, еще не опавший сад. И ясно вспомнилось-- даже запах
почувствовал холодных осенних яблок,-- как они всем классом ездили в
подсобное хозяйство. На мокрой от росы желтой листве стояли старые корявые
деревья, яблоки на них были ледяные, из кучи листьев подымался горьковатый
дымок костра, ветром разносило его по саду.
А когда среди дня из серых туч повалил снег с дождем и стало темно, они
собрались в сторожке при огне, озябшими красными руками выхватывали горячие
картофелины из чугуна, стоявшего на столе, макали в соль. И молоко, налитое
в кружки...
Все это так давно было, словно в другой жизни.
 Здесь уже легла ранняя уральская зима. И таким белым был по утрам свет
снега на потолке палаты, а солнце искрилось в мокрых стеклах, с которых
обтаивал лед. Однажды раненые взломали заклеенное окно, сгрудились в нем,
хлопали в ладоши, кричали сверху, били костылями по жести подоконника:
-- Дорожную давай!
Внизу, во дворе, у пригретой солнцем кирпичной стены бывшей школы, а
теперь у госпиталя, школьный струнный оркестр на прощание выступал перед
теми, кто вновь отправлялся на фронт.
-- Дорожную давай!-- кричали из окна. Третьяков еще не ходил, но и на
другом конце палаты хорошо было ему слышно, как в несколько мандолин и
балалаек дернули во дворе понравившийся мотив. И молодой, радостный голос
звучно раздавался на морозе:
Не скучай, не горюй, Посылай поцелуй у порога...
Слепой капитан Ройзман шел на свет к окну, хватаясь за спинки кроватей,
опрокидывая табуретки по дороге.
Широка и светла Перед нами легла путь-дорога-а...
Три раза подряд исполняли внизу все ту же песню. Никакую другую раненые
не хотели слушать: понравилась эта, вновь и вновь требовали ее. И опять
ударяли по струнам и, радуясь своей молодости, звучности, силе, высоко
взлетал над всеми голосами чистый девчоночий голос:
Не скучай, не горюй...
Набежали в палату сестры, захлопнули окно, распихали раненых по
кроватям:
-- С ума посходили! На дворе мороз, воспаления легких захотелось?
В тот же день прихромал на протезе одноногий санитар. Когда-то и он
отлежал здесь свой срок, выписался, а ехать некуда: дом его и вся их
местность под немцами; так в госпитале и прижился. Он гвоздями накрепко
забил окно, чтоб уж не раскрыли до весны: тепло тут берегли. Но до самого
вечера все летал по палате этот мотив: один забудет, другой мурлыкает,
ходит, сам себе улыбается. А в углу, поджав ноги, как мусульманин, сидел на
своей койке Гоша, младший лейтенант, тряс колодой карт, звал сыграть с ним в
очко.
По годам почти такой же, как эти школьники, успел он в своей жизни
только доехать до фронта. Здесь эшелон попал под бомбежку, контуженного,
увезли Гошу в госпиталь. Но он опять сбежал на фронт и попал уже не под
бомбежку, а под артналет. В себя пришел он в госпитале. Врачи говорили, что
это прежняя его контузия отдалась. А может быть, контузило вновь. Сам Гоша
ничего толком ни разу не рассказал: начинал волноваться, заикался так, что
слова промычать не мог, только сотрясался весь, как всхлипывал.
Каждый день с утра он уже сидел посреди кровати с колодой карт: ждал,
кто сыграет с ним в очко. И вся вдаль угадывалась его судьба. Видел
Третьяков таких ребят на базарах, у пивных, когда случалось в училище
получить увольнительную: сидели безногие на земле, играли в "колечко",
"веревочку", что-то меняли из-за пазухи, жили одним днем. Или, зажав в синих
култышках рук вскрытую пачку папирос, тряслись на морозе, торговали
поштучно. Оттого-то врачи не спешили выписывать Гошу.
А видно было по всему, что парень он геройский и рвался на фронт подвиг
совершить, но не выпало ему ни совершить ничего, ни погибнуть с честью.
По пятницам мимо госпиталя гнали в баню курсантов пехотного училища. Из
бани возвращались с песней. Над колышущимся строем, над паром от
серошинельных спин, от мокрых веников, дрожал не набравший мужества ломкий
на морозе голос запевалы:
Там, где пехота не пройдет, Где бронепоезд не промчится, Угрюмый танк
не проползет...
Хруп, хруп-- сапоги по снегу. Ожидающая тишина. Один над всеми в
середине строя-- голос запевалы, страшно за него: вот-вот не хватит дыхания,
обронит песню. А он на последнем взлете и себя не щадит:
Там пролетит сталь-на-я пти-ца-а...
Как отрубив, заглушая шаг, лихо рявкали курсантские голоса кем-то
присочиненный припев:
Прощай, Маруся, дорогая,
Я не забуду твои ласки.
И, может быть, в последний раз
Смотрю я в голубые глазки.
И снова на морозе звон-хруст кованых сапог, пар изо ртов, пар над
ушанками. А снежная улица пуста, широка, запертые ворота обмело снежком,
белые дровяные дымы стоят над печными трубами, и некому в окна глядеть, как
они идут и поют: война, кто не на фронте, работает для фронта по двенадцать
часов. Разве что присунется к стеклу старушечье лицо в платочке, слепо
смотрят вслед выцветшие глаза.
Мороз поджимает, курсанты идут быстро. Не шинелька греет сейчас, а
песня и шаг: хруп-хруп, хруст-хруст. За строем, как воробьята,-- ребятишки,
забегают с боков поглядеть, им бы тоже-- в ногу! в ногу! Да раненые в окнах
госпиталя улыбаются, словно в прошлое на самих себя глядя.
Через полмесяца, когда окреп, сделали Третьякову еще одну операцию:
вынули из руки мелкие осколки, сшили нерв и завернули его в целлофан. "Как
конфетку тебе его завернули",-- сказал хирург.
Операцию делали под местным наркозом, а на ночь, когда самая боль
должна была начаться, оставили сестре для него ампулу морфия. Почти до утра
проходил он по коридору, но укола делать себе не дал. В их офицерской палате
лежал старший лейтенант, тоже артиллерист, кости рук у него были перебиты
разрывными пулями. Пока его трясли в санлетучке, везли в санитарном поезде,
кололи ему морфий, чтобы спал и давал спать другим. И теперь он выпрашивал
морфий у сестер, выменивал, врал, клянчил униженно. Насмотревшись, Третьяков
решил лучше терпеть, чем вот в такого превратиться, хоть сестры и смеялись
над ним, говорили, что от одного укола морфинистом не становятся.
Под утро, пожалев, налили ему полстакана спирту, он выпил, лег, навалил
подушку на голову и спал оглушенный. Снилось ему, будто слышит он голос, тот
самый голос, что пел во дворе "Не скучай, не горюй...". И хорошо ему было
слушать, как она говорит над ним, и боялся проснуться. А проснулся и не
знал, спит он или не спит: голос был слышен, не исчез. Он осторожно сдвинул
подушку. Белый свет снега в палате, белые ветки качаются за окном, и такая
во всем ясность, как бывает после бессонной ночи. А через две койки спиной к
нему сидит девочка в белом халате, косы до табуретки. Валенки на ней
солдатские, серые, подшитые толсто. Косы шевельнулись на спине, она
повернула голову -- на миг увидел ее взволнованно блестевший глаз.
На койке, около которой она сидела,-- капитан с орденом Красного
Знамени. Единственный в их палате, он держал орден не под подушкой, а носил
его привинченным к нательной рубашке под халатом, так и ходил с ним. Был он
уже не молод и ранен тяжело: осколок мины остался у него в мозгу. От врачей
знали, что может он и жизнь прожить с этим осколком, но может в любой момент
внезапно умереть. У него бывали такие приступы головной боли, что он ложился
пластом и лежал, весь белый.
В палате постукивали костяшки домино, забивали "козла" на обеденном
столе. Шаркал туфлями по полу, натыкался на койки слепой капитан Ройзман.
Девочка говорила тихо, Третьяков не все разбирал:
-- Простить себе не могу... не понимала совершенно... И страшно
нервничает. "Ты что забыла?" Тут только поняла, ведь у него всего полчаса
осталось... Курил одну папиросу за другой... сказать хотел... Прибегаю, все
наши давно на перроне...
Третьякову показалось на слух, что она повернулась в его сторону.
-- Он спит,-- сказал капитан.-- Ему вечером делали операцию.
И обидно вдруг стало, что она даже не спросила ничего, что он для нее
только помеха в разговоре.
Кровать резко толкнуло: это Ройзман наткнулся боком. Опять зашаркали
шаги, отдаляясь. Она заговорила тише:
-- А потом, когда раздались свисток и гудок, мать бросилась целовать
его. Как она его целовала! В шею, в затылок, в голову... Я только тогда
почувствовала, только тогда поняла, что это такое. Мне было приятно, что он
пришел, а у меня волосы распущены по плечам. А он умирать ехал.
Третьякову хотелось увидеть ее лицо, но видел косы на халате, большие
серые валенки под табуретом. Вдруг вспомнил, где он эти валенки видел
однажды. Их санитарный поезд стоял у перрона, лежачих выносили на носилках,
ходячих под руку вел санитар. И вот, когда сводили его со ступенек, из-под
вагона вылезли двое: девочка, вся замотанная платком-- мороз был сильный,--
и парнишка в черной кожаной ушанке. Они оглядывались, не видит ли их кто,--
оба радостные, удачливые, и полное ведро чадящего непрогорелого угля было
при них: на путях собирали. И он заметил валенки солдатские на ней, точно
такие, огромные. Может быть, это она и была?
-- Ребята,-- позвал Ройзман. Подняв руку-- серый фланелевый рукав
халата опал вниз,-- он ощупывал край окна.-- Это окно, да?
Перестали стучать костяшками домино. Темный против света, Ройзман
трогал стекло, трогал раму. Глаза его, ничуть нигде не поврежденные, ясные и
незрячие, растерянно оглядывали палату, глядели мимо всех.
-- Свет отличаю. Вот... Вот он...
И дрожащей рукой ловил свет в стекле.
Из коридора вблизи перевязочной, где холодом веяло от стекол, были
видны вдаль железнодорожные пути, вокзал, белые от мороза окна. Когда-то в
простоте душевной он думал, глядя на вокзальные окна, огромные, как ворота,
что через них и вышел ночью погулять тот паровоз из детского стишка: "Дверь
толкнул стальною грудью, вышел, а кругом безлюдье, даже стрелочник заснул,
пододвинув к печке стул..."
Было ему тогда года четыре, и отец еще был с ними. Отец сказал ему не
спать, стеречь вещи, а сам вместе с матерью ушел куда-то. И он сидел на
чемодане среди спавших вповалку людей, и представлялось ему, как задремал
стрелочник в углу, у печки, как паровоз толкнул окно стальной грудью...
Вернулся отец, взял вещи, взял его за руку, и они пришли в большой зал.
Все здесь сверкало при электрическом свете, множество людей весело
разговаривали за накрытыми столами, папиросный дым подымался к потолку, и
среди этого шума и праздника сидела мама, одна за накрытым белой скатертью
столом, ждала их. Все было невиданное, не такое, как дома. Впервые они
обедали среди ночи, и обед подавала не мама, а пришел человек с полотенцем
на руке, отец говорил ему, он все записывал и был очень доволен. Поразило,
как быстро здесь готовят. Мама, бывало, полдня стоит у примуса, а этот
человек ушел и сразу все приготовил и принес.
Потом они ехали на телеге, и близко над лицом качались звезды. И мир
был беспределен. Что-- космос, иные миры!.. Беспределен только один мир:
детство. И жили в этом мире бессмертные люди: он, мама, отец. А Ляльки тогда
еще не было на свете.
Когда вот так метет и мороз, он всякий раз об отце думает. Последнюю
посылку мать отправляла отцу перед самой войной, а последнее письмо от отца,
оттуда, было еще раньше.
То, что у матери есть муж, когда отец-- там, что вообще кто-то, кроме
отца, может быть ее мужем, этого он не мог ей простить. И не мог видеть, как
она заботится о Безайце, как временами смотрит на него. Бессознательно он
отыскивал в ее муже все самое неприятное и никогда никак не называл его:
"Вас к телефону... Вам там письмо..." Но чаще действовал через Ляльку: "Его
там спрашивают, скажи ему..."
Лялька, маленькая дурочка, она и к Безайцу привязалась, она и отца
помнила. Однажды он видел, как она крошками печенья кормила фотографию отца:
сидит на полу за кроватью, шепчет что-то и крошки эти подносит к фотографии,
к губам.
Из них троих он один оставил себе фамилию отца:
Третьяков. И все отцовские фотографии, даже те, на которых мать рядом с
отцом, выкрал у нее. Все они теперь-- и Лялькины письма к нему в училище, и
материны письма,-- все это вместе с полевой сумкой осталось на огневой
позиции батареи в фургоне старшины. Он ещЈ подумал, когда его увозили: "Но я
же вернусь в полк..." Как будто на войне можно загадывать вперед.
По коридору от окна к окну переходил хромой санитар. Постоит,
примерится, вынет гвоздик из-под усов, потихоньку постукивая, вобьет в
подоконник сбоку. Опять посмотрит, постоит и-- подвесит на гвоздь бутылку.
Потом, уминая негнущимися пальцами, долго прокладывает по подоконнику фитиль
из стираного бинта, чтобы вода, натаявшая со стекол, текла не на пол, а по
фитилю сбегала в бутылку. Он свое отвоевал, ему этой тихой работы в тепле
теперь до конца войны хватит.
Когда-то мама вот так зимой подвешивала бутылки к подоконникам. Утрами
стекла высоко обмерзали, бывало, он нагреет в ладонях большой медный пятак,
впаяет в лед. Нагреет еще раз, притиснет: орел-решка, орел-решка. И тают на
солнце его ледяные пятаки, стекают со стекол. Исчезнувший мир. Все довоенное
сейчас, как исчезнувший мир.
Недавно лежал он в палате и вспомнилось: осень, он сидит в классе у
окна, смотрит со второго этажа на улицу. Там узкоколейка к маслозаводу, а
рядом с насыпью-- огромная куча подсолнуховых семечек. На ней лежат парни и
девчата в стеганых ватниках, греются, подставив лица холодному солнцу. А
машинист паровика в окне буд-ки, как в раме, смотрит на них, проезжая мимо.
Потянул за веревку, белый пар рванулся из свистка. И словно разбуженные,
стали перекатываться друг по другу парни и девчата, обхватываясь ватными
рукавами и смеясь... Все это было в исчезнувшем мире. Может быть, никого из
них сейчас нет в живых: ни парней тех, ни машиниста, который проезжал мимо и
смотрел.
Из дверей вокзала на снежный перрон повалил вдруг народ, все
закутанные, обвязанные до глаз. Мороз сильный, все серо: и воздух и снег
серый. Только намерзший на стекла лед просвечивал краснинкой. Не знать
времени, не догадаешься, восходит солнце или садится: растекшееся, оно
светило из-за серой мглы, не слепило, светило без лучей.
Весь в пару надвинулся к перрону поезд. Обындеве-лые крыши вагонов,
натеки льда с крыш, белые слепые окна. И словно это он нанес с собой ветер,
помело с крыши вокзала, закружило. В снежном вихре, в пару метались люди от
дверей к дверям, бежали вдоль состава.
Каждый раз вот так бегают с вещами, с детишками, а везде все закрыто,
ни в один вагон не пускают.
Санитар, стоявший рядом, тоже смотрел. Осторожно выплюнул гвозди в
горсть.
-- Вот бы Гитлера сюда этого! Сам-то он в тепле сидит. А народу такие
мучения принимать... Да с детишками...
И зябко ежился, будто и его тут мороз пронял. Глупым показался
Третьякову этот разговор. Срывая на санитаре зло, потому что ему тоже было
жаль метавшихся по морозу баб, которых гнали от поезда, сказал:
-- Что ж, по-твоему, захотел какой-то Гитлер-- и война началась?
Захотел-- кончилась?
И сам от своего командирского голоса распрямился под халатом.
Санитар враз поскучнел, безликим сделался.
-- Не я ж захотел,-- бормотал он себе под нос, переходя к другому
окну.-- Или мне моя нога лишней оказалась?
Третьяков посмотрел ему вслед, на один его сапог и на деревяшку. Что
ему объяснишь? Не приставишь оторванную ногу и не объяснишь. А самое
главное, что он и себе не все уже мог объяснить. В школе, со слов учителей,
он знал и успешно отвечал на отметку, почему и как возникают войны. И
неизбежность их при определенных условиях тоже была объяснима и проста. Но в
том, что он повидал за эти годы, не было легких объяснений. Ведь сколько раз
бывало уже -- кончались войны, и те самые народы, которые только что
истребляли друг друга с такой яростью, как будто вместе им нет жизни на
земле, эти самые народы жили потом мирно и ненависти никакой не чувствовали
друг к другу. Так что же, способа нет иного прийти к этому, как только убив
миллионы людей? Какая надобность не для кого-то, а для самой жизни в том,
чтобы люди, батальонами, полками, ротами погруженные в эшелоны, спешили,
мчались, терпя в дороге голод и многие лишения, шли скорым пешим маршем, а
потом эти же люди валялись по всему полю, порезанные пулеметами, разметанные
взрывами, и даже ни убрать их нельзя, ни похоронить?
Мы отражаем нашествие. Не мы начали войну, немцы на нашу землю пришли--
убивать нас и уничтожать. Но они зачем шли? Жили-жили, и вдруг для них иная
жизнь стала невозможна, как только уничтожив нас? Если б еще только по
приказу, но ведь упорно воюют. Фашисты убедили? Какое же это убеждение? В
чем?
Трава родится и с неизбежностью отмирает, и на удобренной ею земле гуще
растет трава. Но ведь не для того живет человек на свете, чтобы удобрить
собою землю. И какая надобность жизни в том, чтобы столько искалеченных
людей мучилось по госпиталям?
Конечно, не один кто-то движет историю своей волей. Просто людям так
легче представить непонятное: либо независимо от них совершается, либо
кто-то один направляет, кому ведомо то, что им, простым смертным,
недоступно. А происходит все не так и не так. И бывает, что даже всех
совместных человеческих усилий мало, чтобы двинулась история по этому, а не
по другому пути.
Еще до войны прочел он поразившую его вещь: оказывается, нашествие
Чингисхана предварял целый ряд особо благоприятных лет. Шли в срок дожди,
небывало росли травы, плодились несметные табуны, и все вместе это тоже дало
силу нашествию. Быть может, разразись над этим краем многолетняя засуха, а
не сойдись все так благоприятно, и не обрушилось бы страшное бедствие на
народы в других краях. И история многих народов пошла бы по-другому.
На фронте воюет солдат, и ни на что другое не остается сил.
Сворачиваешь папироску и не знаешь, суждено ли тебе ее докурить; ты так
хорошо расположился душой, а он прилетит-- и накурился... Но здесь, в
госпитале, одна и та же мысль не давала покоя: неужели когда-нибудь
окажется, что этой войны могло не быть? Что в силах людей было предотвратить
это? И миллионы остались бы живы... Двигать историю по ее пути-- тут нужны
усилия всех, и многое должно сойтись. Но, чтобы скатить колесо истории с его
колеи, может быть, не так много и надо, может быть, достаточно камешек
подложить?
Когда уж оно скатилось и пошло с хрустом по людям, по костям, тут
выбора не оставлено, тут только одно: остановить, не дать ему и дальше
катиться по жизням людей. Но неужели могло этого не быть? Санитар сказал,
что думал, а в нем все расшевелилось заново. Только ни к чему это сейчас. Не
время и ни к чему. Сейчас война идет, война с фашистами, и нужно воевать.
Это единственное, что ни на кого другого не переложишь. А все равно думать
себе не запретишь, хоть и ни к чему это.
Люди по размерам события судят о его причинах: огромное событие,
значит, и причины такие, что не могло этого события не быть. А может, все
проще? Сделать доброе дело для всех людей, тут многое нужно. А напакостить в
истории способна даже самая поганая кошка.
Каждый из своего окна-- и санитар и он,-- смотрели, как тронулся поезд,
оставив народ у края платформы. Качало из стороны в сторону хвостовой вагон
с площадкой и дверью, от которой будто оторвана часть поезда. Устремившийся
следом снежный вихрь заметал все.
А все равно, сколько бы в этом клубке ни сплелось нитей, у каждого
человека там свое место, своя правота и своя вина. И можно распутать этот
клубок, можно. Всей жизни для этого не жаль. И уже сейчас хотелось с
кем-нибудь поговорить. Только с кем? Такой разговор не с каждым начнешь. Он
как-то заговорил со Стары-хом, тот глянул на него с таким усилием мысли, как
будто не только смысла слов, но и языка, на котором к нему обращались, не
понимал:
-- Чего-о?
Весь исковырянный, четырежды раненный, он сейчас для себя, кроме войны,
все как отрезал, чтобы душу не бередить зря.
Вот Атраковский-- другое дело. Но тот все молчит. И видел Третьяков,
молчит не оттого, что сказать нечего, а оттого, что не каждому и не все, что
знает, может сказать.
Дня два после того, как у кровати капитана Атраков-ского сидела девочка
с косами, оставались на полу следы ее валенок. Потом, широко возя мокрой
тряпкой, санитарка вымыла масленый пол, и он заблестел. Третьяков и сейчас
видит, как она уходила в своих подшитых валенках, в белом халате, стянутом в
талии пояском, как обернулась в дверях. Случайно и он попал в поле зрения ее
серых глаз, но никак в них не отразился.
С неясным для себя любопытством приглядывался он к капитану
Атраковскому. Тот давно уже лежал здесь, и школьники, приходившие в
госпиталь читать вслух книги, писать письма за тех, кто сам не мог по
ранению, знали его. Но как она рассказывала ему про себя! Может быть,
потому, что он уже старый?
В палате, как всегда после ужина, играли в шахматы, чтобы время убить.
Медленно тянется оно в госпитале, каждый вынужденно перебывает здесь часть
жизни: кто -- перед новой отправкой на фронт, а кто -- перед тем, что для
него настает отныне. Но и к этому неведомому стремятся: не временного
хочется уже, а определенности, хоть, может быть, здесь, в госпитале,
заканчиваются для кого-то из них и навсегда остаются позади лучшие, славные
годы его жизни.
Играли в шахматы командир роты Старых и слепой капитан Ройзман. Счет
партий у них перевалил уже за сотню, но Старых все не терял надежды
отыграться. Они сидели за столом друг против друга, а ходячие столпились
вокруг. Тут же и Атраковский стоял, придерживая халат рукой. Осторожно
прошелся по палате, будто боясь колыхнуть в себе боль, и опять остановился,
смотрит вместе со всеми, но чем-то отдельный ото всех. Знал Третьяков по
рассказам, что в сорок первом году попал Атраковский в плен, бежал, долго
проходил проверку. И в сорок втором году повезло ему попасть в окружение,
выходить оттуда. Раз уж после всего этого награжден орденом Красного
Знамени, что-то немалое совершил этот человек, таким людям давались награды
нелегко. А жизнь в нем еле-еле держалась, каждый день могла оборваться.
Когда уже лежали по кроватям, заговорили о ранениях-- кто, как, при
каких обстоятельствах был ранен, и Третьяков вспомнил вдруг:
-- А я знал, что меня в тот день ранит.
Он действительно подумал тогда, что его либо ранит, либо убьет, увидев
случайно, как в воздухе пулей сбило голубя на лету. На него это почему-то
подействовало как примета. Но потом забылось в бою, и вот сейчас только
вспомнил.
-- Как же это ты заранее знал?-- спросил Старых, не очень веря.
-- Знал.
Но о примете рассказывать не стал, побоялся, что засмеют.
-- Нет, я не знал,-- сказал Ройзман и вслед своим мыслям покивал
головой.
Третьяков представил как-то, что вот бы ему досталось, как Ройзману,
сутки с лишним слепому лежать в деревне, занятой немцами, слышать немецкую
речь вокруг себя и ждать каждую минуту, что сейчас тебя обнаружат. Даже не
видеть, спрятан ты или весь на виду... Не дай Бог так попасть.
-- Нет, я не знал,-- повторил опять Ройзман. И вдруг заспорили, может
ли это быть, чтобы человек всю войну воевал в пехоте и ни разу не ранен?
-- Значит, не в пехоте!-- зло рубил Старых, как будто от него от самого
что-то отнимали.
-- Здорово живешь... Да вот я!-- И Китенев, начальник разведки
стрелкового полка, стал посреди палаты, всего себя представляя на обозрение.
Он уже выздоравливал, дело шло к выписке, и на кровати его, помещавшейся
между кроватями Третьякова и Атраковского, иной раз до утра ночевала шинель,
уложенная под одеялом как спящий человек.-- С первого дня в пехоте, а ранен
впервые. И то случайно.
-- Значит, не в пехоте!
-- В пехоте!
-- Значит, не с первого дня!
-- А ты возьми мое личное дело.
-- Знаю...-- отмахнулся Старых.-- Мое личное дело все на мне. Все мое
прохождение на моей шкуре записано, вон она-- вся в дырах,-- и он ткнул
пальцем в спину себе, в плечи,-- этот раз, если б каску на голову не
надел...
Замычал что-то, пытался сказать Гоша, младший лейтенант. Сидя посреди
кровати под одной из двух ламп, свисавших с потолка, от которых все тени
были вниз, он заикался так, что подсигивал на сетке. Все мучительно ждали,
опустив глаза. Про себя каждый мысленно помогал ему, от этого и сам вроде бы
начинал заикаться.
-- Да обожди ты!-- крикнул Старых, махнув на него рукой.-- Немец-- это
я поверю: с начала войны и не ранен. Немец в каске ест, в каске спать
ложится. Он ее как надел по приказу, так с головы не сымает. А наш рус
Иван...-- и с полнейшей безнадежностью махнул рукой. Но в том и гордость
была "рус Иваном", который хоть вроде бы и делает себе хуже, зато уж воюет,
не мудря.-- Я, например, до этого госпиталя раненных в голову вообще не
видал. Где, мол, они, в голову раненные? А они все на поле остались, там и
лежат. Вон она как мне обчертила.
Старых сел, свесив гипсовую ногу и обвел пальцем вокруг своей
наклоненной головы, лысой смолоду. Он в самом деле был ранен чудно: пуля,
закрутившись под каской, словно скальп с него снимала, прорезала след вокруг
всей головы. Ровный шрам вылег на лбу.
-- Мне, главное, то обидно, через подлюгу мог бы уже в земле сгнить.
Нам на пополнение этих пригнали... Ну, этих... Из освобожденных местностей.
Зовет меня мой связной: "Глядите, товарищ старший лейтенант, опять этот руку
из окопа выставил..." Он всю войну с бабой на печке спасался, освободили
его, так он и тут воевать не желает. И ведь на что хитер: знает,
самострелы-- в левую, так он правую руку выставил над окопом, ждет, пока
немец ему... Нет, обожди, я тебе щас не в руку, я тебе щас черепок твой
поганый расколю! Взял винтовку, приложился уже... И вот как под локоть
толкнуло! "Дай, говорю, каску". Всю войну, поверишь, ни разу не надевал, а
тут вот как что-то сказало мне. Взял у связного с головы, только высунулся и
прямо мне-- в лоб! -- Старых крепко ткнул себе в лоб пальцем.-- Снайпер, не
иначе. А был бы я без каски...
-- Это он тебе в лысину целил, чтоб не отсвечивала,-- смеялся
Китенев.-- Он тебя за командующего принял.
-- А я тоже однажды из-за снайпера чуть под членовредительство не
попал,-- сказал Третьяков. И пока не перебили, начал быстро рассказывать,
как на Северо-Западном фронте послали его с донесением с батарейного НП и по
дороге снайпер чуть не положил его.
-- У нас там оборона давно стояла, снайпера и с нашей и с ихней стороны
действовали. Иду, день ясный, солнце, снег отсвечивает... Фьють-- пуля. Лег.
Только шевельнулся -- фьють !
-- Такой и снайпер!-- Старых махнул на него рукой, словно Третьякову
теперь вообще следовало помолчать.
-- Так ведь не на передовой.
-- Два раза стрелял, а он жив. Снайпер... Но Третьякова поддержали:
-- Снайпера тоже когда-то учатся.
-- Вот он на мне и учился. И место такое: везде снег глубокий, а тут
ветрами обдуло. И сосна позади меня. Как раз в створе получаюсь, ему легко
целиться. Час прошел-- лежу. Чувствую: пропадаю. Мороз не такой большой, но
потный был, пока по снегу шел. И-- в сапогах.
Старых слушал презрительно, как ненастоящее. В нем самом нетерпение:
рассказать.
-- Дождался, пока солнце на эту сторону перешло, в глаза ему засветило,
вскочил, побежал. В дивизион являюсь, губы заледенели, слова не
выговаривают.
-- Снайпер... Таких снайперов... Но Китенев заступился:
-- Дай человеку рассказать!
-- Снайпер... Х-ха!
-- А в дивизионе, конечно, своего связного гонять не стали, пакет мне в
руки, шагом марш в штаб полка. Штаб полка в деревне Кипино стоял. Ночь уже.
Днем просто по проводам, а ночью где штаб?
Ощупывая рукой спинки кроватей, подошел Ройзман, сел:
-- Вы в какой армии были?
-- В тридцать четвертой.
-- Ну да, вы с этой стороны действовали: Дворец, Лычково...
Неловко становилось Третьякову всякий раз, когда капитан Ройзман
смотрел на него вот так своими ясными, будто зрячими глазами и-- не узнавал:
ведь Ройзман у них в училище преподавал артиллерию, к доске вызывал его не
однажды. А теперь даже по голосу не узнает. Но сказать ему почему-то
Третьяков не решался.
-- Тридцать четвертая,-- Ройзман покивал,-- генерал Берзарин. Все
правильно...
И словно тем удостоверил наперед, слушали уже Третьякова, не прерывая.
-- Там как раз в Кипино десант готовился: аэросани вдоль всей улицы
стоят, моторы работают. И десантники все в белых маскхалатах. Я еще
позавидовал этим ребятам... Из них потом, между прочим, почти никто не
вернулся, говорили, будто немец знал, что десант готовится. Не знаю. А тогда
они стояли на снегу, иду мимо, вихрь в спину толкает. И у одних аэросаней
позади дрожит лучик света. Там-- пропеллер, а мне почему-то подумалось, что
вокруг пропеллера должно быть еще ограждение. Так ясно представилось:
никелированное. Просто увидал. Я до этих пор ни разу аэросани вблизи не
видел. Потом-то я догадался: дверь дома неплотно была прикрыта, свет
проникал, пропеллер вращается, перерубает его концом. А мне это ограждение
представилось, иду смело. Ка-ак рубанет мне по локтю! Аж дыхание
перехватило. Присел-- и молчком, молчком от него, на корточках. Между
прочим, все мне по этому локтю попадает.
-- Что ж он, пропеллер, и руку тебе не отрубил? Старых со своей
догадкой в глазах обернулся ко всем.
-- Так мне самым кончиком попало.
-- Ин-те-рес-но!..
-- И потом на мне была шинель, под шинелью-- телогрейка, под ней--
гимнастерка. Да еще фланелевая теплая рубашка, а под рубашкой-- еще рубашка.
-- Вот вшам раздолье,-- сказал Китенев.
-- Мы их на Северо-Западном фронте вообще не считали. Даже не били по
одной. Есть возможность, скинешь нательную рубашку,-- какое-то время жить
можно.-- Третьяков повернулся к Старыху.-- А так бы он, конечно, руку мне
отрубил! Я пришел в штаб, под локоть ее несу, пакет отдал, а рассказать
стыдно, не поверят еще...
-- И я бы не поверил! -- гордо припечатал Старых.-- Какое-то
ограждение, черт те чего...
Сразу в несколько голосов заспорили:
-- Что ж он, сам ее подсунул?
-- По миллиметрам рассчитал?
-- А я не обязан знать. Х-ха-- никелированное!..
-- Ну, человеку привиделось!
-- У нас тоже одному привиделось: через березу сам себе в руку пальнул.
Дурак-дурак, а догадался: через березу! Чтоб по ожогу самострела не
обнаружили...
-- Правда всегда... Правда всегда...-- не видя спорящих, пытался
воткнуться в разговор слепой Ройзман, и получалось у него, как у заики. Все
же пробился, удалось...
-- Ничто так не похоже на ложь, как сама правда,-- сказал он, будто из
книги прочел.
-- Ты, Старых, заладил, как сорока!
-- Интересно, как он ее под пропеллер подсовывал?
-- Пропеллер есть пропеллер, хоть спереди, хоть сзади его приставь!
Какие могут быть ограждения? Х-ха!..
-- Ты знаешь, на кого похож?-- сказал Третьяков.-- На нашего ПНШ-1. От
тоже не поверил.
-- Был бы я на ПНШ похож, мне бы шкуру столько раз не продырявили!--
задергался вдруг, закричал Старых.-- А я, небось, в штабах не сидел, как
некоторые! Вы вот лежите здесь...-- Он подхватил под мышку костыль, допрыгал
до середины палаты со своей тяжелой гипсовой ногой. И тут под лампой, свет
которой был до того тускл, что матовый плафон только желтел изнутри,
закрутился на месте, пристукивая костылем, тень свою топтал ногой.-- Вы тут
лежите? И полеживаете! А пехота в окопах сидит,-- указывал он на окно, хоть
оно и выходило на восточную сторону.-- Кого позже всех в палату привезли?
А-а-а... То-то! А кого первого выпишут? Вы еще лежать будете, чухаться, а на
Старыхе, как на собаке, все заживет!..
И, подпираясь костылем под плечо, взлетавшее вверх, попрыгал на одной
ноге в коридор, грохнул за собой дверью.
-- Чего он дергается, как судорога?
-- Он самый здесь нервный...
-- Один он воевал, другие не воевали?
-- Вот заметьте, ребята,-- Китенев понизил голос, но говорил
серьезно.-- Это он уверенность потерял. Хуже нет, когда уверенность
потеряешь. Ранит-- ранит, ранит-- ранит, вон уж в голову стукнуло-- и жив.
Когда-то же должно убить?.. Боится возвращаться на фронт, чувствует, оттого
и злой.-- Глянул на часы, соображая, пора ему или еще не пора. Спросил;--
Так чем там у тебя с рукой кончилось? Орден получил?
-- Чуть было не дали, чтобы помнил всю жизнь... Положили меня на печку,
к утру локоть в тепле во как раздуло, в рукаве гимнастерки не помещается.
Вся рука тонкая, а он, как мяч, надулся. Врач в полку-- хороший был мужик--
поглядел: "Будем в госпиталь отправлять". А мне из полка уходить неохота. И
стыдно, как будто я сам себе придумал. "Ничего, поедешь". Но только потом
вижу, стало все вокруг меня как-то не так. Все меня обходят, в глаза не
глядят. "Разрешите, говорю, я тогда к себе на батарею пойду". Старший писарь
тоже строгий стал: "Никуда не пойдешь, сиди здесь..." Сижу, как под арестом.
И в санчасть не берут, и ничего со мной не делают, и из штаба не отпускают.
И уж все равно становится, так рука болит. Оказалось, ПНШ-1 майор Бря-ев...
Он давно на этой должности без продвижения, в майорах засиделся... Вот он
пошел к начальнику особого отдела и представил свои соображения: хорошо
обдуманное членовредительство.
Третьяков вдруг почувствовал, что Атраковский слушает его. Он все так
же безучастно сидел в позе человека, привыкшего ждать подолгу, голову
опустил, руки со вздувшимися венами зажаты в коленях, но сейчас он слушал.
-- Начальник особого отдела в полку не положен,-- авторитетно заявил
Китенев.-- Положен оперуполномоченный. Старший лейтенант или капитан.
-- У нас был артиллерийский полк армейского подчинения.
-- Значения не имеет. Мог быть в крайнем случае старший
оперуполномоченный. Капитан. А начальник особого отдела не положен в
полку,-- доводил до точности Китенев. И с такой же точностью выкладывал на
своей кровати шинель, которая под одеялом должна была изображать спящего
человека.-- Называть начальником особого отдела могли. Но-- не положен.
-- Ну, значит, не положен. Факт тот, что сорок второй год. Зима. Время,
сами помните, какое: после приказа... Между прочим, начальника этого особого
отдела Котовского я видел один раз. Тоже послали меня с донесением, самый
молодой был, гоняли меня. Сунулся в землянку -- там он сидит. Вот такой лоб
с залысинами, над каждой бровью, как желваки надулись. Глянул на меня
из-подо лба...-- Третьяков засмеялся.-- К нему, оказывается, должны были
мародера ввести, а тут я свою голову сунул...
Атраковский странным взглядом внимательно посмотрел на него, а все
засмеялись,'и Третьяков вместе со всеми-- еще раз. Всю эту историю он
рассказывал весело, как вообще рассказывают про фронт задним числом, что бы
там ни случилось...
-- С этим мародером вот что вышло... У нас там никак не могли взять
станцию Лычково. Один раз уже ворвались, на путях за составами стрельба шла.
Опять выбили пехоту. И вот курсантов пригнали, фронтовые курсы младших
лейтенантов. Все в дубленых полушубках, в валенках. А мороз-- больше сорока.
Раненые, кого вытащить не удалось, потом позамерзали на снегу. Так этот
ночью лазал часы обирать с убитых. Между прочим, разведчик нашего полка. Из
второго дивизиона,-- и Третьяков, когда говорил сейчас, ясно увидел заново,
как вели того мародера в широкой, без пояса, и, должно быть, без хлястика
шинели, его желтое в белый зимний день лицо, резко вырезанные ноздри
плоского носа, антрацитно поблескивающий пригнетенный взгляд. И как сам он
весь внутренне отстранился от этого человека.-- Ка-ак глянул на меня
Котовский из-подо лба!.. Вот ему майор Бряев стукнул про мое
членовредительство. А он не поверил. Я ведь в этот полк... Мне, в общем, лет
не хватало, я сам пошел. Он знал это и не поверил. Приказал оставить в
санчасти и лечить, а то, мол, пошлют в госпиталь, там тоже кто-нибудь такой
бдительный найдется... Я-то ничего не знал, только опять вижу, все
переменилось вокруг меня, переводят в санчасть. После уж писаря рассказали.
Китенев тем временем осторожно укрыл шинель одеялом, получилось, будто
спит человек, укрытый с головой. Полюбовался на свою работу.
-- Ребята, в случае чего -- "он спит". Будить не давайте: "У него сон
ужасно плохой. Разбудите-- до утра спать не будет"...
Выходя из палаты, столкнулся со Старыхом. Тот при-хромал к столу, сел:
-- Капитан, давай в шахматы сгоняем.
-- Расставляй,-- сказал Ройзман.
Все ходячие опять потянулись к столу-- смотреть. Старых расставлял на
доске, Ройзман все так же сидел на кровати, готовясь играть на память,
издали. Открытые глаза его блестели.
Несколько дней спустя, вечером в коридоре увидел Третьяков стоявшего у
окна Атраковского. Подошел, стал рядом. Хотелось ему расспросить про ту
девушку: кто она? придет ли еще?
-- Метет как! -- сказал он. За окном ничего не было видно, только у
самого стекла снег летел снизу вверх. А дальше все, как в дыму: ни вокзала,
ни фонарей. И холодом дышало от окна.
-- Метет,-- сказал Атраковский. Рядом в операционной шла операция. Там
ярко горел свет, на матовом стекле возникали силуэты.
-- Пехоте сейчас в окопах... Хуже нет-- воевать зимой. И весной тоже.--
Третьяков засмеялся.-- Нам еще повезло.
За окном в сплошной метели что-то смутно мерещилось или раскачивалось,
как тень. И оба они в своих госпитальных халатах отражались в стекле
изнутри.
-- Вы даже не понимаете, как вам повезло,-- сказал Атраковский.-- Всей
меры везения. Это защитное свойство молодости: не все понимать. Одно слово
стоило сказать, одно только слово... Даже не сказать, молча согласиться, и
вся ваша жизнь...-- Он говорил, не меняя выражения лица, одними губами. Со
стороны никто бы не определил, что он говорит.-- Смерть в бою покажется
прекрасной по сравнению с бесчестьем.
У Третьякова вдруг сжало в душе, как от испуга: спросить его про отца!
Атраковский мог знать, чего не знают другие. Но не спросил, побледнел
только. Отец его ни в чем не виноват, он знает, и все равно, когда касалось
отца, он и на себе чувствовал позорное пятно и пустоту, вокруг себя
возникавшую.
Из операционной выскочила сестра в белой марлевой косынке-- стук, стук,
стук каблуками,-- пробежала по коридору. За окном мело, как в целом мире.
Здесь уже легла ранняя уральская зима. И таким белым был по утрам свет
снега на потолке палаты, а солнце искрилось в мокрых стеклах, с которых
обтаивал лед. Однажды раненые взломали заклеенное окно, сгрудились в нем,
хлопали в ладоши, кричали сверху, били костылями по жести подоконника:
-- Дорожную давай!
Внизу, во дворе, у пригретой солнцем кирпичной стены бывшей школы, а
теперь у госпиталя, школьный струнный оркестр на прощание выступал перед
теми, кто вновь отправлялся на фронт.
-- Дорожную давай!-- кричали из окна. Третьяков еще не ходил, но и на
другом конце палаты хорошо было ему слышно, как в несколько мандолин и
балалаек дернули во дворе понравившийся мотив. И молодой, радостный голос
звучно раздавался на морозе:
Не скучай, не горюй, Посылай поцелуй у порога...
Слепой капитан Ройзман шел на свет к окну, хватаясь за спинки кроватей,
опрокидывая табуретки по дороге.
Широка и светла Перед нами легла путь-дорога-а...
Три раза подряд исполняли внизу все ту же песню. Никакую другую раненые
не хотели слушать: понравилась эта, вновь и вновь требовали ее. И опять
ударяли по струнам и, радуясь своей молодости, звучности, силе, высоко
взлетал над всеми голосами чистый девчоночий голос:
Не скучай, не горюй...
Набежали в палату сестры, захлопнули окно, распихали раненых по
кроватям:
-- С ума посходили! На дворе мороз, воспаления легких захотелось?
В тот же день прихромал на протезе одноногий санитар. Когда-то и он
отлежал здесь свой срок, выписался, а ехать некуда: дом его и вся их
местность под немцами; так в госпитале и прижился. Он гвоздями накрепко
забил окно, чтоб уж не раскрыли до весны: тепло тут берегли. Но до самого
вечера все летал по палате этот мотив: один забудет, другой мурлыкает,
ходит, сам себе улыбается. А в углу, поджав ноги, как мусульманин, сидел на
своей койке Гоша, младший лейтенант, тряс колодой карт, звал сыграть с ним в
очко.
По годам почти такой же, как эти школьники, успел он в своей жизни
только доехать до фронта. Здесь эшелон попал под бомбежку, контуженного,
увезли Гошу в госпиталь. Но он опять сбежал на фронт и попал уже не под
бомбежку, а под артналет. В себя пришел он в госпитале. Врачи говорили, что
это прежняя его контузия отдалась. А может быть, контузило вновь. Сам Гоша
ничего толком ни разу не рассказал: начинал волноваться, заикался так, что
слова промычать не мог, только сотрясался весь, как всхлипывал.
Каждый день с утра он уже сидел посреди кровати с колодой карт: ждал,
кто сыграет с ним в очко. И вся вдаль угадывалась его судьба. Видел
Третьяков таких ребят на базарах, у пивных, когда случалось в училище
получить увольнительную: сидели безногие на земле, играли в "колечко",
"веревочку", что-то меняли из-за пазухи, жили одним днем. Или, зажав в синих
култышках рук вскрытую пачку папирос, тряслись на морозе, торговали
поштучно. Оттого-то врачи не спешили выписывать Гошу.
А видно было по всему, что парень он геройский и рвался на фронт подвиг
совершить, но не выпало ему ни совершить ничего, ни погибнуть с честью.
По пятницам мимо госпиталя гнали в баню курсантов пехотного училища. Из
бани возвращались с песней. Над колышущимся строем, над паром от
серошинельных спин, от мокрых веников, дрожал не набравший мужества ломкий
на морозе голос запевалы:
Там, где пехота не пройдет, Где бронепоезд не промчится, Угрюмый танк
не проползет...
Хруп, хруп-- сапоги по снегу. Ожидающая тишина. Один над всеми в
середине строя-- голос запевалы, страшно за него: вот-вот не хватит дыхания,
обронит песню. А он на последнем взлете и себя не щадит:
Там пролетит сталь-на-я пти-ца-а...
Как отрубив, заглушая шаг, лихо рявкали курсантские голоса кем-то
присочиненный припев:
Прощай, Маруся, дорогая,
Я не забуду твои ласки.
И, может быть, в последний раз
Смотрю я в голубые глазки.
И снова на морозе звон-хруст кованых сапог, пар изо ртов, пар над
ушанками. А снежная улица пуста, широка, запертые ворота обмело снежком,
белые дровяные дымы стоят над печными трубами, и некому в окна глядеть, как
они идут и поют: война, кто не на фронте, работает для фронта по двенадцать
часов. Разве что присунется к стеклу старушечье лицо в платочке, слепо
смотрят вслед выцветшие глаза.
Мороз поджимает, курсанты идут быстро. Не шинелька греет сейчас, а
песня и шаг: хруп-хруп, хруст-хруст. За строем, как воробьята,-- ребятишки,
забегают с боков поглядеть, им бы тоже-- в ногу! в ногу! Да раненые в окнах
госпиталя улыбаются, словно в прошлое на самих себя глядя.
Через полмесяца, когда окреп, сделали Третьякову еще одну операцию:
вынули из руки мелкие осколки, сшили нерв и завернули его в целлофан. "Как
конфетку тебе его завернули",-- сказал хирург.
Операцию делали под местным наркозом, а на ночь, когда самая боль
должна была начаться, оставили сестре для него ампулу морфия. Почти до утра
проходил он по коридору, но укола делать себе не дал. В их офицерской палате
лежал старший лейтенант, тоже артиллерист, кости рук у него были перебиты
разрывными пулями. Пока его трясли в санлетучке, везли в санитарном поезде,
кололи ему морфий, чтобы спал и давал спать другим. И теперь он выпрашивал
морфий у сестер, выменивал, врал, клянчил униженно. Насмотревшись, Третьяков
решил лучше терпеть, чем вот в такого превратиться, хоть сестры и смеялись
над ним, говорили, что от одного укола морфинистом не становятся.
Под утро, пожалев, налили ему полстакана спирту, он выпил, лег, навалил
подушку на голову и спал оглушенный. Снилось ему, будто слышит он голос, тот
самый голос, что пел во дворе "Не скучай, не горюй...". И хорошо ему было
слушать, как она говорит над ним, и боялся проснуться. А проснулся и не
знал, спит он или не спит: голос был слышен, не исчез. Он осторожно сдвинул
подушку. Белый свет снега в палате, белые ветки качаются за окном, и такая
во всем ясность, как бывает после бессонной ночи. А через две койки спиной к
нему сидит девочка в белом халате, косы до табуретки. Валенки на ней
солдатские, серые, подшитые толсто. Косы шевельнулись на спине, она
повернула голову -- на миг увидел ее взволнованно блестевший глаз.
На койке, около которой она сидела,-- капитан с орденом Красного
Знамени. Единственный в их палате, он держал орден не под подушкой, а носил
его привинченным к нательной рубашке под халатом, так и ходил с ним. Был он
уже не молод и ранен тяжело: осколок мины остался у него в мозгу. От врачей
знали, что может он и жизнь прожить с этим осколком, но может в любой момент
внезапно умереть. У него бывали такие приступы головной боли, что он ложился
пластом и лежал, весь белый.
В палате постукивали костяшки домино, забивали "козла" на обеденном
столе. Шаркал туфлями по полу, натыкался на койки слепой капитан Ройзман.
Девочка говорила тихо, Третьяков не все разбирал:
-- Простить себе не могу... не понимала совершенно... И страшно
нервничает. "Ты что забыла?" Тут только поняла, ведь у него всего полчаса
осталось... Курил одну папиросу за другой... сказать хотел... Прибегаю, все
наши давно на перроне...
Третьякову показалось на слух, что она повернулась в его сторону.
-- Он спит,-- сказал капитан.-- Ему вечером делали операцию.
И обидно вдруг стало, что она даже не спросила ничего, что он для нее
только помеха в разговоре.
Кровать резко толкнуло: это Ройзман наткнулся боком. Опять зашаркали
шаги, отдаляясь. Она заговорила тише:
-- А потом, когда раздались свисток и гудок, мать бросилась целовать
его. Как она его целовала! В шею, в затылок, в голову... Я только тогда
почувствовала, только тогда поняла, что это такое. Мне было приятно, что он
пришел, а у меня волосы распущены по плечам. А он умирать ехал.
Третьякову хотелось увидеть ее лицо, но видел косы на халате, большие
серые валенки под табуретом. Вдруг вспомнил, где он эти валенки видел
однажды. Их санитарный поезд стоял у перрона, лежачих выносили на носилках,
ходячих под руку вел санитар. И вот, когда сводили его со ступенек, из-под
вагона вылезли двое: девочка, вся замотанная платком-- мороз был сильный,--
и парнишка в черной кожаной ушанке. Они оглядывались, не видит ли их кто,--
оба радостные, удачливые, и полное ведро чадящего непрогорелого угля было
при них: на путях собирали. И он заметил валенки солдатские на ней, точно
такие, огромные. Может быть, это она и была?
-- Ребята,-- позвал Ройзман. Подняв руку-- серый фланелевый рукав
халата опал вниз,-- он ощупывал край окна.-- Это окно, да?
Перестали стучать костяшками домино. Темный против света, Ройзман
трогал стекло, трогал раму. Глаза его, ничуть нигде не поврежденные, ясные и
незрячие, растерянно оглядывали палату, глядели мимо всех.
-- Свет отличаю. Вот... Вот он...
И дрожащей рукой ловил свет в стекле.
Из коридора вблизи перевязочной, где холодом веяло от стекол, были
видны вдаль железнодорожные пути, вокзал, белые от мороза окна. Когда-то в
простоте душевной он думал, глядя на вокзальные окна, огромные, как ворота,
что через них и вышел ночью погулять тот паровоз из детского стишка: "Дверь
толкнул стальною грудью, вышел, а кругом безлюдье, даже стрелочник заснул,
пододвинув к печке стул..."
Было ему тогда года четыре, и отец еще был с ними. Отец сказал ему не
спать, стеречь вещи, а сам вместе с матерью ушел куда-то. И он сидел на
чемодане среди спавших вповалку людей, и представлялось ему, как задремал
стрелочник в углу, у печки, как паровоз толкнул окно стальной грудью...
Вернулся отец, взял вещи, взял его за руку, и они пришли в большой зал.
Все здесь сверкало при электрическом свете, множество людей весело
разговаривали за накрытыми столами, папиросный дым подымался к потолку, и
среди этого шума и праздника сидела мама, одна за накрытым белой скатертью
столом, ждала их. Все было невиданное, не такое, как дома. Впервые они
обедали среди ночи, и обед подавала не мама, а пришел человек с полотенцем
на руке, отец говорил ему, он все записывал и был очень доволен. Поразило,
как быстро здесь готовят. Мама, бывало, полдня стоит у примуса, а этот
человек ушел и сразу все приготовил и принес.
Потом они ехали на телеге, и близко над лицом качались звезды. И мир
был беспределен. Что-- космос, иные миры!.. Беспределен только один мир:
детство. И жили в этом мире бессмертные люди: он, мама, отец. А Ляльки тогда
еще не было на свете.
Когда вот так метет и мороз, он всякий раз об отце думает. Последнюю
посылку мать отправляла отцу перед самой войной, а последнее письмо от отца,
оттуда, было еще раньше.
То, что у матери есть муж, когда отец-- там, что вообще кто-то, кроме
отца, может быть ее мужем, этого он не мог ей простить. И не мог видеть, как
она заботится о Безайце, как временами смотрит на него. Бессознательно он
отыскивал в ее муже все самое неприятное и никогда никак не называл его:
"Вас к телефону... Вам там письмо..." Но чаще действовал через Ляльку: "Его
там спрашивают, скажи ему..."
Лялька, маленькая дурочка, она и к Безайцу привязалась, она и отца
помнила. Однажды он видел, как она крошками печенья кормила фотографию отца:
сидит на полу за кроватью, шепчет что-то и крошки эти подносит к фотографии,
к губам.
Из них троих он один оставил себе фамилию отца:
Третьяков. И все отцовские фотографии, даже те, на которых мать рядом с
отцом, выкрал у нее. Все они теперь-- и Лялькины письма к нему в училище, и
материны письма,-- все это вместе с полевой сумкой осталось на огневой
позиции батареи в фургоне старшины. Он ещЈ подумал, когда его увозили: "Но я
же вернусь в полк..." Как будто на войне можно загадывать вперед.
По коридору от окна к окну переходил хромой санитар. Постоит,
примерится, вынет гвоздик из-под усов, потихоньку постукивая, вобьет в
подоконник сбоку. Опять посмотрит, постоит и-- подвесит на гвоздь бутылку.
Потом, уминая негнущимися пальцами, долго прокладывает по подоконнику фитиль
из стираного бинта, чтобы вода, натаявшая со стекол, текла не на пол, а по
фитилю сбегала в бутылку. Он свое отвоевал, ему этой тихой работы в тепле
теперь до конца войны хватит.
Когда-то мама вот так зимой подвешивала бутылки к подоконникам. Утрами
стекла высоко обмерзали, бывало, он нагреет в ладонях большой медный пятак,
впаяет в лед. Нагреет еще раз, притиснет: орел-решка, орел-решка. И тают на
солнце его ледяные пятаки, стекают со стекол. Исчезнувший мир. Все довоенное
сейчас, как исчезнувший мир.
Недавно лежал он в палате и вспомнилось: осень, он сидит в классе у
окна, смотрит со второго этажа на улицу. Там узкоколейка к маслозаводу, а
рядом с насыпью-- огромная куча подсолнуховых семечек. На ней лежат парни и
девчата в стеганых ватниках, греются, подставив лица холодному солнцу. А
машинист паровика в окне буд-ки, как в раме, смотрит на них, проезжая мимо.
Потянул за веревку, белый пар рванулся из свистка. И словно разбуженные,
стали перекатываться друг по другу парни и девчата, обхватываясь ватными
рукавами и смеясь... Все это было в исчезнувшем мире. Может быть, никого из
них сейчас нет в живых: ни парней тех, ни машиниста, который проезжал мимо и
смотрел.
Из дверей вокзала на снежный перрон повалил вдруг народ, все
закутанные, обвязанные до глаз. Мороз сильный, все серо: и воздух и снег
серый. Только намерзший на стекла лед просвечивал краснинкой. Не знать
времени, не догадаешься, восходит солнце или садится: растекшееся, оно
светило из-за серой мглы, не слепило, светило без лучей.
Весь в пару надвинулся к перрону поезд. Обындеве-лые крыши вагонов,
натеки льда с крыш, белые слепые окна. И словно это он нанес с собой ветер,
помело с крыши вокзала, закружило. В снежном вихре, в пару метались люди от
дверей к дверям, бежали вдоль состава.
Каждый раз вот так бегают с вещами, с детишками, а везде все закрыто,
ни в один вагон не пускают.
Санитар, стоявший рядом, тоже смотрел. Осторожно выплюнул гвозди в
горсть.
-- Вот бы Гитлера сюда этого! Сам-то он в тепле сидит. А народу такие
мучения принимать... Да с детишками...
И зябко ежился, будто и его тут мороз пронял. Глупым показался
Третьякову этот разговор. Срывая на санитаре зло, потому что ему тоже было
жаль метавшихся по морозу баб, которых гнали от поезда, сказал:
-- Что ж, по-твоему, захотел какой-то Гитлер-- и война началась?
Захотел-- кончилась?
И сам от своего командирского голоса распрямился под халатом.
Санитар враз поскучнел, безликим сделался.
-- Не я ж захотел,-- бормотал он себе под нос, переходя к другому
окну.-- Или мне моя нога лишней оказалась?
Третьяков посмотрел ему вслед, на один его сапог и на деревяшку. Что
ему объяснишь? Не приставишь оторванную ногу и не объяснишь. А самое
главное, что он и себе не все уже мог объяснить. В школе, со слов учителей,
он знал и успешно отвечал на отметку, почему и как возникают войны. И
неизбежность их при определенных условиях тоже была объяснима и проста. Но в
том, что он повидал за эти годы, не было легких объяснений. Ведь сколько раз
бывало уже -- кончались войны, и те самые народы, которые только что
истребляли друг друга с такой яростью, как будто вместе им нет жизни на
земле, эти самые народы жили потом мирно и ненависти никакой не чувствовали
друг к другу. Так что же, способа нет иного прийти к этому, как только убив
миллионы людей? Какая надобность не для кого-то, а для самой жизни в том,
чтобы люди, батальонами, полками, ротами погруженные в эшелоны, спешили,
мчались, терпя в дороге голод и многие лишения, шли скорым пешим маршем, а
потом эти же люди валялись по всему полю, порезанные пулеметами, разметанные
взрывами, и даже ни убрать их нельзя, ни похоронить?
Мы отражаем нашествие. Не мы начали войну, немцы на нашу землю пришли--
убивать нас и уничтожать. Но они зачем шли? Жили-жили, и вдруг для них иная
жизнь стала невозможна, как только уничтожив нас? Если б еще только по
приказу, но ведь упорно воюют. Фашисты убедили? Какое же это убеждение? В
чем?
Трава родится и с неизбежностью отмирает, и на удобренной ею земле гуще
растет трава. Но ведь не для того живет человек на свете, чтобы удобрить
собою землю. И какая надобность жизни в том, чтобы столько искалеченных
людей мучилось по госпиталям?
Конечно, не один кто-то движет историю своей волей. Просто людям так
легче представить непонятное: либо независимо от них совершается, либо
кто-то один направляет, кому ведомо то, что им, простым смертным,
недоступно. А происходит все не так и не так. И бывает, что даже всех
совместных человеческих усилий мало, чтобы двинулась история по этому, а не
по другому пути.
Еще до войны прочел он поразившую его вещь: оказывается, нашествие
Чингисхана предварял целый ряд особо благоприятных лет. Шли в срок дожди,
небывало росли травы, плодились несметные табуны, и все вместе это тоже дало
силу нашествию. Быть может, разразись над этим краем многолетняя засуха, а
не сойдись все так благоприятно, и не обрушилось бы страшное бедствие на
народы в других краях. И история многих народов пошла бы по-другому.
На фронте воюет солдат, и ни на что другое не остается сил.
Сворачиваешь папироску и не знаешь, суждено ли тебе ее докурить; ты так
хорошо расположился душой, а он прилетит-- и накурился... Но здесь, в
госпитале, одна и та же мысль не давала покоя: неужели когда-нибудь
окажется, что этой войны могло не быть? Что в силах людей было предотвратить
это? И миллионы остались бы живы... Двигать историю по ее пути-- тут нужны
усилия всех, и многое должно сойтись. Но, чтобы скатить колесо истории с его
колеи, может быть, не так много и надо, может быть, достаточно камешек
подложить?
Когда уж оно скатилось и пошло с хрустом по людям, по костям, тут
выбора не оставлено, тут только одно: остановить, не дать ему и дальше
катиться по жизням людей. Но неужели могло этого не быть? Санитар сказал,
что думал, а в нем все расшевелилось заново. Только ни к чему это сейчас. Не
время и ни к чему. Сейчас война идет, война с фашистами, и нужно воевать.
Это единственное, что ни на кого другого не переложишь. А все равно думать
себе не запретишь, хоть и ни к чему это.
Люди по размерам события судят о его причинах: огромное событие,
значит, и причины такие, что не могло этого события не быть. А может, все
проще? Сделать доброе дело для всех людей, тут многое нужно. А напакостить в
истории способна даже самая поганая кошка.
Каждый из своего окна-- и санитар и он,-- смотрели, как тронулся поезд,
оставив народ у края платформы. Качало из стороны в сторону хвостовой вагон
с площадкой и дверью, от которой будто оторвана часть поезда. Устремившийся
следом снежный вихрь заметал все.
А все равно, сколько бы в этом клубке ни сплелось нитей, у каждого
человека там свое место, своя правота и своя вина. И можно распутать этот
клубок, можно. Всей жизни для этого не жаль. И уже сейчас хотелось с
кем-нибудь поговорить. Только с кем? Такой разговор не с каждым начнешь. Он
как-то заговорил со Стары-хом, тот глянул на него с таким усилием мысли, как
будто не только смысла слов, но и языка, на котором к нему обращались, не
понимал:
-- Чего-о?
Весь исковырянный, четырежды раненный, он сейчас для себя, кроме войны,
все как отрезал, чтобы душу не бередить зря.
Вот Атраковский-- другое дело. Но тот все молчит. И видел Третьяков,
молчит не оттого, что сказать нечего, а оттого, что не каждому и не все, что
знает, может сказать.
Дня два после того, как у кровати капитана Атраков-ского сидела девочка
с косами, оставались на полу следы ее валенок. Потом, широко возя мокрой
тряпкой, санитарка вымыла масленый пол, и он заблестел. Третьяков и сейчас
видит, как она уходила в своих подшитых валенках, в белом халате, стянутом в
талии пояском, как обернулась в дверях. Случайно и он попал в поле зрения ее
серых глаз, но никак в них не отразился.
С неясным для себя любопытством приглядывался он к капитану
Атраковскому. Тот давно уже лежал здесь, и школьники, приходившие в
госпиталь читать вслух книги, писать письма за тех, кто сам не мог по
ранению, знали его. Но как она рассказывала ему про себя! Может быть,
потому, что он уже старый?
В палате, как всегда после ужина, играли в шахматы, чтобы время убить.
Медленно тянется оно в госпитале, каждый вынужденно перебывает здесь часть
жизни: кто -- перед новой отправкой на фронт, а кто -- перед тем, что для
него настает отныне. Но и к этому неведомому стремятся: не временного
хочется уже, а определенности, хоть, может быть, здесь, в госпитале,
заканчиваются для кого-то из них и навсегда остаются позади лучшие, славные
годы его жизни.
Играли в шахматы командир роты Старых и слепой капитан Ройзман. Счет
партий у них перевалил уже за сотню, но Старых все не терял надежды
отыграться. Они сидели за столом друг против друга, а ходячие столпились
вокруг. Тут же и Атраковский стоял, придерживая халат рукой. Осторожно
прошелся по палате, будто боясь колыхнуть в себе боль, и опять остановился,
смотрит вместе со всеми, но чем-то отдельный ото всех. Знал Третьяков по
рассказам, что в сорок первом году попал Атраковский в плен, бежал, долго
проходил проверку. И в сорок втором году повезло ему попасть в окружение,
выходить оттуда. Раз уж после всего этого награжден орденом Красного
Знамени, что-то немалое совершил этот человек, таким людям давались награды
нелегко. А жизнь в нем еле-еле держалась, каждый день могла оборваться.
Когда уже лежали по кроватям, заговорили о ранениях-- кто, как, при
каких обстоятельствах был ранен, и Третьяков вспомнил вдруг:
-- А я знал, что меня в тот день ранит.
Он действительно подумал тогда, что его либо ранит, либо убьет, увидев
случайно, как в воздухе пулей сбило голубя на лету. На него это почему-то
подействовало как примета. Но потом забылось в бою, и вот сейчас только
вспомнил.
-- Как же это ты заранее знал?-- спросил Старых, не очень веря.
-- Знал.
Но о примете рассказывать не стал, побоялся, что засмеют.
-- Нет, я не знал,-- сказал Ройзман и вслед своим мыслям покивал
головой.
Третьяков представил как-то, что вот бы ему досталось, как Ройзману,
сутки с лишним слепому лежать в деревне, занятой немцами, слышать немецкую
речь вокруг себя и ждать каждую минуту, что сейчас тебя обнаружат. Даже не
видеть, спрятан ты или весь на виду... Не дай Бог так попасть.
-- Нет, я не знал,-- повторил опять Ройзман. И вдруг заспорили, может
ли это быть, чтобы человек всю войну воевал в пехоте и ни разу не ранен?
-- Значит, не в пехоте!-- зло рубил Старых, как будто от него от самого
что-то отнимали.
-- Здорово живешь... Да вот я!-- И Китенев, начальник разведки
стрелкового полка, стал посреди палаты, всего себя представляя на обозрение.
Он уже выздоравливал, дело шло к выписке, и на кровати его, помещавшейся
между кроватями Третьякова и Атраковского, иной раз до утра ночевала шинель,
уложенная под одеялом как спящий человек.-- С первого дня в пехоте, а ранен
впервые. И то случайно.
-- Значит, не в пехоте!
-- В пехоте!
-- Значит, не с первого дня!
-- А ты возьми мое личное дело.
-- Знаю...-- отмахнулся Старых.-- Мое личное дело все на мне. Все мое
прохождение на моей шкуре записано, вон она-- вся в дырах,-- и он ткнул
пальцем в спину себе, в плечи,-- этот раз, если б каску на голову не
надел...
Замычал что-то, пытался сказать Гоша, младший лейтенант. Сидя посреди
кровати под одной из двух ламп, свисавших с потолка, от которых все тени
были вниз, он заикался так, что подсигивал на сетке. Все мучительно ждали,
опустив глаза. Про себя каждый мысленно помогал ему, от этого и сам вроде бы
начинал заикаться.
-- Да обожди ты!-- крикнул Старых, махнув на него рукой.-- Немец-- это
я поверю: с начала войны и не ранен. Немец в каске ест, в каске спать
ложится. Он ее как надел по приказу, так с головы не сымает. А наш рус
Иван...-- и с полнейшей безнадежностью махнул рукой. Но в том и гордость
была "рус Иваном", который хоть вроде бы и делает себе хуже, зато уж воюет,
не мудря.-- Я, например, до этого госпиталя раненных в голову вообще не
видал. Где, мол, они, в голову раненные? А они все на поле остались, там и
лежат. Вон она как мне обчертила.
Старых сел, свесив гипсовую ногу и обвел пальцем вокруг своей
наклоненной головы, лысой смолоду. Он в самом деле был ранен чудно: пуля,
закрутившись под каской, словно скальп с него снимала, прорезала след вокруг
всей головы. Ровный шрам вылег на лбу.
-- Мне, главное, то обидно, через подлюгу мог бы уже в земле сгнить.
Нам на пополнение этих пригнали... Ну, этих... Из освобожденных местностей.
Зовет меня мой связной: "Глядите, товарищ старший лейтенант, опять этот руку
из окопа выставил..." Он всю войну с бабой на печке спасался, освободили
его, так он и тут воевать не желает. И ведь на что хитер: знает,
самострелы-- в левую, так он правую руку выставил над окопом, ждет, пока
немец ему... Нет, обожди, я тебе щас не в руку, я тебе щас черепок твой
поганый расколю! Взял винтовку, приложился уже... И вот как под локоть
толкнуло! "Дай, говорю, каску". Всю войну, поверишь, ни разу не надевал, а
тут вот как что-то сказало мне. Взял у связного с головы, только высунулся и
прямо мне-- в лоб! -- Старых крепко ткнул себе в лоб пальцем.-- Снайпер, не
иначе. А был бы я без каски...
-- Это он тебе в лысину целил, чтоб не отсвечивала,-- смеялся
Китенев.-- Он тебя за командующего принял.
-- А я тоже однажды из-за снайпера чуть под членовредительство не
попал,-- сказал Третьяков. И пока не перебили, начал быстро рассказывать,
как на Северо-Западном фронте послали его с донесением с батарейного НП и по
дороге снайпер чуть не положил его.
-- У нас там оборона давно стояла, снайпера и с нашей и с ихней стороны
действовали. Иду, день ясный, солнце, снег отсвечивает... Фьють-- пуля. Лег.
Только шевельнулся -- фьють !
-- Такой и снайпер!-- Старых махнул на него рукой, словно Третьякову
теперь вообще следовало помолчать.
-- Так ведь не на передовой.
-- Два раза стрелял, а он жив. Снайпер... Но Третьякова поддержали:
-- Снайпера тоже когда-то учатся.
-- Вот он на мне и учился. И место такое: везде снег глубокий, а тут
ветрами обдуло. И сосна позади меня. Как раз в створе получаюсь, ему легко
целиться. Час прошел-- лежу. Чувствую: пропадаю. Мороз не такой большой, но
потный был, пока по снегу шел. И-- в сапогах.
Старых слушал презрительно, как ненастоящее. В нем самом нетерпение:
рассказать.
-- Дождался, пока солнце на эту сторону перешло, в глаза ему засветило,
вскочил, побежал. В дивизион являюсь, губы заледенели, слова не
выговаривают.
-- Снайпер... Таких снайперов... Но Китенев заступился:
-- Дай человеку рассказать!
-- Снайпер... Х-ха!
-- А в дивизионе, конечно, своего связного гонять не стали, пакет мне в
руки, шагом марш в штаб полка. Штаб полка в деревне Кипино стоял. Ночь уже.
Днем просто по проводам, а ночью где штаб?
Ощупывая рукой спинки кроватей, подошел Ройзман, сел:
-- Вы в какой армии были?
-- В тридцать четвертой.
-- Ну да, вы с этой стороны действовали: Дворец, Лычково...
Неловко становилось Третьякову всякий раз, когда капитан Ройзман
смотрел на него вот так своими ясными, будто зрячими глазами и-- не узнавал:
ведь Ройзман у них в училище преподавал артиллерию, к доске вызывал его не
однажды. А теперь даже по голосу не узнает. Но сказать ему почему-то
Третьяков не решался.
-- Тридцать четвертая,-- Ройзман покивал,-- генерал Берзарин. Все
правильно...
И словно тем удостоверил наперед, слушали уже Третьякова, не прерывая.
-- Там как раз в Кипино десант готовился: аэросани вдоль всей улицы
стоят, моторы работают. И десантники все в белых маскхалатах. Я еще
позавидовал этим ребятам... Из них потом, между прочим, почти никто не
вернулся, говорили, будто немец знал, что десант готовится. Не знаю. А тогда
они стояли на снегу, иду мимо, вихрь в спину толкает. И у одних аэросаней
позади дрожит лучик света. Там-- пропеллер, а мне почему-то подумалось, что
вокруг пропеллера должно быть еще ограждение. Так ясно представилось:
никелированное. Просто увидал. Я до этих пор ни разу аэросани вблизи не
видел. Потом-то я догадался: дверь дома неплотно была прикрыта, свет
проникал, пропеллер вращается, перерубает его концом. А мне это ограждение
представилось, иду смело. Ка-ак рубанет мне по локтю! Аж дыхание
перехватило. Присел-- и молчком, молчком от него, на корточках. Между
прочим, все мне по этому локтю попадает.
-- Что ж он, пропеллер, и руку тебе не отрубил? Старых со своей
догадкой в глазах обернулся ко всем.
-- Так мне самым кончиком попало.
-- Ин-те-рес-но!..
-- И потом на мне была шинель, под шинелью-- телогрейка, под ней--
гимнастерка. Да еще фланелевая теплая рубашка, а под рубашкой-- еще рубашка.
-- Вот вшам раздолье,-- сказал Китенев.
-- Мы их на Северо-Западном фронте вообще не считали. Даже не били по
одной. Есть возможность, скинешь нательную рубашку,-- какое-то время жить
можно.-- Третьяков повернулся к Старыху.-- А так бы он, конечно, руку мне
отрубил! Я пришел в штаб, под локоть ее несу, пакет отдал, а рассказать
стыдно, не поверят еще...
-- И я бы не поверил! -- гордо припечатал Старых.-- Какое-то
ограждение, черт те чего...
Сразу в несколько голосов заспорили:
-- Что ж он, сам ее подсунул?
-- По миллиметрам рассчитал?
-- А я не обязан знать. Х-ха-- никелированное!..
-- Ну, человеку привиделось!
-- У нас тоже одному привиделось: через березу сам себе в руку пальнул.
Дурак-дурак, а догадался: через березу! Чтоб по ожогу самострела не
обнаружили...
-- Правда всегда... Правда всегда...-- не видя спорящих, пытался
воткнуться в разговор слепой Ройзман, и получалось у него, как у заики. Все
же пробился, удалось...
-- Ничто так не похоже на ложь, как сама правда,-- сказал он, будто из
книги прочел.
-- Ты, Старых, заладил, как сорока!
-- Интересно, как он ее под пропеллер подсовывал?
-- Пропеллер есть пропеллер, хоть спереди, хоть сзади его приставь!
Какие могут быть ограждения? Х-ха!..
-- Ты знаешь, на кого похож?-- сказал Третьяков.-- На нашего ПНШ-1. От
тоже не поверил.
-- Был бы я на ПНШ похож, мне бы шкуру столько раз не продырявили!--
задергался вдруг, закричал Старых.-- А я, небось, в штабах не сидел, как
некоторые! Вы вот лежите здесь...-- Он подхватил под мышку костыль, допрыгал
до середины палаты со своей тяжелой гипсовой ногой. И тут под лампой, свет
которой был до того тускл, что матовый плафон только желтел изнутри,
закрутился на месте, пристукивая костылем, тень свою топтал ногой.-- Вы тут
лежите? И полеживаете! А пехота в окопах сидит,-- указывал он на окно, хоть
оно и выходило на восточную сторону.-- Кого позже всех в палату привезли?
А-а-а... То-то! А кого первого выпишут? Вы еще лежать будете, чухаться, а на
Старыхе, как на собаке, все заживет!..
И, подпираясь костылем под плечо, взлетавшее вверх, попрыгал на одной
ноге в коридор, грохнул за собой дверью.
-- Чего он дергается, как судорога?
-- Он самый здесь нервный...
-- Один он воевал, другие не воевали?
-- Вот заметьте, ребята,-- Китенев понизил голос, но говорил
серьезно.-- Это он уверенность потерял. Хуже нет, когда уверенность
потеряешь. Ранит-- ранит, ранит-- ранит, вон уж в голову стукнуло-- и жив.
Когда-то же должно убить?.. Боится возвращаться на фронт, чувствует, оттого
и злой.-- Глянул на часы, соображая, пора ему или еще не пора. Спросил;--
Так чем там у тебя с рукой кончилось? Орден получил?
-- Чуть было не дали, чтобы помнил всю жизнь... Положили меня на печку,
к утру локоть в тепле во как раздуло, в рукаве гимнастерки не помещается.
Вся рука тонкая, а он, как мяч, надулся. Врач в полку-- хороший был мужик--
поглядел: "Будем в госпиталь отправлять". А мне из полка уходить неохота. И
стыдно, как будто я сам себе придумал. "Ничего, поедешь". Но только потом
вижу, стало все вокруг меня как-то не так. Все меня обходят, в глаза не
глядят. "Разрешите, говорю, я тогда к себе на батарею пойду". Старший писарь
тоже строгий стал: "Никуда не пойдешь, сиди здесь..." Сижу, как под арестом.
И в санчасть не берут, и ничего со мной не делают, и из штаба не отпускают.
И уж все равно становится, так рука болит. Оказалось, ПНШ-1 майор Бря-ев...
Он давно на этой должности без продвижения, в майорах засиделся... Вот он
пошел к начальнику особого отдела и представил свои соображения: хорошо
обдуманное членовредительство.
Третьяков вдруг почувствовал, что Атраковский слушает его. Он все так
же безучастно сидел в позе человека, привыкшего ждать подолгу, голову
опустил, руки со вздувшимися венами зажаты в коленях, но сейчас он слушал.
-- Начальник особого отдела в полку не положен,-- авторитетно заявил
Китенев.-- Положен оперуполномоченный. Старший лейтенант или капитан.
-- У нас был артиллерийский полк армейского подчинения.
-- Значения не имеет. Мог быть в крайнем случае старший
оперуполномоченный. Капитан. А начальник особого отдела не положен в
полку,-- доводил до точности Китенев. И с такой же точностью выкладывал на
своей кровати шинель, которая под одеялом должна была изображать спящего
человека.-- Называть начальником особого отдела могли. Но-- не положен.
-- Ну, значит, не положен. Факт тот, что сорок второй год. Зима. Время,
сами помните, какое: после приказа... Между прочим, начальника этого особого
отдела Котовского я видел один раз. Тоже послали меня с донесением, самый
молодой был, гоняли меня. Сунулся в землянку -- там он сидит. Вот такой лоб
с залысинами, над каждой бровью, как желваки надулись. Глянул на меня
из-подо лба...-- Третьяков засмеялся.-- К нему, оказывается, должны были
мародера ввести, а тут я свою голову сунул...
Атраковский странным взглядом внимательно посмотрел на него, а все
засмеялись,'и Третьяков вместе со всеми-- еще раз. Всю эту историю он
рассказывал весело, как вообще рассказывают про фронт задним числом, что бы
там ни случилось...
-- С этим мародером вот что вышло... У нас там никак не могли взять
станцию Лычково. Один раз уже ворвались, на путях за составами стрельба шла.
Опять выбили пехоту. И вот курсантов пригнали, фронтовые курсы младших
лейтенантов. Все в дубленых полушубках, в валенках. А мороз-- больше сорока.
Раненые, кого вытащить не удалось, потом позамерзали на снегу. Так этот
ночью лазал часы обирать с убитых. Между прочим, разведчик нашего полка. Из
второго дивизиона,-- и Третьяков, когда говорил сейчас, ясно увидел заново,
как вели того мародера в широкой, без пояса, и, должно быть, без хлястика
шинели, его желтое в белый зимний день лицо, резко вырезанные ноздри
плоского носа, антрацитно поблескивающий пригнетенный взгляд. И как сам он
весь внутренне отстранился от этого человека.-- Ка-ак глянул на меня
Котовский из-подо лба!.. Вот ему майор Бряев стукнул про мое
членовредительство. А он не поверил. Я ведь в этот полк... Мне, в общем, лет
не хватало, я сам пошел. Он знал это и не поверил. Приказал оставить в
санчасти и лечить, а то, мол, пошлют в госпиталь, там тоже кто-нибудь такой
бдительный найдется... Я-то ничего не знал, только опять вижу, все
переменилось вокруг меня, переводят в санчасть. После уж писаря рассказали.
Китенев тем временем осторожно укрыл шинель одеялом, получилось, будто
спит человек, укрытый с головой. Полюбовался на свою работу.
-- Ребята, в случае чего -- "он спит". Будить не давайте: "У него сон
ужасно плохой. Разбудите-- до утра спать не будет"...
Выходя из палаты, столкнулся со Старыхом. Тот при-хромал к столу, сел:
-- Капитан, давай в шахматы сгоняем.
-- Расставляй,-- сказал Ройзман.
Все ходячие опять потянулись к столу-- смотреть. Старых расставлял на
доске, Ройзман все так же сидел на кровати, готовясь играть на память,
издали. Открытые глаза его блестели.
Несколько дней спустя, вечером в коридоре увидел Третьяков стоявшего у
окна Атраковского. Подошел, стал рядом. Хотелось ему расспросить про ту
девушку: кто она? придет ли еще?
-- Метет как! -- сказал он. За окном ничего не было видно, только у
самого стекла снег летел снизу вверх. А дальше все, как в дыму: ни вокзала,
ни фонарей. И холодом дышало от окна.
-- Метет,-- сказал Атраковский. Рядом в операционной шла операция. Там
ярко горел свет, на матовом стекле возникали силуэты.
-- Пехоте сейчас в окопах... Хуже нет-- воевать зимой. И весной тоже.--
Третьяков засмеялся.-- Нам еще повезло.
За окном в сплошной метели что-то смутно мерещилось или раскачивалось,
как тень. И оба они в своих госпитальных халатах отражались в стекле
изнутри.
-- Вы даже не понимаете, как вам повезло,-- сказал Атраковский.-- Всей
меры везения. Это защитное свойство молодости: не все понимать. Одно слово
стоило сказать, одно только слово... Даже не сказать, молча согласиться, и
вся ваша жизнь...-- Он говорил, не меняя выражения лица, одними губами. Со
стороны никто бы не определил, что он говорит.-- Смерть в бою покажется
прекрасной по сравнению с бесчестьем.
У Третьякова вдруг сжало в душе, как от испуга: спросить его про отца!
Атраковский мог знать, чего не знают другие. Но не спросил, побледнел
только. Отец его ни в чем не виноват, он знает, и все равно, когда касалось
отца, он и на себе чувствовал позорное пятно и пустоту, вокруг себя
возникавшую.
Из операционной выскочила сестра в белой марлевой косынке-- стук, стук,
стук каблуками,-- пробежала по коридору. За окном мело, как в целом мире.
 В тот вечер, когда они стояли у окна в коридоре, а за окном мело и
теплым казался желтый электрический свет в матовых стеклах операционной и
выскочившая оттуда сестра пробежала по коридору в белом халате,-- в тот
вечер ампутировали ногу артисту местного театра. Они еще стояли, когда его
вывезли оттуда, и прошел по коридору хирург, сдержанно-возбужденный,
профессиональным взглядом глянул на них, а потом в марле вынесли отрезанную
ногу: она была согнута в колене и без стопы.
Артист этот с бригадой артистов ездил на фронт выступать перед бойцами
и командирами и был ранен при бомбежке. Никто из офицеров, лежавших с
Третьяковым в палате, ни разу за всю войну не видел артистов на фронте. Они
приезжали и выступали, но где-то там, на аэродромах, во фронтовом тылу,
который для этих офицеров, тем более для бойцов, был почти такой же далью,
как тыловой госпиталь. Артисты всюду потом говорили, что побывали на
передовой, сами в это верили; возвратясь, в подаренных белых дубленых
полушубках расхаживали фронтовиками перед своими товарищами, которые
оставались здесь и не побывали, а фронтовикам все это смешно было слушать. И
потому, наверное, про то, как артисту отрезали ногу, рассказывалось в
госпитале больше со смехом, словно и в самом деле было что-то смешное в том,
что человек потерял ногу. Гоша, младший лейтенант, если разобраться, тоже
всего-то успел доехать до фронта, ни разу по немцу не выстрелил, но все
понимали и жалели его, навсегда загубленного войной. В общем счете войны,
когда самолеты и на фронте бомбят и за фронт летают, должны быть и такие,
кто даже и до фронта не доехал. Все это понятно -- и общий счет и
неизбежность таких потерь,-- понятно, пока речь про кого-то и эта потеря не
ты сам. Гоше, наверное, легче было бы, если б хоть знал, что не напрасно,
что хоть успел что-то совершить.
Недели через три, под самый Новый год, пришли в госпиталь местные
артисты с концертом, и перед сценой, на каталке, как на столе, на виду у
всех почетно лежал их товарищ, потерявший ногу на фронте.
Концерт уже начался, когда с шумом ввалились в коридор школьники,
которые тоже должны были выступать. Третьяков, сидевший у двери, услышал и
понял, что он все время ждал этого. Он дождался конца номера и вышел в
коридор. Толпой в белых халатах они стояли, говорили все разом:
-- Но зимой-то ведь собаки не кусаются!
-- Даже не лаяла, вот что интересно.
-- А почему именно Сашу?
-- Нет, почему именно ее?
-- Слушайте, она, может быть, бешеная?
-- Саша, не кусайся!
-- Смешно вам... А мне вот не смешно. Вон как чулок вырван. И почему-то
больно ужасно.
И тоже смеялась, чтоб не расплакаться. Она стояла одним валенком на
полу, над другой ее ногой нагнулась медсестра, а все обступили их. Саша...
Надышавшаяся с мороза, щеки разгорелись. В этом свежем снеговом воздухе,
который они внесли с собой, Третьяков особенно почувствовал запах госпиталя,
к которому притерпелся и не замечал: запах лекарств, госпитальной еды, плохо
проветриваемого помещения, где постоянно дышит столько больных людей. Он от
себя ощутил этот запах, от своего байкового стираного-перестираного халата.
Почувствовав чужой взгляд, девочка подняла мохнатые ресницы, такие
густые, что серые глаза ее показались черными, взглянула с той радостью
жизни, которая была в ней. И тут же словно тень прошла по ее лицу, в глазах
что-то затворилось, не впуская чужой взгляд в эту ее жизнь.
Потом, по оставшемуся впечатлению, она взглянула еще раз, уже с
интересом, но он этого не видел. Он вернулся в палату. Здесь были только
лежачие и несколько пустых кроватей. А за обеденным столом под электрической
лампочкой на ощупь брился капитан Ройзман.
-- Это вы, Третьяков?-- спросил он, узнав по шагам.-- Вы не поправите
мне виски?
-- Давайте попробую.
Ощупывающими движениями Ройзман нашел на столе помазок, намылил щеку.
Третьяков окунул бритву в стаканчик с теплой мыльной водой, хотел нагнуться,
но рана в боку не дала. Хотел присесть, не дала рана в ноге. А Ройзман ждал,
подставляя щеку.
-- Я согнуться не могу, вы встаньте,-- сказал Третьяков.
-- Сейчас, сейчас.
На двоих было у них три здоровых руки и два зрячих глаза. Ройзман
придерживал пальцами кожу у виска, Третьяков с опасной бритвой в руке
осторожно дышал у его костистого лица:
-- Держите... Сейчас... Брею. Отстранился, поглядел:
-- Еще вот здесь чуть-чуть.
Потом стал подбривать левый висок, и Ройзман другой рукой через голову
натягивал кожу. Прямо перед лицом были его осмысленно глядящие глаза. Они
следовали за ним, казалось они видят. И только зрачки не сходились к
переносью, когда Третьяков приближал лицо.
-- Вы меня не узнаете, товарищ капитан?-- спросил он, вытирая бритву о
халат на колене.
-- Что-то мне показалось по голосу...-- не сразу и неуверенно сказал
Ройзман. И стоял к нему лицом.
-- Помните, в училище вошли вы на занятия, дежурный курсант подал
команду, а вы услышали его петушиное "сми-ирно", подозвали к себе командира
взвода:
"Товарищ лейтенант, чтобы этот курсант больше никогда при мне команды
не подавал..."
-- Да, да, да,-- радостно вспоминал Ройзман.-- Это были вы?
-- Я.
-- Постойте, это было, значит...
-- А я вам точно скажу. Наступление под Сталинградом началось
девятнадцатого ноября. Соединились фронты двадцать третьего. Мы были на
вокзале в Москве и услышали сводку. Мы как раз с фронта ехали в училище, и
тут сводку передают. Потом в Куйбышеве мы трое суток пили. С нами старшина
был из Куйбышева, мы у него трое суток пробыли, пиво ведрами носили. Мы бы
еще гуляли, да у нас продукты кончились. Так вот, это был конец ноября. А в
декабре, в самом начале, я и подавал перед вами команду. Вы у нас артиллерию
преподавали.
-- Да, да, да...
-- А в конце января или в феврале вы от нас убыли.
-- Третьего февраля.
-- Ну, я же помню. Убыли на фронт. Только у вас еще тогда после ранения
одна нога в колене не сгибалась. Правая, по-моему? Вы еще с палочкой ходили.
-- Да, да, да,-- кивал Ройзман и улыбался. Потом спросил:-- Вы,
наверное, на меня обиделись в тот раз?
-- Тогда обиделся,-- честно сказал Третьяков.-- А теперь вот даже
вспомнить как-то приятно.
-- Ну что же, команды научились подавать?
-- Так ведь нас часами гоняли по плацу попарно. Идешь друг другу
навстречу: "Смирно! Напрра-ву! На-ли-иву! Крругом марш!.." И отбиваешь
строевым шагом. Теперь это на всю жизнь.
-- Мне что-то по голосу показалось вначале...
И опять Ройзман кивал, тихо улыбался, думал о своем. И Третьяков о
своем думал. "Есть во мне что-то противное,-- думал он и видел опять, как
девочка, взглянув на него, сразу нахмурилась.-- Что-то отталкивает от меня
людей, я знаю..."
Но, выкурив в коридоре папироску, опять пошел в зал. Места все были
заняты. Он стоял у дверей и смотрел, как артист на сцене изображает Гитлера.
С приклеенными усиками, с косой челкой на лбу, он припрыгивал, как обезьяна,
выкрикивал что-то бесноватое. В зале смеялись, стучали костылями в пол,
кричали: "Давай еще!"-- никак не хотели отпускать артиста, словно это и
правда живой Гитлер отдан им на потеху. И отчего-то Третьякову было сейчас
стыдно за них и стыдно за себя. До Гитлера еще-- фронт и тыл, и не одну
дивизию вышлет он оттуда к фронту, и пехотную и танковую. И многих из тех,
что смеются сейчас самозабвенно, может быть, и на свете не будет к тому
времени. Он сам толком не знал, почему ему стыдно, но в этой простодушной
потехе, в недосягаемости Гитлера было что-то такое, что унижало его,
Третьякова, в собственных глазах. А может быть, просто у него настроение
сейчас такое'.
Когда на сцену вышла эта девочка в валенках, в белом халате, а двое
мальчишек с мандолиной и балалайкой вышли за ней, как почетная стража, сели
на краешки табуреток, она кивнула, мальчишки, согласно тряхнув чубами,
ударили по струнам, и она запела, Третьяков, словно испугавшись чего-то,
поспешно опустил глаза. И стоял так, волнуясь все больше, чувствуя мурашки
по щекам. Песнь рассказывала про то, что и ему виделось не однажды:
Ты ждешь, Лизавета, от друга привета
И не спишь до рассвета, асе грустишь обо мне,
Одержим победу, к тебе я приеду
На горячем боевом коне...
Неважно, что не так виделось и не такая война шла: не на горячих боевых
конях, а проще и страшней, все равно песня волновала и грустно становилось.
Кроме матери и сестренки, некому его ни встречать, ни грустить о нем. И
отчего-то совсем расстроили хвастливые слова песни: "Улыбнись, повстречая,
был я храбрым в бою..." Да, такая девочка может спросить: был ты храбрым в
бою? Стоя у дверей, глядя в пол, он дослушал песню до конца.
Потом лежал в палате, думал. И ворочался, и все никак улечься не мог, и
уже не знал, душа это ноет или раны разболелись, которые растревожил. И
вспомнился ему лейтенант Афанасьев, который на Северо-Западном в их полку
позорно застрелился из-за любви. Двое суток никто ничего не знал о нем, и
пошел даже слух, что он перебежал к немцам. Нашли его в километре от огневых
позиций. В бязевых кальсонах с завязками на щиколотках, в суконной
гимнастерке, лежал он в талой снеговой воде в лесу. Кисть правой руки, в
которой зажат был пистолет, вся исцарапана, висок обожжен выстрелом.
Его и жалели и ругали. На фронте, где стольких убивает каждый день,
застрелиться самому... Не хочешь жить, вон -- немцы, иди убивай. А эта,
из-за которой он застрелился, жила с командиром дивизиона: у комдива была
своя отдельная землянка. Ходила она в ватных брюках, шлепала сапогами по
воде, голос от табака сиплый. И вот из-за нее смелый красивый парень сам
себя жизни лишил. Но теперь подумалось: а может, он совсем не такой видел
ее, какой видели ее все? И совсем другое про нее знал?
Через несколько дней они сидели с Сашей на подоконнике в коридоре, и
Саша рассказывала ему о его ровеснике, которого тоже звали Володей и который
погиб два месяца назад.
-- Мне его товарищ написал, он видел, как Володин танк загорелся. Они
сюда вместе приезжали после училища, Володя и Игорь, и условились: если что
случится, написать. И он мне написал. Все успели выскочить из танка, и
Володя тоже выскочил, когда загорелся танк. Но он лег и начал
отстреливаться, чтобы все могли убежать. Может быть, если бы он тоже побежал
сразу... Но он был командир танка.
-- Это не угадаешь,-- сказал Третьяков. Для нее сказал. А про себя
подумал: еще хорошо, если все так было, как написали ей. Хуже, если сгорел в
танке.-- Тут невозможно угадать. Вот у меня боец ни за что не хотел вылезать
из окопа. Что-то случилось с ним, это бывает. Страх нашел, не мог вылезти, и
только. Те, кто вылез, живы, а он погиб. Прямое попадание в окоп. Это
вообще-то редкость: прямое попадание. А вот такая его судьба.
-- Ему как раз девятнадцать исполнилось.-- Она посмотрела на
Третьякова, сравнивая.-- Вам уже двадцать лет?
Он кивнул. Ему еще не было двадцати, но было приятно в ее глазах
выглядеть на год старше.
-- А ему исполнилось девятнадцать. Он, когда получил извещение, что
отец убит, он скрыл от матери, он только Женьке сказал, младшему брату. Они
оба очень любили мать. Она большая, красивая женщина. Такое русское, русское
лицо. Но и что-то цыганское, может быть. А сыновья на нее похожи. Оба с
карими глазами, волосы у обоих густые и вились.
Она посмотрела на его волосы; он стоял перед ней, и она снизу вверх
посмотрела. Нет, у него и не черные, неизвестно какие отрастают из-под
стрижки. Лялька, глупенькая, преданная его сестренка, для которой все в нем
хорошо, приложит, бывало, к его волосам кончик своей косы: "Мам, почему у
меня волосы не такие, как у Володьки? Почему он у нас красивый, а я
некрасивая?"
Глаза у Саши взволнованно блестели, как в тот раз, когда она
рассказывала Атраковскому:
-- ...Мать так просила его: "Пойми, мне ничего не стоит. Ты по закону
имеешь право, ты можешь не идти". Но он прямо как железный. Она
действительно все могла. Буханка хлеба на базаре-- восемьсот рублей. Бутылка
водки -- восемьсот рублей. А она начальник орса. Она все могла. Но он скрыл
от медкомиссии, что у него астма, что у него бывают приступы. И матери
запретил. Он сказал ей: "Если меня забракуют, знай, ты мне врагом станешь на
всю жизнь". Она теперь не может себе простить.
По коридору прошла медсестра Тамара Горб, несла горячий автоклав в
полотенцах, посмотрела на них на обоих. Саша спрыгнула с подоконника, стояла
в своих подшитых валенках, пока Тамара проходила. Была она ему до плеча, как
раз бы доставала раньше головою до погона. Две пепельные ее косы, каждая
толщиною в руку,-- ниже пояса. Стриженая Тамара, проходя, посмотрела на эти
косы.
Из кармана, из помятой пачки "Бокс", Третьяков достал папироску. Ему не
столько хотелось курить, как он стыдился несвежего госпитального запаха,
который все время чувствовал от своего халата.
-- Давайте я пойду поищу огня,-- просто предложила Саша и хотела взять
у него папироску-- идти прикуривать: она уже привыкла тут ухаживать за
ранеными.
-- Сейчас выйдет кто-нибудь,-- сказал он. Действительно, появился в
конце коридора согнутый пополам раненый. Незапахнутый его халат отвисал до
полу. От ткнулся головой к черному стеклу, и сейчас же в оконном проеме
потянулся от его затылка вверх сизоватый дымок. Третьяков прикурил у него.
Когда возвращался, дверь палаты спинальников, в которую прошла Тамара, была
приоткрыта. На крайней койке раненый разглядывал себя в маленьком зеркальце.
Он лежал навзничь, водил над собой зеркальцем в руке, брал в щепоть не
отросшие на стриженой голове волосы, разглядывал, пытался причесывать их.
Этот раненый, парнишка-минометчик, был еще моложе Гоши. Осколок задел ему
позвоночник, и весь он от пояса вниз был парализован.
Папироса догорела раньше, чем он успел вернуться, Саша помогла ему
прикурить от нее другую.
-- Вот и Володя Худяков на перроне тоже вот так одну за другой курил,--
сказала она.-- Бросит и закуривает, бросит и закуривает. Мне мать простить
не может, что он такой расстроенный уехал. Он в дверях стоял, когда поезд
тронулся, и мне в этот момент страшно за него стало. Я прямо почувствовала,
что с ним что-то случится, такое у него было лицо.
-- Это сейчас кажется,-- сказал Третьяков, а у самого радостно
отозвалось: "Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал".--
Ничего никому не известно заранее.
-- Нет, предчувствия бывают.
-- Бывают, только сбывается одно из тысячи. И хорошо, что никому ничего
про себя не известно заранее. Если б знали, воевать бы не смогли. А так
каждый надеется.
Он видел, она хочет верить, а все равно будет винить себя; живые всегда
виноваты перед теми, кого нет.
Он стоял у окна и смотрел, как они все собрались под фонарем во дворе
бывшей своей школы, как шли гурьбой через двор. На Саше была тесная шубка,
из которой она выросла. Третьяков ждал, что она обернется, посмотрит на
окна. Кто-то отставший догонял их, и они все весело побежали от него. Еще
раз остановились, пережидая маневровый паровоз. Саша так и не обернулась. Он
стоял, смотрел, как они идут через освещенные пути, перепрыгивают рельсы.
-- Володя! -- позвала его Тамара Горб. Тамаре за тридцать, и она
выдумала себе совершенно безумную любовь к Китеневу и сейчас будет
жаловаться на него. Он подошел, осторожно вытягивая раненую ногу, сел за ее
столик.
-- Ну1
Тамара смотрела на него, а выпуклые, черные, маленькие глаза ее уже
набухали слезами, увеличивались. Слезы пролились сразу из обоих глаз, просто
перелились через край.
-- Зачем же ж так нехорошо поступать? -- говорила Тамара, промокая
марлевым тампоном слезы на столе.-- Зачем же ж он с живым человеком так
поступает? Я ж ничего не требую, но ты скажи! Пришла давать лекарство, а
вместо него шинель под одеялкой... Ну? И я ж ему ту шинель, тот бушлат ему
доставала. Для того я доставала? Мороз вон двадцать четыре на градуснике, в
чем он пошел?
У Тамары лицо, как у цыганской богоматери, если только своя богоматерь
есть у цыган. Желтый угловатый лоб обтянут глянцевой кожей, и некрасива
Тамара безнадежно, потому и выдумала себе эту безумную любовь. Но когда вот
так плачет, глаза ее со слезами удивительно хороши. Завтра она увидит
Китенева, улыбнется он мимолетно, и все забудет Тамара, все простит.
-- ...Она ж теперь сама ко мне пришла. То ходила выше всех, никого не
замечала, а то сама пришла: "Тамарочка, как ты была права, как я в нем
жестоко ошиблась!.."
И в горьком сознании своей правоты, хоть в этом была для Тамары своя
сладость.
Мокрым марлевым тампоном Тамара вытирает последние слезы на столе, на
щеках они уже сами высохли. И глаза опять ясные, как летний вечер после
дождя.
-- Ты ж, Володичка, ничего ему не рассказывай, ладно?
И бежит на легких ногах делать уколы.
Такое, видно, его назначение здесь: ему рассказывают и тем облегчают
себе душу, а он слушает. Рассказывают, будто он уже прожил свою жизнь, или
как попутчику в поезде, перед которым не стыдно: сойдет на остановке и
унесет с собой.
Он вернулся в палату. Здесь, как всегда вечером, играли в шахматы.
Похаживал из угла в угол капитан Атраковский, осторожно покашливал в горсть.
Рука у него большая, ширококостная, когда-то она сильной была, эта его рука.
Атраковский глянул на него с интересом, но ничего не спросил, опять стал
удаляться.
Свет в палате тусклый, читать вечером почти невозможно. Да и не
читается в госпитале почему-то, ненастоящим каким-то всЈ выглядит в книгах.
А вот Атраковский читает. Все подряд читает: газеты, книги. Прошлый раз
увидал у него Шекспира: "Король Лир". Даже руки затряслись, когда брал
книгу, вдруг домом повеяло. У отца в книжном шкафу стояли рядом за стеклом
Шекспир и Шиллер. Тяжелые темно-зеленые тома, кожаные корешки, картинки под
папиросной бумагой. Он их еще в школе прочел, а картинки рассматривал, когда
и читать не умел. Начал сейчас читать-- ничего не понимает. Слова все
понятны, но из-за чего трагедия, не может понять. Неужели так отупел за
войну? Или раньше чего-то главного не понимал? А ведь сколько веков прошло,
люди все переживают за этого короля, как он, безумный, ходил по степи. И он
мальчишкой переживал.
Попалась на глаза ремарка: "За сценой шум битвы. Проходят с барабанами
Лир, Корделия и их войско..." -- и тут как споткнулся. Шум битвы. Ведь это
убитые лежат там, за сценой истории. И побили друг друга неизвестно за что:
король не так поделил наследство между своими дочерьми, а эти убиты. Но
переживают не за них, как будто они и не люди, а за короля...
В углу палаты отдельно ото всех сидят Гоша и Старых. Гоша, как всегда,
поджал ноги по-турецки, сидит посреди кровати. Старых с соседней койки
наклонился к нему, поскребывает свою коричневую лысину, что-то тихо говорит.
Гоша в палате -- старожил, и койка его у окна считается самая лучшая. Долго
он перекочевывал к ней, пока не освободилась. А выписываться ему из
госпиталя некуда, никто его не ждет: Гоша-- детдомовец, родителей своих даже
не помнит. На войну уходил -- радовался, контузило-- из госпиталя на фронт
убежал. А в тыл, в жизнь возвращаться боится. Так и осталось для него мигом
несбывшимся, единственным, как он два раза убегал на фронт воевать.
Третьяков лег поверх одеяла, с трудом уложил себя по частям: руку
раненую, ногу, пробитый бок. Движется по стене тень Атраковского. Отчего ему
сегодня всех жаль? Гошу жаль, Тамару жаль и жаль, так жаль эту девочку с
косами.
В тот вечер, когда они стояли у окна в коридоре, а за окном мело и
теплым казался желтый электрический свет в матовых стеклах операционной и
выскочившая оттуда сестра пробежала по коридору в белом халате,-- в тот
вечер ампутировали ногу артисту местного театра. Они еще стояли, когда его
вывезли оттуда, и прошел по коридору хирург, сдержанно-возбужденный,
профессиональным взглядом глянул на них, а потом в марле вынесли отрезанную
ногу: она была согнута в колене и без стопы.
Артист этот с бригадой артистов ездил на фронт выступать перед бойцами
и командирами и был ранен при бомбежке. Никто из офицеров, лежавших с
Третьяковым в палате, ни разу за всю войну не видел артистов на фронте. Они
приезжали и выступали, но где-то там, на аэродромах, во фронтовом тылу,
который для этих офицеров, тем более для бойцов, был почти такой же далью,
как тыловой госпиталь. Артисты всюду потом говорили, что побывали на
передовой, сами в это верили; возвратясь, в подаренных белых дубленых
полушубках расхаживали фронтовиками перед своими товарищами, которые
оставались здесь и не побывали, а фронтовикам все это смешно было слушать. И
потому, наверное, про то, как артисту отрезали ногу, рассказывалось в
госпитале больше со смехом, словно и в самом деле было что-то смешное в том,
что человек потерял ногу. Гоша, младший лейтенант, если разобраться, тоже
всего-то успел доехать до фронта, ни разу по немцу не выстрелил, но все
понимали и жалели его, навсегда загубленного войной. В общем счете войны,
когда самолеты и на фронте бомбят и за фронт летают, должны быть и такие,
кто даже и до фронта не доехал. Все это понятно -- и общий счет и
неизбежность таких потерь,-- понятно, пока речь про кого-то и эта потеря не
ты сам. Гоше, наверное, легче было бы, если б хоть знал, что не напрасно,
что хоть успел что-то совершить.
Недели через три, под самый Новый год, пришли в госпиталь местные
артисты с концертом, и перед сценой, на каталке, как на столе, на виду у
всех почетно лежал их товарищ, потерявший ногу на фронте.
Концерт уже начался, когда с шумом ввалились в коридор школьники,
которые тоже должны были выступать. Третьяков, сидевший у двери, услышал и
понял, что он все время ждал этого. Он дождался конца номера и вышел в
коридор. Толпой в белых халатах они стояли, говорили все разом:
-- Но зимой-то ведь собаки не кусаются!
-- Даже не лаяла, вот что интересно.
-- А почему именно Сашу?
-- Нет, почему именно ее?
-- Слушайте, она, может быть, бешеная?
-- Саша, не кусайся!
-- Смешно вам... А мне вот не смешно. Вон как чулок вырван. И почему-то
больно ужасно.
И тоже смеялась, чтоб не расплакаться. Она стояла одним валенком на
полу, над другой ее ногой нагнулась медсестра, а все обступили их. Саша...
Надышавшаяся с мороза, щеки разгорелись. В этом свежем снеговом воздухе,
который они внесли с собой, Третьяков особенно почувствовал запах госпиталя,
к которому притерпелся и не замечал: запах лекарств, госпитальной еды, плохо
проветриваемого помещения, где постоянно дышит столько больных людей. Он от
себя ощутил этот запах, от своего байкового стираного-перестираного халата.
Почувствовав чужой взгляд, девочка подняла мохнатые ресницы, такие
густые, что серые глаза ее показались черными, взглянула с той радостью
жизни, которая была в ней. И тут же словно тень прошла по ее лицу, в глазах
что-то затворилось, не впуская чужой взгляд в эту ее жизнь.
Потом, по оставшемуся впечатлению, она взглянула еще раз, уже с
интересом, но он этого не видел. Он вернулся в палату. Здесь были только
лежачие и несколько пустых кроватей. А за обеденным столом под электрической
лампочкой на ощупь брился капитан Ройзман.
-- Это вы, Третьяков?-- спросил он, узнав по шагам.-- Вы не поправите
мне виски?
-- Давайте попробую.
Ощупывающими движениями Ройзман нашел на столе помазок, намылил щеку.
Третьяков окунул бритву в стаканчик с теплой мыльной водой, хотел нагнуться,
но рана в боку не дала. Хотел присесть, не дала рана в ноге. А Ройзман ждал,
подставляя щеку.
-- Я согнуться не могу, вы встаньте,-- сказал Третьяков.
-- Сейчас, сейчас.
На двоих было у них три здоровых руки и два зрячих глаза. Ройзман
придерживал пальцами кожу у виска, Третьяков с опасной бритвой в руке
осторожно дышал у его костистого лица:
-- Держите... Сейчас... Брею. Отстранился, поглядел:
-- Еще вот здесь чуть-чуть.
Потом стал подбривать левый висок, и Ройзман другой рукой через голову
натягивал кожу. Прямо перед лицом были его осмысленно глядящие глаза. Они
следовали за ним, казалось они видят. И только зрачки не сходились к
переносью, когда Третьяков приближал лицо.
-- Вы меня не узнаете, товарищ капитан?-- спросил он, вытирая бритву о
халат на колене.
-- Что-то мне показалось по голосу...-- не сразу и неуверенно сказал
Ройзман. И стоял к нему лицом.
-- Помните, в училище вошли вы на занятия, дежурный курсант подал
команду, а вы услышали его петушиное "сми-ирно", подозвали к себе командира
взвода:
"Товарищ лейтенант, чтобы этот курсант больше никогда при мне команды
не подавал..."
-- Да, да, да,-- радостно вспоминал Ройзман.-- Это были вы?
-- Я.
-- Постойте, это было, значит...
-- А я вам точно скажу. Наступление под Сталинградом началось
девятнадцатого ноября. Соединились фронты двадцать третьего. Мы были на
вокзале в Москве и услышали сводку. Мы как раз с фронта ехали в училище, и
тут сводку передают. Потом в Куйбышеве мы трое суток пили. С нами старшина
был из Куйбышева, мы у него трое суток пробыли, пиво ведрами носили. Мы бы
еще гуляли, да у нас продукты кончились. Так вот, это был конец ноября. А в
декабре, в самом начале, я и подавал перед вами команду. Вы у нас артиллерию
преподавали.
-- Да, да, да...
-- А в конце января или в феврале вы от нас убыли.
-- Третьего февраля.
-- Ну, я же помню. Убыли на фронт. Только у вас еще тогда после ранения
одна нога в колене не сгибалась. Правая, по-моему? Вы еще с палочкой ходили.
-- Да, да, да,-- кивал Ройзман и улыбался. Потом спросил:-- Вы,
наверное, на меня обиделись в тот раз?
-- Тогда обиделся,-- честно сказал Третьяков.-- А теперь вот даже
вспомнить как-то приятно.
-- Ну что же, команды научились подавать?
-- Так ведь нас часами гоняли по плацу попарно. Идешь друг другу
навстречу: "Смирно! Напрра-ву! На-ли-иву! Крругом марш!.." И отбиваешь
строевым шагом. Теперь это на всю жизнь.
-- Мне что-то по голосу показалось вначале...
И опять Ройзман кивал, тихо улыбался, думал о своем. И Третьяков о
своем думал. "Есть во мне что-то противное,-- думал он и видел опять, как
девочка, взглянув на него, сразу нахмурилась.-- Что-то отталкивает от меня
людей, я знаю..."
Но, выкурив в коридоре папироску, опять пошел в зал. Места все были
заняты. Он стоял у дверей и смотрел, как артист на сцене изображает Гитлера.
С приклеенными усиками, с косой челкой на лбу, он припрыгивал, как обезьяна,
выкрикивал что-то бесноватое. В зале смеялись, стучали костылями в пол,
кричали: "Давай еще!"-- никак не хотели отпускать артиста, словно это и
правда живой Гитлер отдан им на потеху. И отчего-то Третьякову было сейчас
стыдно за них и стыдно за себя. До Гитлера еще-- фронт и тыл, и не одну
дивизию вышлет он оттуда к фронту, и пехотную и танковую. И многих из тех,
что смеются сейчас самозабвенно, может быть, и на свете не будет к тому
времени. Он сам толком не знал, почему ему стыдно, но в этой простодушной
потехе, в недосягаемости Гитлера было что-то такое, что унижало его,
Третьякова, в собственных глазах. А может быть, просто у него настроение
сейчас такое'.
Когда на сцену вышла эта девочка в валенках, в белом халате, а двое
мальчишек с мандолиной и балалайкой вышли за ней, как почетная стража, сели
на краешки табуреток, она кивнула, мальчишки, согласно тряхнув чубами,
ударили по струнам, и она запела, Третьяков, словно испугавшись чего-то,
поспешно опустил глаза. И стоял так, волнуясь все больше, чувствуя мурашки
по щекам. Песнь рассказывала про то, что и ему виделось не однажды:
Ты ждешь, Лизавета, от друга привета
И не спишь до рассвета, асе грустишь обо мне,
Одержим победу, к тебе я приеду
На горячем боевом коне...
Неважно, что не так виделось и не такая война шла: не на горячих боевых
конях, а проще и страшней, все равно песня волновала и грустно становилось.
Кроме матери и сестренки, некому его ни встречать, ни грустить о нем. И
отчего-то совсем расстроили хвастливые слова песни: "Улыбнись, повстречая,
был я храбрым в бою..." Да, такая девочка может спросить: был ты храбрым в
бою? Стоя у дверей, глядя в пол, он дослушал песню до конца.
Потом лежал в палате, думал. И ворочался, и все никак улечься не мог, и
уже не знал, душа это ноет или раны разболелись, которые растревожил. И
вспомнился ему лейтенант Афанасьев, который на Северо-Западном в их полку
позорно застрелился из-за любви. Двое суток никто ничего не знал о нем, и
пошел даже слух, что он перебежал к немцам. Нашли его в километре от огневых
позиций. В бязевых кальсонах с завязками на щиколотках, в суконной
гимнастерке, лежал он в талой снеговой воде в лесу. Кисть правой руки, в
которой зажат был пистолет, вся исцарапана, висок обожжен выстрелом.
Его и жалели и ругали. На фронте, где стольких убивает каждый день,
застрелиться самому... Не хочешь жить, вон -- немцы, иди убивай. А эта,
из-за которой он застрелился, жила с командиром дивизиона: у комдива была
своя отдельная землянка. Ходила она в ватных брюках, шлепала сапогами по
воде, голос от табака сиплый. И вот из-за нее смелый красивый парень сам
себя жизни лишил. Но теперь подумалось: а может, он совсем не такой видел
ее, какой видели ее все? И совсем другое про нее знал?
Через несколько дней они сидели с Сашей на подоконнике в коридоре, и
Саша рассказывала ему о его ровеснике, которого тоже звали Володей и который
погиб два месяца назад.
-- Мне его товарищ написал, он видел, как Володин танк загорелся. Они
сюда вместе приезжали после училища, Володя и Игорь, и условились: если что
случится, написать. И он мне написал. Все успели выскочить из танка, и
Володя тоже выскочил, когда загорелся танк. Но он лег и начал
отстреливаться, чтобы все могли убежать. Может быть, если бы он тоже побежал
сразу... Но он был командир танка.
-- Это не угадаешь,-- сказал Третьяков. Для нее сказал. А про себя
подумал: еще хорошо, если все так было, как написали ей. Хуже, если сгорел в
танке.-- Тут невозможно угадать. Вот у меня боец ни за что не хотел вылезать
из окопа. Что-то случилось с ним, это бывает. Страх нашел, не мог вылезти, и
только. Те, кто вылез, живы, а он погиб. Прямое попадание в окоп. Это
вообще-то редкость: прямое попадание. А вот такая его судьба.
-- Ему как раз девятнадцать исполнилось.-- Она посмотрела на
Третьякова, сравнивая.-- Вам уже двадцать лет?
Он кивнул. Ему еще не было двадцати, но было приятно в ее глазах
выглядеть на год старше.
-- А ему исполнилось девятнадцать. Он, когда получил извещение, что
отец убит, он скрыл от матери, он только Женьке сказал, младшему брату. Они
оба очень любили мать. Она большая, красивая женщина. Такое русское, русское
лицо. Но и что-то цыганское, может быть. А сыновья на нее похожи. Оба с
карими глазами, волосы у обоих густые и вились.
Она посмотрела на его волосы; он стоял перед ней, и она снизу вверх
посмотрела. Нет, у него и не черные, неизвестно какие отрастают из-под
стрижки. Лялька, глупенькая, преданная его сестренка, для которой все в нем
хорошо, приложит, бывало, к его волосам кончик своей косы: "Мам, почему у
меня волосы не такие, как у Володьки? Почему он у нас красивый, а я
некрасивая?"
Глаза у Саши взволнованно блестели, как в тот раз, когда она
рассказывала Атраковскому:
-- ...Мать так просила его: "Пойми, мне ничего не стоит. Ты по закону
имеешь право, ты можешь не идти". Но он прямо как железный. Она
действительно все могла. Буханка хлеба на базаре-- восемьсот рублей. Бутылка
водки -- восемьсот рублей. А она начальник орса. Она все могла. Но он скрыл
от медкомиссии, что у него астма, что у него бывают приступы. И матери
запретил. Он сказал ей: "Если меня забракуют, знай, ты мне врагом станешь на
всю жизнь". Она теперь не может себе простить.
По коридору прошла медсестра Тамара Горб, несла горячий автоклав в
полотенцах, посмотрела на них на обоих. Саша спрыгнула с подоконника, стояла
в своих подшитых валенках, пока Тамара проходила. Была она ему до плеча, как
раз бы доставала раньше головою до погона. Две пепельные ее косы, каждая
толщиною в руку,-- ниже пояса. Стриженая Тамара, проходя, посмотрела на эти
косы.
Из кармана, из помятой пачки "Бокс", Третьяков достал папироску. Ему не
столько хотелось курить, как он стыдился несвежего госпитального запаха,
который все время чувствовал от своего халата.
-- Давайте я пойду поищу огня,-- просто предложила Саша и хотела взять
у него папироску-- идти прикуривать: она уже привыкла тут ухаживать за
ранеными.
-- Сейчас выйдет кто-нибудь,-- сказал он. Действительно, появился в
конце коридора согнутый пополам раненый. Незапахнутый его халат отвисал до
полу. От ткнулся головой к черному стеклу, и сейчас же в оконном проеме
потянулся от его затылка вверх сизоватый дымок. Третьяков прикурил у него.
Когда возвращался, дверь палаты спинальников, в которую прошла Тамара, была
приоткрыта. На крайней койке раненый разглядывал себя в маленьком зеркальце.
Он лежал навзничь, водил над собой зеркальцем в руке, брал в щепоть не
отросшие на стриженой голове волосы, разглядывал, пытался причесывать их.
Этот раненый, парнишка-минометчик, был еще моложе Гоши. Осколок задел ему
позвоночник, и весь он от пояса вниз был парализован.
Папироса догорела раньше, чем он успел вернуться, Саша помогла ему
прикурить от нее другую.
-- Вот и Володя Худяков на перроне тоже вот так одну за другой курил,--
сказала она.-- Бросит и закуривает, бросит и закуривает. Мне мать простить
не может, что он такой расстроенный уехал. Он в дверях стоял, когда поезд
тронулся, и мне в этот момент страшно за него стало. Я прямо почувствовала,
что с ним что-то случится, такое у него было лицо.
-- Это сейчас кажется,-- сказал Третьяков, а у самого радостно
отозвалось: "Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал".--
Ничего никому не известно заранее.
-- Нет, предчувствия бывают.
-- Бывают, только сбывается одно из тысячи. И хорошо, что никому ничего
про себя не известно заранее. Если б знали, воевать бы не смогли. А так
каждый надеется.
Он видел, она хочет верить, а все равно будет винить себя; живые всегда
виноваты перед теми, кого нет.
Он стоял у окна и смотрел, как они все собрались под фонарем во дворе
бывшей своей школы, как шли гурьбой через двор. На Саше была тесная шубка,
из которой она выросла. Третьяков ждал, что она обернется, посмотрит на
окна. Кто-то отставший догонял их, и они все весело побежали от него. Еще
раз остановились, пережидая маневровый паровоз. Саша так и не обернулась. Он
стоял, смотрел, как они идут через освещенные пути, перепрыгивают рельсы.
-- Володя! -- позвала его Тамара Горб. Тамаре за тридцать, и она
выдумала себе совершенно безумную любовь к Китеневу и сейчас будет
жаловаться на него. Он подошел, осторожно вытягивая раненую ногу, сел за ее
столик.
-- Ну1
Тамара смотрела на него, а выпуклые, черные, маленькие глаза ее уже
набухали слезами, увеличивались. Слезы пролились сразу из обоих глаз, просто
перелились через край.
-- Зачем же ж так нехорошо поступать? -- говорила Тамара, промокая
марлевым тампоном слезы на столе.-- Зачем же ж он с живым человеком так
поступает? Я ж ничего не требую, но ты скажи! Пришла давать лекарство, а
вместо него шинель под одеялкой... Ну? И я ж ему ту шинель, тот бушлат ему
доставала. Для того я доставала? Мороз вон двадцать четыре на градуснике, в
чем он пошел?
У Тамары лицо, как у цыганской богоматери, если только своя богоматерь
есть у цыган. Желтый угловатый лоб обтянут глянцевой кожей, и некрасива
Тамара безнадежно, потому и выдумала себе эту безумную любовь. Но когда вот
так плачет, глаза ее со слезами удивительно хороши. Завтра она увидит
Китенева, улыбнется он мимолетно, и все забудет Тамара, все простит.
-- ...Она ж теперь сама ко мне пришла. То ходила выше всех, никого не
замечала, а то сама пришла: "Тамарочка, как ты была права, как я в нем
жестоко ошиблась!.."
И в горьком сознании своей правоты, хоть в этом была для Тамары своя
сладость.
Мокрым марлевым тампоном Тамара вытирает последние слезы на столе, на
щеках они уже сами высохли. И глаза опять ясные, как летний вечер после
дождя.
-- Ты ж, Володичка, ничего ему не рассказывай, ладно?
И бежит на легких ногах делать уколы.
Такое, видно, его назначение здесь: ему рассказывают и тем облегчают
себе душу, а он слушает. Рассказывают, будто он уже прожил свою жизнь, или
как попутчику в поезде, перед которым не стыдно: сойдет на остановке и
унесет с собой.
Он вернулся в палату. Здесь, как всегда вечером, играли в шахматы.
Похаживал из угла в угол капитан Атраковский, осторожно покашливал в горсть.
Рука у него большая, ширококостная, когда-то она сильной была, эта его рука.
Атраковский глянул на него с интересом, но ничего не спросил, опять стал
удаляться.
Свет в палате тусклый, читать вечером почти невозможно. Да и не
читается в госпитале почему-то, ненастоящим каким-то всЈ выглядит в книгах.
А вот Атраковский читает. Все подряд читает: газеты, книги. Прошлый раз
увидал у него Шекспира: "Король Лир". Даже руки затряслись, когда брал
книгу, вдруг домом повеяло. У отца в книжном шкафу стояли рядом за стеклом
Шекспир и Шиллер. Тяжелые темно-зеленые тома, кожаные корешки, картинки под
папиросной бумагой. Он их еще в школе прочел, а картинки рассматривал, когда
и читать не умел. Начал сейчас читать-- ничего не понимает. Слова все
понятны, но из-за чего трагедия, не может понять. Неужели так отупел за
войну? Или раньше чего-то главного не понимал? А ведь сколько веков прошло,
люди все переживают за этого короля, как он, безумный, ходил по степи. И он
мальчишкой переживал.
Попалась на глаза ремарка: "За сценой шум битвы. Проходят с барабанами
Лир, Корделия и их войско..." -- и тут как споткнулся. Шум битвы. Ведь это
убитые лежат там, за сценой истории. И побили друг друга неизвестно за что:
король не так поделил наследство между своими дочерьми, а эти убиты. Но
переживают не за них, как будто они и не люди, а за короля...
В углу палаты отдельно ото всех сидят Гоша и Старых. Гоша, как всегда,
поджал ноги по-турецки, сидит посреди кровати. Старых с соседней койки
наклонился к нему, поскребывает свою коричневую лысину, что-то тихо говорит.
Гоша в палате -- старожил, и койка его у окна считается самая лучшая. Долго
он перекочевывал к ней, пока не освободилась. А выписываться ему из
госпиталя некуда, никто его не ждет: Гоша-- детдомовец, родителей своих даже
не помнит. На войну уходил -- радовался, контузило-- из госпиталя на фронт
убежал. А в тыл, в жизнь возвращаться боится. Так и осталось для него мигом
несбывшимся, единственным, как он два раза убегал на фронт воевать.
Третьяков лег поверх одеяла, с трудом уложил себя по частям: руку
раненую, ногу, пробитый бок. Движется по стене тень Атраковского. Отчего ему
сегодня всех жаль? Гошу жаль, Тамару жаль и жаль, так жаль эту девочку с
косами.
 Дни заметно стали прибавляться, и в один из солнечных январских дней
проводили Гошу. Он еще позавтракал вместе со всеми в палате, и этот завтрак
его здесь был последний. Ушел Гоша и вернулся обмундированный. Они стояли в
халатах, в госпитальных тапочках, а он уже в сапогах, в шинели, шапку держал
в руке, словно снял ее перед ними.
Пронизанный утренним солнцем, искрился, обтаивал лед на стеклах;
крашеный пол блестел, как свежевымытый, и кровати стали выше над полом--
солнце и тонкие тени ножек под ними. Никем не занятая пустовала Гоши-на
койка. Он посмотрел на нее от дверей: уже и простыни сняты с тюфяка, подушка
без наволочки.
Пошуршав газеткой, подошел Китенев, сунул Гоше сверток за пазуху:
-- Некоторым штатским!
Гоша понял, замычал, затрясся, хотел выдернуть из-за пазухи, но Китенев
держал кисти его рук; вроде и не крепко держал, но не вырвешься:
-- Бери, бери, на гражданку идешь. Ладно, чего там!
Это собрали по палате, что проиграл Гоша в карты в последние дни. В
картах не было ему счастья, быть может, в мирной жизни в любви повезет.
Сквозь проталину в стекле было видно, как снаружи в безветрии опускался
редкий снег: каждая снежинка подолгу летала в воздухе. Вот Гоша вышел к
воротам, резиновые подошвы печатали за ним четкий след. От ворот-- и
направо, и налево, и прямо-- все дороги лежат перед ним. А он стоял, ни на
одну не решаясь ступить. Сверкало солнце, снег садился ему на шапку, на
плечи, еще украшенные погонами. По погонам -- младший лейтенант, по годам
ему еще призываться рано. А он уже отвоевал свое.
Без Гоши невесело стало, каждый задумался о себе. Среди дня где-то
умудрился напиться Старых, кричал, что все они здесь ненастоящие раненые, он
один настоящий, махал костылем, и налитые глаза были бешеными. Силой уложили
его спать.
А ближе к вечеру открылась дверь палаты, и в закатном свете из
коридора, как в розовом дыму, затоптались, затоптались на пороге двое
санитаров, разворачиваясь с носилками, и внесли на Гошину койку нового
раненого. Из свежих бинтов, как из высокого шлема, глядело желтое лицо,
желтый горбатый нос. Раненый лежал тихо, открывал и закрывал устало черные,
похоже, армянские глаза с голубыми белками. Тут же стало известно -- и
трудно было в это поверить,-- что пуля навылет прошла у него через голову,
через мозг: над этим ухом вошла, над этим вышла. А он-- живой, только
тихий-тихий, совсем покорный.
В коридоре, вынеся на ваточке из операционной, Тамара Горб показывала
часть удаленной у него черепной кости. Была она, как скорлупа грецкого ореха
изнутри. И-- яркая, свежая кровь на ватке.
-- Ему воздушную повязку сделали,-- объясняла Тамара.-- Там же ж все
такое, ни до чего не доторк-нуться.
И вот так, держа ватку, робкими глазами снизу вверх, взглянула на
Китенева. А он улыбнулся ей. Он и в халате был красив, широкогруд, высок,
словно не ходил недавно еще перегнутый болью. Скоро он наденет гимнастерку,
боевые наплечные ремни... Глаза Тамары стали увеличиваться, засияли слезами.
Ночью Третьяков проснулся от внезапной тревоги. Темно. В окне, в
изморози, зеленый свет месяца. Под дверью электрический свет из коридора.
Все, как всегда, а ему беспокойней и беспокойней. Вдруг понял: раненый умер,
тот, на Гошиной койке.
Нашарив осторожно тапочки под кроватью, в одном белье тихо подошел к
нему. Заострившийся нос торчал из бинтов. Желто-зеленое при свете месяца
лицо покойника. В черной глубине глазниц -- навсегда слипшиеся веки. И весь
тяжело, неподвижно и плоско вдавился в сетку кровати. Третьяков как нагнулся
над ним, так и стоял, смотрел. Дрогнули глазные яблоки под веками. Открылись
глаза, живые, влажные от сна, глянули на него.
-- Попить хочешь?-- спросил Третьяков; у него чуть было голос не
отнялся.
Из носика поильника он осторожно поил его, смотрел, как тот слабо
глотает, и в эту минуту был благодарен ему за то, что он жив. Тот два раза
прикрыл глаза веками: хватит, мол, спасибо.
-- Спи.-Позови, если что, не стесняйся,-- сказал Третьяков.
Накинув халат на плечи, вышел в коридор покурить. Холодно здесь было:
ветер переменился, дуло с этой стороны. Юго-западный ветер, с их
Юго-Западного фронта. Только не донесет он сюда с тех полей ни голосов, ни
выстрелов, ни разрывов. Здесь война грохочет только в кино. И мальчишки
после кино бегают с палками-ружьями. А там, где фронт прошел, там уже и дети
не играют в войну.
Спала сестра на своем посту, щекою на тумбочке. Он вернулся в палату, в
спертое, надышанное тепло, подрожал, озябший, под одеялом. Уснул не сразу. И
днем отчего-то ему было беспокойно, томило предчувствие беды. Когда опять
пришли в госпиталь школьники, он сразу увидел: Саши нет с ними. "А у ей мать
в больницу отвезли дак..."-- сказал ему паренек, который с мандолиной
выходил за ней на сцену. Сам еще не зная, зачем ему, Третьяков расспросил,
где живет Саша, как этот дом найти, а после ужина решился. Он попросил
Китенева, не глядя в глаза:
-- Капитан, дай мне твою шинель сегодня.
-- Ого! -- повеселел Китенев.-- Вот что значит овсянкой стали кормить.
Общими силами собрали Третьякова. Только теперь он видел, какой он
беспомощный с одной своей рукой: ни гимнастерку надеть, ни портянки
навернуть. Старых, сам с гипсовой ногой, навертывал ему портянки. И даже
Атраковский принял в этом участие: из немногих сберегавшихся у него под
подушкой газет, где он что-то отмечал себе карандашиком, что-то подчеркивал,
отобрал две, проглядев каждую из них напоследок:
-- Вот этими оберни ему ноги.
-- Не надо,-- стыдился Третьяков принимать такую жертву.-- Там и мороз
несильный.
А Китенев, как господь Бог, всех наделивший, говорил, стоя над ними:
-- Вот выпишусь, глядите, сколько вам всего от меня останется: шинель--
остается, бушлат-- остается, сапоги...
-- Это что! Я в армейском госпитале лежал, у нас там,-- Старых весь
кровью налился от наклонного положения, даже лысина побурела,-- у нас там
два пистолета под тюфяками сохранялись. И все знали. Начальник госпиталя в
любую палату смело идет, а к нам заходить боялся. А чего боялся? У нас
капитана одного стали в тыловой госпиталь отправлять, обрядили, как
покойника: шинелька обезличенная не хуже Гошиной, еще ишь без рукава. Ах ты,
падла такая! Да я из тебя сейчас трех сделаю, и Родина мне за это спасибо
скажет... После этого, как заходить к нам, он пальчиком стучался.
А с Гошиной койки, из бинтов, лимонно-желтый, обросший черной бородой,
как арестант, безмолвно смотрел раненный в голову старший лейтенант
Аветисян, голоса которого в палате еще не слыхал никто. На Третьякова надели
шинель, затянули ремнем, прихватив левый пустой рукав, и тут Китенева
осенило;
-- Обожди! Я сейчас у Тамарки шерстяную кофту попрошу. Она даст. А то в
одной гимнастерке пронижет насквозь.
Третьякова даже в пот бросило при одной мысли, что Саша увидит его в
женской кофте.
Как и полагается, вперед по всем правилам была выслана разведка, и
только тогда уж Китенев безопасными ходами вывел его из госпиталя.
За воротами, на голубом снегу, под холодной россыпью звезд, он впервые
с тех пор, как заперли его в палате, вдохнул морозного воздуха, и глубоко
свежим холодом прошло в легкие, даже закашлялся с непривычки. Он шел и
радовался сам себе, радовался, что видит зиму, своими ногами идет по снегу,
радовался, что к Саше идет.
Повизгивал смерзшийся снег под каблуком, мороз был градусов пятнадцать:
когда вдыхал глубже, чуть слипались, прихватывало ноздри. Неся под шинелью
прижатую к груди забинтованную руку-- ей тепло там было,-- он другой рукой
поочередно грел уши на ходу, смахивал ладонью слезы со щек: встречным ветром
их выжимало из глаз, отвыкших от холода.
Парный патруль, в такт мерным шагам покачивая дулами винтовок,
торчавших у каждого над погоном, прошел по вокзальной площади под фонарем.
На всякий случай он переждал за домом-- начнут спрашивать: кто? зачем?
почему? Вид у него беглый: шинель без погонов, пустой рукав прихвачен
ремнем-- откуда такой выскочил? Чем объясняться, лучше за углом перестоять.
Они прошли, не спеша, самые главные на всей площади: в вокзал шли
греться. Пока он пережидал их, накатило от паровоза белое облако, обдало
сырым теплом, каменноугольной гарью. Бухнула вокзальная дверь, пропустив
патруль внутрь. Третьяков вышел, держась тени, перешел пути. И вот они, два
четырехэтажных дома, окнами смотрят на железную дорогу, как объясняли ему.
У крайнего крыльца, где на снегу лежал перекрещенный рамой желтый свет
окна, он вдруг оробел: собственно, кто его ждет здесь? То спешил, радовался,
а сейчас со стороны взглянул на себя, и вся решимость пропала.
Поверх занавески в окне был виден закопченный керосинками потолок
кухни. Третьяков потоптался на крыльце, на мерзлых, повизгивающих досках,
взялся рукой за дверь. Она была не заперта. В подъезде натоптано снегом,
холод такой же, как на улице. Голая на морозе, горела над входной дверью
лампочка с угольной неяркой нитью. Две двери в квартиры. Каменная лестница
на второй этаж. В какую постучать? Одна обита мешковиной для тепла, на
другой-- потрескавшийся черный дерматин. Он одернул шинель под ремнем,
расправился, пересадил ушанку на одно ухо и наугад постучал по ледяному
глянцу дерматина. Вата глушила звук. Подождал. Постучал еще. Шаги. Женский
голос из-за двери:
-- Кто там?
Третьяков для бодрости кашлянул в горсть:
-- Скажите, пожалуйста, Саша здесь живет? Молчание.
-- Кака Саша?
Только тут он спохватился, что ведь и фамилии ее не знает. "С косами
такими красивыми",-- хотелось сказать ему, но сказал:
-- У нее мать в больницу отвезли...
-- Отвезли, дак чо?
"Дак чо, дак чо..." Дверь бы лучше открыла.
-- Сашу позовите, пожалуйста. Что же мы через дверь разговариваем? Из
госпиталя к ней по делу.
Опять долго молчали. Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась; полная голая
женская рука из-под пухового платка держала ее. Лицо припухшее. Печным
теплом, керосином пахнуло из-за ее спины.
-- Нам сказали, мать у нее в больницу отвезли,-- говорил Третьяков,
словно бы он сюда от имени всей Красной Армии явился. И одновременно
старался расположить к себе улыбкой, стоял так, чтобы при неярком свете
лампочки было видно его всего от шапки до сапог: вот он весь, можно его не
опасаться.
Женщина смотрела все так же настороженно, цепочку с двери не снимала:
-- Сам-то ты кто ей будешь?
-- Вам это совершенно не нужно. Саша здесь живет?
-- Зде-есь.
-- Позовите ее, пожалуйста.
-- А ей не-ет.
Он все никак не мог к уральскому говору привыкнуть: она отвечала, как
будто его же спрашивала.
-- Где же Саша?
-- В больницу и пошла-а.
Вот этого он почему-то не ожидал, что ее может не быть дома. Уже на
крыльце подумалось: надо было хоть спросить, давно ли ушла? Когда будет? Он
оглянулся, но возвращаться не стал.
Зайдя от ветра за угол дома, решил ждать. Стоял, притопывал, чтоб ноги
не оледенели. Мороз был хоть и не так силен, но в одной шинели долго не
простоишь. Особенно рана в спине зябла. Только на этих днях впервые сняли с
нее повязку, все там еще чувствительное, оголенное.
Часов у него не было, чтобы хоть время представлять, когда ждешь, оно
всегда долгим кажется. Часы с него снял санитар, там еще, в траншее, когда
его ранило. Он наложил жгут остановить кровь, сказал: "Заметь время. Через
полчаса надо снять жгут, а то рука омертвеет, отомрет вовсе". Третьяков
достал часы, а он еще спросил: "Наши?"
Часы эти были первые в его жизни. Три недели подряд ходил по утрам
отмечаться в очереди. Очень хотелось ему наручные, с решеткой поверх стекла.
Такие, с решеткой, были в их классе у Копытина. Носил он их на пульсе, часто
поглядывал на уроке: отставит руку и глядит издали, словно бы иначе ему
плохо видно. А когда наконец подошла очередь, наручные все разобрали, и ему
достались большие, круглые и толстые 2-го гос-часзавода карманные часы.
Стоили они 75 рублей, тех, довоенных 75 рублей. Он сам заработал эти деньги:
в учреждениях к праздникам писал плакаты на кумаче. Только уже в полевом
госпитале, после операции, он обнаружил, что часов нет. И не так ему часы
было жаль, как всего с ними связанного, что они из дому.
Ему удалось наконец прикурить одной рукой. Стоял, грелся табачным
дымом, притопывал. Когда почувствовал во рту вкус горелой бумаги, бросил
окурок. Ветер из-за угла подхватил его, выбитые искры заскакали по снегу.
Нет, долго так не простоишь. Злясь на себя, он неохотно побрел к госпиталю.
Вдали, над путями, над семафором-- четко вырезанный, огромный, будто
ненастоящий месяц. Дорога пошла вниз, месяц впереди начал опускаться за
семафор. Где-то далеко на путях прокричал паровоз, осипший на морозе. И,
разбуженный его криком, Третьяков повернулся, пошел обратно, торопясь,
словно боялся растерять решимость. Он постучал опять в ту же дверь. Она
открылась сразу.
-- Вы простите, пожалуйста, я не спросил, где помещается это, куда Саша
пошла? Больница эта? Женщина скинула цепочку с двери:
-- Заходи, чего дом-то выстужать.
Он вошел. С безбрового лица смотрели на него рыжевато-карие глаза. Они
одни и были на белом припухлом лице. Смотрели с любопытством.
-- Давно Саша туда ушла?
-- Давно-то не шибко давно, а уж порядочно будет. И оглядывала всего
его, чем дальше, тем жалостливей.
-- Далеко отсюда до этой больницы?
-- Дак не больница, больница-то в городе, а это бараки совсем. Для
инфекционных которы. Саша из школы пришла, а матерь увезли. Ой, плоха была,
плоха совсем. Она по следу и побежала за ей. Гляжу -- вернулась. "Саша, ты
обожди, Василий мой с работы придет, мы Иван Данилыча спросим".
-- Кто это Иван Данилыч?
-- Иван-то Данилыч?-- Она изумилась, что можно его не знать.-- Дак
райвоенком ведь Иван Данилыч, мужа моего брат старший. "Ты, Саша, обожди,
спросим его дак..." Она ничо не говорит и есть не стала нисколько. Бегат по
дому по углам, ровно мышка. Темно уже, слышу, побежала опять.
-- Так как же бараки эти найти?
-- Да просто совсем.
И опять с сомнением оглядела его шинель, пустой рукав под ремнем.
-- Улицу Коли Мяготина знаешь, небось?
-- Знаю,-- кивнул Третьяков, надеясь из дальнейшего понять, где это
улица Коли Мяготина. А сам отогревался тем временем, чувствовал, как
набирается тепло под шинель.
-- Ну, дак по ей да по ей до самого до Тобола.-- И, придерживая на себе
пуховый платок, левой рукой показывала в окно через пути -- в обратную от
Тобола сторону.
-- Значит, если от вокзала, это будет широкая такая улица?
-- Ну да. А как до Тобола дойдешь, дак вправо и вправо.
Перехватив платок левой рукой, она махала вправо от себя. Мысленно он
все переставил, поскольку, сама того! не подозревая, она стояла к Тоболу
спиной и показывала все наоборот.
-- Понятно. Значит, до Тобола и вправо. Тобол-- на западе? Я хочу
сказать, солнце за Тоболом садится?
-- За Тоболом. Где ж ему еще западать?
-- Понятно.
Он начинал ориентироваться. Из окна коридора в госпитале каждый день
было видно, как в той стороне садилось солнце.
-- Можно вовсе просто: по Коли Мяготина пойдешь, дак и свернешь вправо
по Гоголя. И опять-- прямо. И опять-- вправо: по Пушкина ли, по Лермонтова.
Так, лесенкой, лесенкой...
-- И там бараки будут?
-- Не сразу они. Сначала-- кладбище. Тобол-то в сторону уйдет.
Кладбище-- это верный ориентир. В случае чего кладбище укажет ему
каждый.
-- А за кладбищем и они уже. Дальше вовсе ничего нет, один обрыв.
-- Спасибо,-- сказал Третьяков. Хоть смутно, а что-то он уже
представлял. И, взявшись за дверь, попросил: -- Если Саша раньше вернется,
вы ей ничего не говорите. Искал, не искал, вы ей не говорите этого. А то
думать будет...
И по недоуменному ее взгляду понял: непременно тут же и расскажет. Еще
и в дом не даст войти, как все расскажет.
Не будили его даже к завтраку. Сквозь сон слышал Третьяков какие-то
голоса, один раз близко над собой услыхал голос Китенева.
-- У него сон ужасно плохой. Всю ночь промучился... Вновь проснулся он
от суматохи. Посреди палаты у стола сгрудилось несколько человек, звякало
стекло о стекло, булькало из графина. Что-то разливали.
-- Так... Кому теперь?-- быстро спросил Китенев.-- Атраковскому нельзя.
Ройзман!
Он взял Ройзмана за рукав, дал ему в пальцы стакан, мутноватый на свет:
-- Давай!
Увидев стакан, Третьяков сразу почувствовал сивушный запах самогонки,
сел в кровати:
-- За что это вы пьете с утра пораньше? Китенев глянул на него:
-- Ты б еще дольше спал. Наши к Берлину подходят, а он только
проснулся.
-- Нет, в самом деле, что случилось? Но ему уже налили:
-- Действуй! Спрашивать будешь потом. И тут же рассказали:
-- У Аветисяна дочка родилась.
В сонном сознании не сразу связалось одно с другим: что Аветисян и есть
тот самый старший лейтенант, раненный в голову навылет, который ночью
напугал его. Он поднял стакан, показывая, что за него пьет, пил, стараясь не
поморщиться, мужественности своей при всех не уронить. По мере того, как
донышко стакана запрокидывалось кверху, Старых взглядом провожал его и даже
сглотнул, помогая издали. Тут и ему поднесли полный до краев. И хоть спешили
все, на дверь оглядывались, он сразу строг стал: святая минута наступила.
Просветлевшими глазами оглядел всех, мыслью сосредоточился:
-- Ну!..
И, сам себе кивнув, выдохнул воздух, потянул, потянул, благодарно
зажмурясь. Вдруг начал синеть, закашлялся, выпученные глаза полезли из
орбит:
-- С-сволочи! Кто воду налил?
Грохнул хохот. Китенев ладонью вытирал слезы:
-- Не будешь жадней всех. Другому наливаю-- он ее уже глазами пьет.
Тебе по правилу вообще бы не давать. Вот у нас в обороне порядок был четкий:
четыре стакана нальют, в трех-- спирт, в одном-- вода. Где что налито, знает
кто наливал. Подняли. Выпили. Ни за что по лицам не различишь, кому что
досталось. А этот интеллигентный очень: от воды кашляет.
И поровну себе и Старыху налил остатки из графина. Как раз два стакана
получилось:
-- Держи, не кашляй!
После этого срочно был вымыт графин, заново налит из-под крана. Китенев
насухо обтер его полотенцем, водрузил на прежнее место посреди стола. И еще
шахматы расставил на доске: люди в шахматы играют, полезным умственным делом
заняты. И радиоточку включили погромче.
Оказывается, вчера вечером Аветисян заговорил вдруг: дождался тишины и
заговорил. Из самых первых слов, сказанных им в палате, было: "У меня дочка
маленькая родилась". А огромные глаза на худом лице спрашивали: будет ли у
дочки жив отец? По общему мнению, выходило, что будет жив. И решено было два
таких события отметить. Когда уже собрались, приготовились, нагрянула в
палату начмед, прозванная ранеными "Танки!". Была она лет двадцати пяти, муж
еЈ воевал где-то на севере, в Карелии, и хоть она иной раз неявно поощряла
взглядом, храбрых что-то не находилось проводить ее до дому. Даже среди
выздоравливающих ни одного такого храбреца не нашлось: была она вся крепкая,
как налитая, портупеи едва хватало перехлестнуть через грудь к ремню.
Вот она и вошла в палату, пока Третьяков спал. А посреди стола стоял
графин, налитый самогонкой. Прятать что-либо в палате-- быстрей только
попадешься, а так стоит графин на своем месте, никому и в голову не стукнет
проверять, что там. Но начмеду показалась вода мутноватой. И, обнаружив
непорядок, заботясь исключительно о здоровье ранбольных, она при общей
сгустившейся тишине взяла графин в руку, еще раз посмотрела на свет,
нахмурилась грозно, пробку стеклянную вынула, понюхала и изумилась. Самой
себе не поверив, налила на донышко стакана, отпила и в тот же момент
выскочила искать замполита госпиталя.
Третьяков доедал застывшую, как студень, синеватую овсяную кашу в
тарелке, а все в палате такие серьезные сидели, такие серьезные, вот-вот
смех грянет. Оттого, что он полночи не спал, от выпитой самогонки все у него
сейчас перед глазами было проясненное, словно другое зрение открылось. И
свет зимний казался сегодня особенным, и белое небо за окном, и снег,
подваливший к стеклу снаружи. Каждая ветка дерева была там вдвое толще от
снега, который она качала на себе.
Он смотрел на всех и видел одновременно, как они с Сашей идут по городу
и месяц им светит. А может, этого не было?
Он ведь уже не надеялся найти эти бараки. Под конец злился на себя:
чего он идет? Кто ждет его? И возвращался несколько раз, а потом снова шел.
И представлялось мысленно, как Саша увидит его, обрадуется, поразится. А
Саша не узнала его. Она стояла одна перед крыльцом, сильно мело с крыши,
фонарь над дверью светил, как в дыму.
-- Саша!-- позвал он.
Она обернулась, вздрогнула, попятилась от него.
-- Саша,-- говорил он и шел к ней. Потом догадался остановиться.-- Это
я, Саша, это же я. Мне соседка сказала, что у тебя мама заболела.
Только тут она поняла, узнала, заплакала. И плакала, вытирая варежками
слезы:
-- Мне страшно уходить отсюда. Она такая худая, такая худая, одни
жилочки. У ней сил нет бороться.
Он загораживал ее от ветра спиной, а сам замерз так, что губы уже не
могли слова выговорить. Когда шли обратно по городу, Саша спросила:
-- У тебя есть что-нибудь под шинелью?
-- Есть.
-- Что?
-- Душа.
-- Ничего не пододето?-- ужаснулась Саша.-- Пошли быстрей.
Он шел, как на деревянных ногах, вместо пальцев в сапогах было что-то
бесчувственное, распухшее. А Сашины валенки мягко похрустывали рядом, и
месяц светил, и снег блистал. Все это было.
Подошел Старых, сел к нему на кровать:
-- Ноги не поморозил?
-- Нет, немного только.
-- Его благодари.-- Старых указал на Атраковско-го.-- В любой мороз
иди, и валенок не надо.
Он рукавом байкового халата утер вспотевшее от самогонки лицо:
-- Молодые, учить вас... Запоминай, покуда я живой! А Третьякову с тем,
что было у него сейчас на душе, как богатому, казалось, каждый из них чем-то
обделен. Шлепая тапочками, пришаркал Ройзман, сел к нему на кровать:
-- Так вы, Третьяков, в училище были в первой батарее? Знаете, мне
кажется, я вас помню.
Ройзман теперь всю свою жизнь заново проходил по памяти и то, что
зрячим не замечал, хотел задним числом увидать. Только вряд ли он помнил
Третьякова: среди курсантов ничем особенным он не отличался. А в памяти
крепче всего застревают те, с кем что-нибудь смешное случалось. Был,
например, у них во взводе курсант Шалобасов, тот с первого построения
запомнился. Вышел от батареи с ответной речью, голос-- будто каждым словом
врага разит. И сказал так:
-- Мы прибыли сюда хватать верхушки артиллерийской науки...
Этого уже никто не забыл. Только трудно давались ему "верхушки
артиллерийской науки". В сорок первом году, когда брали Калинин и ворвались
наши танки с десантом автоматчиков, был в том десанте и Шалобасов, в
валенках сидел на броне. Взрывом снаряда сбросило его с танка, ударило о
мерзлую землю. В себя он пришел, но память отшибло накрепко. Иной раз ничего
невозможно было ему вдолбить. И помогали ему и помирали над ним со смеху. А
разыграть его вообще ничего не стоило. Подойдут с серьезными лицами:
"Слыхал, Шалобасов, вчера Белан опять азимут потерял..." Тому дурная кровь в
голову, глаза выпучит и уже готов идти требовать, чтобы курсанта Белана
привлекли за утерю казенного имущества. Вот Шалобасова и Ройзман не забыл,
заулыбался сразу.
-- А помните, у нас на уроке артиллерии одному курсанту налепили бумагу
на стекла противогаза?
-- Да, да, да! Это были вы?
-- Нет. Акжигитов.
Тут все заговорили о противогазах. В училище как только не мудрили над
курсантами! У Третьякова это еще в памяти было, как вчерашнее. И бегать
заставляли в противогазах по морозу с полной выкладкой. И спали в них.
Спать, правда, курсанты быстро приладились: вынул клапан и дыши... Но у
старшин они тоже были не первое поколение. Подкрадется ночью старшина,
пережмет гофрированную трубку, а курсант дышит хоть бы что, спит себе, сны
видит. Утром в бязевых нательных рубашках все бегут на зарядку, пар от всех
валит на морозе, а провинившийся скалывает саперной лопаткой желтый лед, за
ночь намерзавший на углу казармы.
-- Акжигитов мастер был спать с открытыми глазами. За день и так
намерзнешься в поле, а тут придумали еще на занятиях сидеть в противогазах.
Лицу от резины тепло, стекла от дыхания запотевают, спят все, один Акжигитов
глядит. Вот и налепили бумажки на стекла. Его вызвали к доске, он вскочил--
все, как в дыму. Идет, на столы натыкается...
Ройзман смеялся вместе со всеми, словно самое дорогое вспомнив. Для
него теперь только то зримо, что было в прошлой жизни. А тогда ледяного
взгляда голубых его глаз побаивался Третьяков. Входил капитан Ройзман на
занятия, щеки после бритья блестят, раздражение на шее припудрено. Вызовет к
доске, а взглядом держит на дистанции. Но особенно гордой была у него
походка: на прямых ногах, не сгибая колен. После узнали: в самые первые дни
отступления, в Прибалтике еще, был он ранен в обе ноги. Оттого и походка у
него такая -- поневоле журавлиная.
Майор Батюшков, самый пожилой из преподавателей, по-детски не
выговаривавший ни "р", ни "л", за что и получил от курсантов прозвище
"Посраник божий", жаловался как-то на Ройзмана во время тактических занятий,
когда весь взвод, промерзнув, грелся табачным дымом, спинами от ветра
заслоняясь: "У меня доче'и-- девушки, а к нему женщины ходят по вече'ам.
Каждый 'аз-- новые. И мы с ним в общей ква'ти'е живем..."
И невдомек было ему, что этим только подымает капитана в курсантских
глазах.
Побритый на ощупь, с клочками оставшихся кое-где волос, сидел сейчас
Ройзман в халате, задумавшийся, как старец. Есть ли у него семья? Или на
оккупированной территории остались все? Письма к нему не приходили в
госпиталь ни разу, иначе бы просил прочесть вслух.
А у окна, в углу, как, бывало, он сиживал на Гоши-ной койке, сидел
Старых в ногах Аветисяна, расспрашивал громко, как глухого:
-- Дочка-- это как же будет по-вашему? Что-то неслышно сказал Аветисян.
Старых в изумлении зашевелил губами, складывал их по-чудному, что-то
выговорить пытался:
-- Ну, что ж... Ничего. Тоже и так можно.
Теперь Фая, соседка, открывала ему как своему и, если Саши не было
дома, звала обождать. У нее в комнате всегда жарко натоплено и бело от
накидок, скатерок, скатерочек, развешанных, разложенных повсюду. А у теплой
стены-- кровать, пышная гора подушек.
Ног не вынимая из чесанок, разрезанных позади, чтобы на икры
налезали,-- не каменных фабричных валенок, а из дому присланных мягких
деревенских чесанок,-- сидела Фая посреди обрезков материи, шила что-то
маленькое или вязала крючком крохотный какой-нибудь башмачок. И вздыхала.
Прокричит паровоз на путях, Фая повернет голову к окну, долго слушает: он уж
замолк, а она все слушает. И опять замелькал крючок в руке. Под
успокоительный Фаин голос, под ее вздохи, от металлического мелькания перед
глазами Третьяков засыпал наяву, а уши в тепле горели.
-- ...Вакуированных понагнали, ой, чо делаться стало!-- вздыхает Фая.--
Денег у всех помногу, во по скольку денег, цены-те сразу и поднялись.
Фланелевый халат на животе у Фаи уже не сходится, тонкие, блестящие под
абажуром волосы причесаны гладко, а чтобы пучок на затылке не распадался,
полукруглый гребень в него воткнут. И тишина в комнате, будто мир вымер, не
верится даже, что где-то война идет.
-- Чо на базар не вынесут,-- вакуированные все хватают. Так и хватают,
так и хватают, прямо из рук рвут. Деньги-те подешевели, людям ни к чему не
подступись.
Фая свое говорит, а он свое видит. "Вакуированные"... Вначале и слова
этого не было-- эвакуированные; говорили, как от прошлой войны осталось:
беженцы. Он шел по Плехановской, и вдруг разнеслось: селедку дают. Это было
самое начало войны, еще только карточки вводили. А тут, как до войны, без
карточек.
Прямо на улице скатили на тротуар бочки, поставили весы, и продавщица в
фартуке, мокром на животе от селедочного рассола, продавала развесную
селедку: за головы вытягивала из бочки рукой и шлепала на весы. Сразу
настановилась очередь, и еще подбегали, подбегали люди, радовались удаче.
Странно теперь вспомнить, назад оглянуться: немцы были уже в Минске,
столько людей погибло уже и гибло, гибло ежечасно, а тут радость: селедку
дают. И он тоже радовался, заранее представлял, как принесет домой: без
карточек достал! И разговоры в очереди:
"Хватит на всех? Становиться? Не становиться?" А вперемежку другие
разговоры: что где-то на юге идет огромное танковое сражение, наших больше
тысячи танков уже разгромили немцев. И верят, хочется верить: все так удачно
сразу сошлось. И кто-то знающий доподлинно, из первых рук, разъясняет
авторитетно, теперь немцы покатятся назад...
Вот тут словно страшным ветром подуло на людей, словно хлопья сажи
принесло с пожара. Прямо по трамвайным путям двигались посреди улицы
какие-то повозки, запряженные лошадьми, люди шли нездешние, одетые кто во
что -- кто в шелковом платье, кто в шубе среди лета, дети закопченные
выглядывали из халабуд. Это были беженцы, первые беженцы, которых увидели
здесь: война пригнала впереди себя. Всех их стали пускать за селедкой,
очередь отступилась от весов, а они только пить спрашивали.
Когда он в этот раз по дороге из училища на фронт заехал на станцию
Верещагине, где мать и сестренка жили в эвакуации, он снова этих беженцев
вспомнил. Мама была такая же худая, как те женщины; губы заветренные,
растрескавшиеся до крови. А на левой руке вместо безымянного пальца увидел
он вздрагивающий обрубок. Мать, словно застыдясь перед ним, спрятала руку:
"Зажило уже..." Лялька рассказала ему потом, что это на лесоповале
случилось. И еще у мамы страшный шрам на плече и на лопатке во всю спину.
Фая-- как детство человечества, у нее не война виновата, а
"вакуированные": у них у всех денег помногу, цены из-за них поднялись. И
большинство людей так: видят, что к глазам поближе, что их коснулось самих.
И так останется, и не переубедишь. Причины не многим понятны и не многим
интересны.
-- Первые-то самые все больше из Орши были.-- Фая вздыхает, лицо у нее
сейчас осмысленное.-- Где это Орша?
-- В Белоруссии.
-- И Данилыч мой так говорит. И чо люди думали? Нисколько даже в руки
не взяли с собой. Чо надето на них, то и при них. А детей помногу у каждой.
-- Они, Фая, из-под бомбежки бежали. Тут живыми вырваться, детей
спасти.
-- Ой, страх, страх!-- Углом гребня Фая почесала широкое переносье. И
хоть брови высоко в этот момент подымала, ни одной морщины на лбу не
наморщилось, только весь он выпер подушечкой. Провела гребнем по волосам,
воткнула в узел на затылке.-- Морозы-те как ударили, Данилыч, бывало, придет
с дежурства:
"Опять утром мерзлых у вокзала подбирали..." Дак чо Данилыч, я и сама
видала, вокзал-- вон он...
Прохрустел снег за окном под чьими-то валенками. И Фая и он
прислушались: Данилыч? Саша? Каждый своего ждал. Бухнула входная дверь;
Саша, к себе не зайдя, сюда заглянула, румяная с мороза, белой изморозью
опушен платок вокруг лица. Увидела его-- обрадовалась. В коридоре сказала:
-- Я маму видела. Горло завязанное, такая несчастная в окне. Говорить
не может, кивает мне из-за стекла.
На пушинках платка, на ресницах иней уже растаял от тепла и блестел.
Такой красивой он не видел ее еще ни разу.
Она размотала платок, скинула шубку, в ситцевом платье убежала на кухню
умываться. Рядом со своей шинелью он повесил Сашину шубу, теплую ее теплом,
посмотрел, как они висят. Стоя посреди комнаты в гимнастерке без ремня,
.ждал. Саша вернулась, вытирая лицо полотенцем, говорила невнятно:
-- Мы с мамой спали вместе, и то я не заразилась, а теперь вернусь
оттуда,-- умываюсь, умываюсь... На улице стою, не пускают туда, а все равно
кажется, все микробы на мне.
Она достала из-под подушки кастрюлю, завернутую в телогрейку, делала
все быстро:
-- Сейчас печь затопим.
И, накидав на руку сушившиеся у печи дрова, понесла их в коридор, к
топке.
-- Я без мамы теперь на ночь топлю,-- говорила она, присев на корточки,
обдирая с поленьев бересту на растопку.-- Целый день меня дома нет, так по
крайней мере утром из тепла выходишь на мороз.
-- А что же ты ешь, Саша?
-- Что ты! У нас картошка есть.
Они вместе уложили щепки, дрова на них и подожгли. Запахло березовым
дымком, коридор осветился из топки.
-- Обожди курить,-- предупредила Саша, очищая ему от кожуры остывшую
картошку.
-- Я не хочу,-- говорил он.-- Я после ужина.
-- Как это можно не хотеть картошку? По-моему, от одного ее запаха...
Своя у нас картошка, не покупная, своя.
Крупная очищенная картофелина сахарно искрилась при огне.
-- На.
Он держал ее в руке, ждал, пока Саша очистит себе.
-- Ты любишь такую, в мундире? Я ужасно люблю. А если с молоком?..--
Она откусила, не утерпев.-- Ешь. Я тут одной молочнице вышила платье, целый
месяц вышивала. Заберусь с ногами на кровать, одним глазом-- в учебник, а
сама вышиваю. Васильки по серой парусине: вот так на рукавах, на груди, по
подолу.-- Она обчертила в воздухе, и он увидел ее в этом платье: васильки к
ее серым глазам.-- Она принесла нам целую четверть молока... Я же соль
забыла!
-- Она и без соли вкусная.
-- И мне тоже. Тут какой-то совершенно особенный сорт. Поверишь, мы
одни глазки сажали-- и вот такие клубни. Один куст-- полведра.
Она сбегала в комнату, блюдечко с солью поставила на железный лист
перед печью. Красный огонь из топки плясал на их лицах, на светлом железном
листе. Они сидели перед топкой на низкой скамейке, макали картошку в соль,
розовую от огня.
-- Ты ведь был совершенно не такой,-- сказала Саша.-- И лицо у тебя
было другое.
-- Какое?
Она рассмеялась:
-- Я уже не могу вспомнить сейчас. Просто лицо чужого человека. Нет,
один раз-- не чужое. Знаешь когда? Мне перевязывали ногу, а ты прошел по
коридору. Ты прошел, а я посмотрела тебе вслед. Ты сделал вид, как будто
прошел просто так. Мне стало тебя жалко. Но все равно это был не ты. Я даже
могла бы тебя не узнать. А помнишь, мы сидели на подоконнике?
-- Ты тогда вообще смотрела сквозь меня. Саша помолчала. На лице ее
сменялись отсветы огня из печи.
-- Знаешь, когда ты впервые,-- она посмотрела на него,-- вот такой был,
как сейчас?
-- Когда?
-- Нет, я не тогда увидела, я на другой день вспомнила и подумала, что
ты обморозился и, наверное, заболел. Ты такой заледенелый был в шинели и еще
меня загораживал от ветра.
Они говорили и смотрели в огонь, и это было их общее, что они видели
там.
-- Помнишь, я еще спросила: "У тебя есть что-нибудь под шинелью?" А ты
засмеялся: "Душа!" А у самого губы не могут слова выговорить. Я потом весь
день думала, что ты заболел.
-- Так ты ж меня тогда испугалась.
-- Это не тогда. Я испугалась, когда ты вышел из-за барака. Ты не
видел, какой ты был страшный. Весь заметенный, как волк. Мне даже
показалось, у тебя глаза блестят. И никого кругом. Я ужасно испугалась.
Бухнула входная дверь на кухне. Через коридор прошел вернувшийся с
дежурства Василий Данилович Пястолов, Фаин муж. Жестяные пуговицы на его
железнодорожной шинели-- белые от инея: мороз на улице был сегодня силен.
Данилыч прошел, не кивнув, в форме он высоко себя нес. Но из комнаты вышел
другим человеком: в телогрейке, в растоптанных валенках, в руке-- топор,
старая ушанка примяла одно ухо. Он шел в сарай за дровами, остановился около
них:
-- Маруся не лучше?
-- Сегодня в окне ее видела,-- похвасталась Саша.
-- Значит, на поправку тронулась. В пляшущих отсветах долгоносое лицо
Данилыча то светлело, то думой омрачалось.
-- Плоха была, совсем плоха.-- Поскреб ногтями подбородок, сощуря на
огонь стеклянный взгляд, потянул себя за нос.-- Повезли ее-- нет, думаю, не
выживет. Гляди-ко, жива...
Саша и Третьяков посмотрели друг на друга, удержались, чтоб не
рассмеяться. Он не видел. Постоял еще над ними и пошел с топором в руке,
мягко ступая разношенными валенками.
Увидев, что она очищает картошку, Третьяков прикурил из печи.
-- Подожди,-- опять сказала Саша.
-- Все. Не могу уже. Когда закурил, не могу.
-- Не можешь?
-- Не могу.
-- Нет, как ты честно врешь. И глаза святые.
-- Я не вру.
-- Не врешь. Вот эту, когда покуришь, съешь. Она очистила себе.
-- Мы, когда осенью выкопали картошку, дождались ее наконец, я думала,
мы никогда не наедимся. А капуста тут какая! Даже в Москве на базаре я такой
не видала. Заморозок уже, воздух свежий, холодный, и вот такие огромные
белые кочаны на грядке лежат. Я этот запах, мне кажется, на всю жизнь
запомню. Нам дали участок, одну сотку, мы с мамой пришли копать, а там
вскопано. Мама так напугалась, бегает: "Отобрали у нас, кому-то отдали..." А
я вижу: смятая пачка "Беломора" валяется. Володя курил "Беломор". Я сразу
догадалась: это они с Женькой вскопали.
Непросохшие березовые поленья сипели в печи, на закопченных торцах
накипал желтый сок. Заслонясь рукой от жара, Саша передвигала поленья,
пальцы ее против огня насквозь светились.
-- Мама до войны совсем не такая была. А теперь чуть только что-- сразу
беззащитная становится.-- И посмотрела ему в глаза.-- У меня мама... Моя
мама-- немка.
У него вырвалось простодушно:
-- Ты не похожа.
-- Я с мамой-- одно лицо.
-- Саша, я не то хотел сказать.-- В душе у него шевельнулась к ней
жалость.-- Ведь сейчас быть немкой...
-- Ты понимаешь это? Немка, когда война с немцами. Но она так родилась,
в чем она виновата? И она вообще даже не немка. Бабушка была русская. А
дед... Он всех детей тайком возил в Финляндию крестить в лютеранскую веру.
До революции еще. Клал в корзину и тайком от бабушки вез. Если бы не это,
мама сейчас и по паспорту была бы русская. А с таким паспортом куда она? И
из Москвы мы бы не уезжали ни за что. Но папа очень за нее боялся. Он с
фронта писал тете Нюсе, своей сестре, чтобы мы вместе были, вместе
эвакуировались. А когда он погиб, мама все время мне говорила: "Если со мной
что случится, ты по крайней мере останешься с тетей Нюсей. А так ты
совершенно одна". У нее все время этот страх, она за всех немцев, за все,
что они сделали, себя чувствует виноватой. На ней это -- как пятно какое-то.
Не пережив, нельзя это понять.
Но он понимал и чувствовал. В его семье не было немцев. И мать и отец
его-- русские люди. Но отец арестован. Четыре года оставалось до войны,
слово "немец" не означало то, что оно теперь значит, но уже тогда на нем
было пятно, и он чувствовал это. Саша ему только ближе стала, когда
рассказала сейчас.
-- У меня еще стыд перед мамой,-- говорила она.-- Тут первая весна
такая страшная была, я просто не знаю, как мы пережили ее. Папа погиб,
аттестата нет, все, что привезли с собой, продали. Я утром выпью стакан
теплой воды и иду на экзамены. И вот один раз... Стыдно ужасно! Эти дни,
когда ей плохо было, я прямо отделаться от этого не могла. Понимаешь, я
выкупила хлеб по карточкам. На два дня сразу. На маму и на себя. Вышла из
магазина и чувствую-- не могу. От него так пахнет! Вернулась, попросила
продавщицу отрезать кусочек. А она своим огромным этим ножом вот такой кусок
отхватила. И я съела. Не могла утерпеть. Мама увидела, конечно. Она же,
главное, не работала.-- У Саши в глазах были слезы.-- У нее иждивенческая
карточка. Я работала вечерами после школы, она как бы на моем иждивении, и я
у нее отрезала и съела тайком. И сказать постыдилась. А она вообще такая,
что с себя последнее отдаст. Мы еще когда не все продали, а морозы страшные
в ту зиму... Вот придут просить, тоже эвакуированные, особенно если с
детьми... Она тайком от меня отдаст что-нибудь, а потом такая передо мной
виноватая! "Доченька, ведь мы с тобой все же в тепле..."
Саша встала, ушла в комнату. Когда вернулась, лицо было хмурое, глаза
сухие, щеки горели.
-- Там еще холодно,-- сказала она,-- давай здесь чай пить.
Она принесла чашки, вынула закоптившийся чайник из печи. В коридоре
сразу стало светлей от незаслоненного огня. Они сидели лицами к топке, две
огромные их тени колыхались за спинами по стене, терялись в красноватом
сумраке под потолком.
-- Ведь она почему заболела?-- сказала Саша.-- У тети Нюси Ленечка
заболел дифтеритом. Так она уговорила не отдавать его в больницу, а то он
умрет там. Где-то добыли сыворотку, она сама ухаживала за ним. И меня
заразить боялась, все хлоркой мыла. И заразилась.
Он шел в этот вечер под косматым зимним небом, под толстыми, как тросы,
белыми от инея проводами, шел и думал. Он думал о Саше, о войне, о крови,
которая третий год льется на всех фронтах, а в ней так чудно слилась.
Какой-то дед возил детей крестить, клал, как котят, в корзинку и вез.
Какая связь? А связь есть, только незримая; во всем, что происходит, есть
связь всех с каждым. Согласись он тогда остаться при штабе бригады, как
лейтенант Таранов остался, и никогда бы он не встретил Сашу. Только на
отдалении видишь, как связано одно с другим.
Сильный луч прожектора осветил снег, далеко вперед кинул его тень.
Третьяков оглянулся. По лезвиям рельсов мчался на него слепящий свет,
втягивал в себя из тьмы блестки изморози.
Он сошел с полотна. Налетел, промчался мимо него с грохотом по
прогибающимся рельсам тяжелый состав, увлекая с собой морозный ветер:
товарные вагоны, платформы, туши танков на платформах под заметенным
брезентом, часовые в валенках на площадках вагонов, отвернувшиеся от ветра,
платформы с пушками, вагоны, площадки, часовые-- мелькало, мелькало, мчалось
в грохоте, в стуке колес, и выше, выше над мчащимся составом вздымалась
снежная пыль. В этом взметенном снегу, в снежной мчащейся метели мелькнул и
скрылся последний вагон. Туда умчался, к фронту. И устремилось вслед, с ним
вместе унеслось что-то, как оторвалось от души. И ощутимой стала пустота.
-- Ну, пожили мы дружно, госпитальной каши поели, пора и честь знать. А
то тут с вами воевать разучишься,-- говорил Китенев, по грудь укрытый
одеялом. Как раз с вечера всей палате сменили белье-- и постельное и
нательное,-- и он в чистой клейменой бязевой рубашке лежал высоко на
подушке, заложив руки за голову, край белой простыни отвернут поверх одеяла.
Потянулся, разведя локти, сладко зевнул до слез.-- Будете тут радио без меня
слушать, где чего на свете делается. Я на Украине в госпитале лежал...
-- А говорил, ни разу не раненный,-- на слове поймал его Старых.
-- Ни разу. Это меня при бомбежке привалило. Вот начнут с утра по
радио-- чудно слушать: захоплэно, литакив, гармад, рушныць... Мы возьмемся
считать, сколько у немца "захоплэно"... Да ему уж воевать нечем! У него за
всю войну столько не было, сколько у него "захоплэно".
-- Не ранен, а в госпитале лежал.
-- Не ранен.
-- А контужен -- не один черт? Нет таких в пехоте, чтобы воевал и нигде
не раненный, не побитый.
-- И не контужен. Меня землей привалило!-- с достоинством говорил
Китенев. В госпитале месяцы мелькают быстро, а каждый день долог. Вот
Китенев и старался с утра пораньше "завести" Старыха, благо тот "с
полоборота заводится". Они еще попрепирались со скуки: "Присыпало... А если
б не откопали?" "Второй раз закапывать не пришлось бы..."-- и Китенев
повернулся на бок, подпер голову, стал глядеть на Третьякова. Тот спокойно
сгибал и разгибал поверх одеяла раненую руку. Врач еще на первых перевязках
сказала ему: "Хочешь, чтоб рука осталась крючком?" "Зачем же мне?" --
испугался Третьяков. "Тогда разрабатывай сустав, а то так и срастется". И
хоть больно бывало вначале, кровью промокала повязка, оставаться инвалидом
ему не хотелось.
-- Ну?
Глаза у Китенева светлые, как вода, прозрачные. Третьяков ждал.
-- Вот не знаю, оставлять тебе шинель в наследство, не оставлять?
Может, зря только трепешь казенное имущество? Похоже, что зря.-- В светлых
глазах его смех играет:-- А вообще как?
Третьяков, улыбаясь, ждал:
-- Я спрашиваю, как в смысле морально-политического состояния?
-- Бодрое.
-- А ведь какой был юноша!-- Китенев подложил подушку под спину, сел
повыше.-- Его когда в палату привезли, я думал, к нам девушку кладут. Глаза
ясные, мысли чистые и все устремлены на разгром врага. А полежал с вами, и
вот чего из него получилось. Это он от Старыха понабрался. Не учись у него,
Третьяков, он уже лысый. Между прочим, ты, Старых, своей лысине жизнью
обязан. Ты ведь от стыда прикрылся. А будь у тебя чуб, как у некоторых
военных, стал бы ты каску на голову надевать?
Китенев процедил сквозь пальцы волнистый свой чуб, заметно отросший в
госпитале. Медсестра, с ложечки кормившая Аветисяна гречневой размазней,
сама рыженькая, круглолицая, румяная, так заслушалась радостно, что ложку
уже не в рот совала, а в ухо.
-- А ну, руку мне сожми! -- Китенев протянул Третьякову свою руку. Тот
полюбовался, как на ней от кисги до засученного по локоть рукава играют все
мускулы.
-- Зачем?
-- Старшего по званию спрашивают "зачем"? Приказано жать-- жми! Может,
ты симулянт.
Посмеиваясь, Третьяков слабыми пальцами сжал, сколько мог.
-- И все? Ты что, вообще такой слабосильный? А ну, правой жми! Нет,
силенка есть. А ну, левой еще разок! А ну, смелей!
-- Все.
-- Как все?
-- Все. Сильней не могу.
Тут Старых прискакал, подпираясь под плечо костылем, сел на койку с
разбегу, обнял костыль. Лицо, жаждущее рассказать.
-- Это тоже привели одного на медкомиссию, рука не хуже твоей, не
разгибается... Ты слушай, слушай, опыта набирайся, плохому не научу.
Приводят его, ага... "А ну, руку разогни". "Она у меня такая..." Пробуют
силом разогнуть. Все точно, отвоевался парень, надо списывать по чистой. А
тут хирург-старичок не зря нашелся: "Ну-ко покажи, как она у тебя прежде
была?" "Прежде-то во как!"-- И сам разогнул. Гляди, Третьяков, будут
спрашивать, мимо ушей пропускай.-- Старых махнул себя по уху.-- Врачи, они
теперь до-ошлые...
Белые двери палаты раскрылись, в белых халатах вошли двое. Передний,
солидный, подымал плечи, очки его гордо блеснули на свету. При нем суетился
начхоз.
Начхоз был вольнонаемный. На нем под халатом -- мятые гражданские брюки
в полосочку, не достающие до ботинок. Нестроевой, ограниченно годный по
какой-то статье, он в их офицерскую палату входил, пресмыкаясь, понимал, как
должны раненые смотреть на него, не безрукого, не безногого. И хоть ничего в
его судьбе от них не зависело, готов был услужить каждому. "Жить хочет",--
определил Старых. И даже про то, что начхоз шепелявит от рождения, сказал:
"Придуривается! Нестроевой... С женой спать, тут он строевик, а как на
фронт-- ограниченно годный".
Третьякову всегда стыдно было за этого человека, не стыдящегося унижать
себя. Как можно жить от освидетельствования до освидетельствования, ждать
только, чтоб опять признали ограниченно годным, отпустили дослуживать в
тылу... Ведь мужчина, война идет, люди воюют.
Но сегодня начхоз нес службу при начальстве. Никого в отдельности не
замечая, строгим взглядом прошел по головам:
-- Здесь он, здесь. Разве что если на перевязку... Третьяков! Подводите
вы нас. Вами вот интересуются.
Что-то знакомое почудилось Третьякову в солидном человеке, которого
начхоз пропускал вперед, в его манере подымать плечи. Но тут Старых неохотно
поднялся с кровати, загородил обоих. А когда отскакал в сторону, они уже
стояли в ногах.
-- Володя!
-- Олег!
В портупее косо через плечо, в распахнутом белом халате стоял перед ним
его одноклассник Олег Селиванов, смотрел на него и улыбался. И начхоз
улыбался, родительскими глазами глядел на обоих. И вся палата смотрела на
них.
-- Как ты разыскал меня?
-- Да, понимаешь, совершенно случайно. Олег сел на ребро кровати, полой
халата прикрыл полное колено, обтянутое суконным галифе. Военная форма,
погоны под халатом, портупея, ремень. А в стеклах очков те же кроткие,
домашние глаза. Бывало, стоит Олег у доски, весь перепачканный мелом, потный
от стыда: "Спросите у мамы, я, честное слово, учил..."
-- Слушай, по виду ты прямо "товарищ командующий".
-- Главное, ты здесь столько лежишь, а я лишь вчера узнал. В бумагах
попалось...
-- Представляешь, капитан, вместе в школе учились,-- сказал Третьяков,
отчего-то чувствуя некоторую неловкость за Олега: того так почетно ввели,
такой он сидел здоровый, свежий с улицы.
-- Бывает,-- сказал Китенев и встал, надевая халат.
-- Олег, но как ты здесь?
-- Я -- здесь.
-- Здесь?
-- Здесь.
И оба в этот момент почувствовали тишину палаты.
-- Пошли, ротный, покурим,-- сказал Китенев громко. Вместе со Старыхом
пошли они в коридор. И начхоз удалился, для порядка еще раз оглядев палату.
Шелестел газетой Атраковский на своей койке, заложив руку за голову.
Оголившийся белый худой локоть его с опавшими синими венами, как неживой,
торчал вверх.
Олег протирал стекла очков полой халата, слепо мигал будто припухшими
глазами. Смутно вспоминалось Третьякову-- мать писала ему на фронт или
Лялька писала,-- что призвали Олега вместе с ребятами из их класса, с
Карповым Лешкой, с братьями Елисеевыми, Борисом и Никитой, куда-то их
погнали уже обмундированных, а потом Олег вернулся. И что-то угрожало ему.
Но будто бы вмешался отец, известный в их городе врач-гинеколог, и Олега по
зрению признали негодным к строевой службе. В школе он действительно видел
плохо.
-- Знаешь, кого я здесь встретил на базаре?-- Олег надел очки, взгляд
за стеклами прояснился.-- Мать Сони Батуриной, помнишь ее? Она еще голову
тебе бинтовала на уроках военного дела. По-моему, Соня была в тебя немножко
влюблена. Она ведь убита, ты не знал?
-- Разве она была в армии?
-- Она сама пошла. Такой тогда был подъем в первые дни!
-- Так я ее в августе встретил. Какие ж первые дни?
-- А ты не путаешь?
Нет, он не путал. Он встретил Соню Батурину в самом конце августа: уже
астры продавали. Соня сказала:
"Смотри, астры! Скоро в школу. Только уже не нам. Какие синие!" Он
купил ей букет. Как раз у Петровского спуска. Потом они стояли на мосту.
Соня спиной оперлась о перила, распушивала астры, смотрела на них. Под
мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две их тени на мосту,
казалось, плывут, плывут навстречу. "А ведь мне еще никто никогда не дарил
цветов,-- сказала Соня.-- Ты-- первый". И посмотрела на него, держа букет у
подбородка. Он поразился еще, какие синие у нее глаза. И весь подбородок и
кончик носа она выпачкала желтой пыльцой. Он хотел достать платок, но платок
был грязный, и рукой осторожно стирал пыльцу, а Соня смотрела на него.
Сказала вдруг:
-- Интересно, каким ты будешь после войны, если встретимся?
Значит, она тогда уже знала, что уходит на фронт, но не сказала ему.
Потому что он, парень, был еще не в армии.
-- Она сама подошла ко мне на базаре, а так бы я ее, наверное, не
узнал,-- рассказывал Олег.-- , нее вот эта часть лица... Нет, вот эта...
Подожди, я сейчас вспомню.-- Он пересел на кровати другим боком к окну,
подумал:-- Да вот эта. Она отсюда подошла. Вся вот эта часть лица у нее
перекошена и глаз открыт, как мертвый. Это парез, паралич лицевого нерва. Я
потом был у нее, она мне читала Сонины письма. Очень тяжело... А помнишь,
как у меня на галерее мы играли в солдатики? У тебя была японская армия, а у
меня были венгерские гусары. Помнишь, какие красивые были у меня венгерские
гусары?
Из-за стекол очков с широкого мужского лица смотрели на Третьякова
детские глаза, в которых время остановилось. Они смотрели на него из той
жизни, когда все они еще были бессмертны. Умирали взрослые, умирали старые
люди, а они были бессмертны.
В коридоре, пожимая огромную ладонь Олега, Третьяков сказал: "Приходи
еще",-- а сам очень надеялся, что больше Олег не придет.
Старых сразу же спросил в палате:
-- Кореш?
-- В школе вместе учились. Вот разыскал меня.
-- Большой человек.-- Старых радостно ощерился.-- Нужен родине в тылу.
-- Что ты знаешь? У него зрение...
-- Плохое!
-- Он ночью вообще, если хочешь знать...
-- Фронт с тылом перепутал!-- под смех палаты закончил за него
Старых.-- Сослепу! Это не хуже того, летом в сорок втором везли нас в
санлетучке. Как раз самое он на Сталинград пер... Какая же это станция, вот
не вспомню... Ну, шут с ней. Тут эшелон с оборудованием на путях, тут бабы,
детишки, кого взяли, кого брать не хотят, слезы, визг, писк. Набились к нам
в товарные вагоны. Не положено, а не оставлять же. Тут гражданин вот такой
солидный вперся с чемоданами. Его выпихивать. "Товарищи, товарищи, что вы
делаете? Я нужен нам!"
-- Врешь!-- хохотал Китенев-.-- Ведь врешь!
-- Я нужен нам!
Дни заметно стали прибавляться, и в один из солнечных январских дней
проводили Гошу. Он еще позавтракал вместе со всеми в палате, и этот завтрак
его здесь был последний. Ушел Гоша и вернулся обмундированный. Они стояли в
халатах, в госпитальных тапочках, а он уже в сапогах, в шинели, шапку держал
в руке, словно снял ее перед ними.
Пронизанный утренним солнцем, искрился, обтаивал лед на стеклах;
крашеный пол блестел, как свежевымытый, и кровати стали выше над полом--
солнце и тонкие тени ножек под ними. Никем не занятая пустовала Гоши-на
койка. Он посмотрел на нее от дверей: уже и простыни сняты с тюфяка, подушка
без наволочки.
Пошуршав газеткой, подошел Китенев, сунул Гоше сверток за пазуху:
-- Некоторым штатским!
Гоша понял, замычал, затрясся, хотел выдернуть из-за пазухи, но Китенев
держал кисти его рук; вроде и не крепко держал, но не вырвешься:
-- Бери, бери, на гражданку идешь. Ладно, чего там!
Это собрали по палате, что проиграл Гоша в карты в последние дни. В
картах не было ему счастья, быть может, в мирной жизни в любви повезет.
Сквозь проталину в стекле было видно, как снаружи в безветрии опускался
редкий снег: каждая снежинка подолгу летала в воздухе. Вот Гоша вышел к
воротам, резиновые подошвы печатали за ним четкий след. От ворот-- и
направо, и налево, и прямо-- все дороги лежат перед ним. А он стоял, ни на
одну не решаясь ступить. Сверкало солнце, снег садился ему на шапку, на
плечи, еще украшенные погонами. По погонам -- младший лейтенант, по годам
ему еще призываться рано. А он уже отвоевал свое.
Без Гоши невесело стало, каждый задумался о себе. Среди дня где-то
умудрился напиться Старых, кричал, что все они здесь ненастоящие раненые, он
один настоящий, махал костылем, и налитые глаза были бешеными. Силой уложили
его спать.
А ближе к вечеру открылась дверь палаты, и в закатном свете из
коридора, как в розовом дыму, затоптались, затоптались на пороге двое
санитаров, разворачиваясь с носилками, и внесли на Гошину койку нового
раненого. Из свежих бинтов, как из высокого шлема, глядело желтое лицо,
желтый горбатый нос. Раненый лежал тихо, открывал и закрывал устало черные,
похоже, армянские глаза с голубыми белками. Тут же стало известно -- и
трудно было в это поверить,-- что пуля навылет прошла у него через голову,
через мозг: над этим ухом вошла, над этим вышла. А он-- живой, только
тихий-тихий, совсем покорный.
В коридоре, вынеся на ваточке из операционной, Тамара Горб показывала
часть удаленной у него черепной кости. Была она, как скорлупа грецкого ореха
изнутри. И-- яркая, свежая кровь на ватке.
-- Ему воздушную повязку сделали,-- объясняла Тамара.-- Там же ж все
такое, ни до чего не доторк-нуться.
И вот так, держа ватку, робкими глазами снизу вверх, взглянула на
Китенева. А он улыбнулся ей. Он и в халате был красив, широкогруд, высок,
словно не ходил недавно еще перегнутый болью. Скоро он наденет гимнастерку,
боевые наплечные ремни... Глаза Тамары стали увеличиваться, засияли слезами.
Ночью Третьяков проснулся от внезапной тревоги. Темно. В окне, в
изморози, зеленый свет месяца. Под дверью электрический свет из коридора.
Все, как всегда, а ему беспокойней и беспокойней. Вдруг понял: раненый умер,
тот, на Гошиной койке.
Нашарив осторожно тапочки под кроватью, в одном белье тихо подошел к
нему. Заострившийся нос торчал из бинтов. Желто-зеленое при свете месяца
лицо покойника. В черной глубине глазниц -- навсегда слипшиеся веки. И весь
тяжело, неподвижно и плоско вдавился в сетку кровати. Третьяков как нагнулся
над ним, так и стоял, смотрел. Дрогнули глазные яблоки под веками. Открылись
глаза, живые, влажные от сна, глянули на него.
-- Попить хочешь?-- спросил Третьяков; у него чуть было голос не
отнялся.
Из носика поильника он осторожно поил его, смотрел, как тот слабо
глотает, и в эту минуту был благодарен ему за то, что он жив. Тот два раза
прикрыл глаза веками: хватит, мол, спасибо.
-- Спи.-Позови, если что, не стесняйся,-- сказал Третьяков.
Накинув халат на плечи, вышел в коридор покурить. Холодно здесь было:
ветер переменился, дуло с этой стороны. Юго-западный ветер, с их
Юго-Западного фронта. Только не донесет он сюда с тех полей ни голосов, ни
выстрелов, ни разрывов. Здесь война грохочет только в кино. И мальчишки
после кино бегают с палками-ружьями. А там, где фронт прошел, там уже и дети
не играют в войну.
Спала сестра на своем посту, щекою на тумбочке. Он вернулся в палату, в
спертое, надышанное тепло, подрожал, озябший, под одеялом. Уснул не сразу. И
днем отчего-то ему было беспокойно, томило предчувствие беды. Когда опять
пришли в госпиталь школьники, он сразу увидел: Саши нет с ними. "А у ей мать
в больницу отвезли дак..."-- сказал ему паренек, который с мандолиной
выходил за ней на сцену. Сам еще не зная, зачем ему, Третьяков расспросил,
где живет Саша, как этот дом найти, а после ужина решился. Он попросил
Китенева, не глядя в глаза:
-- Капитан, дай мне твою шинель сегодня.
-- Ого! -- повеселел Китенев.-- Вот что значит овсянкой стали кормить.
Общими силами собрали Третьякова. Только теперь он видел, какой он
беспомощный с одной своей рукой: ни гимнастерку надеть, ни портянки
навернуть. Старых, сам с гипсовой ногой, навертывал ему портянки. И даже
Атраковский принял в этом участие: из немногих сберегавшихся у него под
подушкой газет, где он что-то отмечал себе карандашиком, что-то подчеркивал,
отобрал две, проглядев каждую из них напоследок:
-- Вот этими оберни ему ноги.
-- Не надо,-- стыдился Третьяков принимать такую жертву.-- Там и мороз
несильный.
А Китенев, как господь Бог, всех наделивший, говорил, стоя над ними:
-- Вот выпишусь, глядите, сколько вам всего от меня останется: шинель--
остается, бушлат-- остается, сапоги...
-- Это что! Я в армейском госпитале лежал, у нас там,-- Старых весь
кровью налился от наклонного положения, даже лысина побурела,-- у нас там
два пистолета под тюфяками сохранялись. И все знали. Начальник госпиталя в
любую палату смело идет, а к нам заходить боялся. А чего боялся? У нас
капитана одного стали в тыловой госпиталь отправлять, обрядили, как
покойника: шинелька обезличенная не хуже Гошиной, еще ишь без рукава. Ах ты,
падла такая! Да я из тебя сейчас трех сделаю, и Родина мне за это спасибо
скажет... После этого, как заходить к нам, он пальчиком стучался.
А с Гошиной койки, из бинтов, лимонно-желтый, обросший черной бородой,
как арестант, безмолвно смотрел раненный в голову старший лейтенант
Аветисян, голоса которого в палате еще не слыхал никто. На Третьякова надели
шинель, затянули ремнем, прихватив левый пустой рукав, и тут Китенева
осенило;
-- Обожди! Я сейчас у Тамарки шерстяную кофту попрошу. Она даст. А то в
одной гимнастерке пронижет насквозь.
Третьякова даже в пот бросило при одной мысли, что Саша увидит его в
женской кофте.
Как и полагается, вперед по всем правилам была выслана разведка, и
только тогда уж Китенев безопасными ходами вывел его из госпиталя.
За воротами, на голубом снегу, под холодной россыпью звезд, он впервые
с тех пор, как заперли его в палате, вдохнул морозного воздуха, и глубоко
свежим холодом прошло в легкие, даже закашлялся с непривычки. Он шел и
радовался сам себе, радовался, что видит зиму, своими ногами идет по снегу,
радовался, что к Саше идет.
Повизгивал смерзшийся снег под каблуком, мороз был градусов пятнадцать:
когда вдыхал глубже, чуть слипались, прихватывало ноздри. Неся под шинелью
прижатую к груди забинтованную руку-- ей тепло там было,-- он другой рукой
поочередно грел уши на ходу, смахивал ладонью слезы со щек: встречным ветром
их выжимало из глаз, отвыкших от холода.
Парный патруль, в такт мерным шагам покачивая дулами винтовок,
торчавших у каждого над погоном, прошел по вокзальной площади под фонарем.
На всякий случай он переждал за домом-- начнут спрашивать: кто? зачем?
почему? Вид у него беглый: шинель без погонов, пустой рукав прихвачен
ремнем-- откуда такой выскочил? Чем объясняться, лучше за углом перестоять.
Они прошли, не спеша, самые главные на всей площади: в вокзал шли
греться. Пока он пережидал их, накатило от паровоза белое облако, обдало
сырым теплом, каменноугольной гарью. Бухнула вокзальная дверь, пропустив
патруль внутрь. Третьяков вышел, держась тени, перешел пути. И вот они, два
четырехэтажных дома, окнами смотрят на железную дорогу, как объясняли ему.
У крайнего крыльца, где на снегу лежал перекрещенный рамой желтый свет
окна, он вдруг оробел: собственно, кто его ждет здесь? То спешил, радовался,
а сейчас со стороны взглянул на себя, и вся решимость пропала.
Поверх занавески в окне был виден закопченный керосинками потолок
кухни. Третьяков потоптался на крыльце, на мерзлых, повизгивающих досках,
взялся рукой за дверь. Она была не заперта. В подъезде натоптано снегом,
холод такой же, как на улице. Голая на морозе, горела над входной дверью
лампочка с угольной неяркой нитью. Две двери в квартиры. Каменная лестница
на второй этаж. В какую постучать? Одна обита мешковиной для тепла, на
другой-- потрескавшийся черный дерматин. Он одернул шинель под ремнем,
расправился, пересадил ушанку на одно ухо и наугад постучал по ледяному
глянцу дерматина. Вата глушила звук. Подождал. Постучал еще. Шаги. Женский
голос из-за двери:
-- Кто там?
Третьяков для бодрости кашлянул в горсть:
-- Скажите, пожалуйста, Саша здесь живет? Молчание.
-- Кака Саша?
Только тут он спохватился, что ведь и фамилии ее не знает. "С косами
такими красивыми",-- хотелось сказать ему, но сказал:
-- У нее мать в больницу отвезли...
-- Отвезли, дак чо?
"Дак чо, дак чо..." Дверь бы лучше открыла.
-- Сашу позовите, пожалуйста. Что же мы через дверь разговариваем? Из
госпиталя к ней по делу.
Опять долго молчали. Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась; полная голая
женская рука из-под пухового платка держала ее. Лицо припухшее. Печным
теплом, керосином пахнуло из-за ее спины.
-- Нам сказали, мать у нее в больницу отвезли,-- говорил Третьяков,
словно бы он сюда от имени всей Красной Армии явился. И одновременно
старался расположить к себе улыбкой, стоял так, чтобы при неярком свете
лампочки было видно его всего от шапки до сапог: вот он весь, можно его не
опасаться.
Женщина смотрела все так же настороженно, цепочку с двери не снимала:
-- Сам-то ты кто ей будешь?
-- Вам это совершенно не нужно. Саша здесь живет?
-- Зде-есь.
-- Позовите ее, пожалуйста.
-- А ей не-ет.
Он все никак не мог к уральскому говору привыкнуть: она отвечала, как
будто его же спрашивала.
-- Где же Саша?
-- В больницу и пошла-а.
Вот этого он почему-то не ожидал, что ее может не быть дома. Уже на
крыльце подумалось: надо было хоть спросить, давно ли ушла? Когда будет? Он
оглянулся, но возвращаться не стал.
Зайдя от ветра за угол дома, решил ждать. Стоял, притопывал, чтоб ноги
не оледенели. Мороз был хоть и не так силен, но в одной шинели долго не
простоишь. Особенно рана в спине зябла. Только на этих днях впервые сняли с
нее повязку, все там еще чувствительное, оголенное.
Часов у него не было, чтобы хоть время представлять, когда ждешь, оно
всегда долгим кажется. Часы с него снял санитар, там еще, в траншее, когда
его ранило. Он наложил жгут остановить кровь, сказал: "Заметь время. Через
полчаса надо снять жгут, а то рука омертвеет, отомрет вовсе". Третьяков
достал часы, а он еще спросил: "Наши?"
Часы эти были первые в его жизни. Три недели подряд ходил по утрам
отмечаться в очереди. Очень хотелось ему наручные, с решеткой поверх стекла.
Такие, с решеткой, были в их классе у Копытина. Носил он их на пульсе, часто
поглядывал на уроке: отставит руку и глядит издали, словно бы иначе ему
плохо видно. А когда наконец подошла очередь, наручные все разобрали, и ему
достались большие, круглые и толстые 2-го гос-часзавода карманные часы.
Стоили они 75 рублей, тех, довоенных 75 рублей. Он сам заработал эти деньги:
в учреждениях к праздникам писал плакаты на кумаче. Только уже в полевом
госпитале, после операции, он обнаружил, что часов нет. И не так ему часы
было жаль, как всего с ними связанного, что они из дому.
Ему удалось наконец прикурить одной рукой. Стоял, грелся табачным
дымом, притопывал. Когда почувствовал во рту вкус горелой бумаги, бросил
окурок. Ветер из-за угла подхватил его, выбитые искры заскакали по снегу.
Нет, долго так не простоишь. Злясь на себя, он неохотно побрел к госпиталю.
Вдали, над путями, над семафором-- четко вырезанный, огромный, будто
ненастоящий месяц. Дорога пошла вниз, месяц впереди начал опускаться за
семафор. Где-то далеко на путях прокричал паровоз, осипший на морозе. И,
разбуженный его криком, Третьяков повернулся, пошел обратно, торопясь,
словно боялся растерять решимость. Он постучал опять в ту же дверь. Она
открылась сразу.
-- Вы простите, пожалуйста, я не спросил, где помещается это, куда Саша
пошла? Больница эта? Женщина скинула цепочку с двери:
-- Заходи, чего дом-то выстужать.
Он вошел. С безбрового лица смотрели на него рыжевато-карие глаза. Они
одни и были на белом припухлом лице. Смотрели с любопытством.
-- Давно Саша туда ушла?
-- Давно-то не шибко давно, а уж порядочно будет. И оглядывала всего
его, чем дальше, тем жалостливей.
-- Далеко отсюда до этой больницы?
-- Дак не больница, больница-то в городе, а это бараки совсем. Для
инфекционных которы. Саша из школы пришла, а матерь увезли. Ой, плоха была,
плоха совсем. Она по следу и побежала за ей. Гляжу -- вернулась. "Саша, ты
обожди, Василий мой с работы придет, мы Иван Данилыча спросим".
-- Кто это Иван Данилыч?
-- Иван-то Данилыч?-- Она изумилась, что можно его не знать.-- Дак
райвоенком ведь Иван Данилыч, мужа моего брат старший. "Ты, Саша, обожди,
спросим его дак..." Она ничо не говорит и есть не стала нисколько. Бегат по
дому по углам, ровно мышка. Темно уже, слышу, побежала опять.
-- Так как же бараки эти найти?
-- Да просто совсем.
И опять с сомнением оглядела его шинель, пустой рукав под ремнем.
-- Улицу Коли Мяготина знаешь, небось?
-- Знаю,-- кивнул Третьяков, надеясь из дальнейшего понять, где это
улица Коли Мяготина. А сам отогревался тем временем, чувствовал, как
набирается тепло под шинель.
-- Ну, дак по ей да по ей до самого до Тобола.-- И, придерживая на себе
пуховый платок, левой рукой показывала в окно через пути -- в обратную от
Тобола сторону.
-- Значит, если от вокзала, это будет широкая такая улица?
-- Ну да. А как до Тобола дойдешь, дак вправо и вправо.
Перехватив платок левой рукой, она махала вправо от себя. Мысленно он
все переставил, поскольку, сама того! не подозревая, она стояла к Тоболу
спиной и показывала все наоборот.
-- Понятно. Значит, до Тобола и вправо. Тобол-- на западе? Я хочу
сказать, солнце за Тоболом садится?
-- За Тоболом. Где ж ему еще западать?
-- Понятно.
Он начинал ориентироваться. Из окна коридора в госпитале каждый день
было видно, как в той стороне садилось солнце.
-- Можно вовсе просто: по Коли Мяготина пойдешь, дак и свернешь вправо
по Гоголя. И опять-- прямо. И опять-- вправо: по Пушкина ли, по Лермонтова.
Так, лесенкой, лесенкой...
-- И там бараки будут?
-- Не сразу они. Сначала-- кладбище. Тобол-то в сторону уйдет.
Кладбище-- это верный ориентир. В случае чего кладбище укажет ему
каждый.
-- А за кладбищем и они уже. Дальше вовсе ничего нет, один обрыв.
-- Спасибо,-- сказал Третьяков. Хоть смутно, а что-то он уже
представлял. И, взявшись за дверь, попросил: -- Если Саша раньше вернется,
вы ей ничего не говорите. Искал, не искал, вы ей не говорите этого. А то
думать будет...
И по недоуменному ее взгляду понял: непременно тут же и расскажет. Еще
и в дом не даст войти, как все расскажет.
Не будили его даже к завтраку. Сквозь сон слышал Третьяков какие-то
голоса, один раз близко над собой услыхал голос Китенева.
-- У него сон ужасно плохой. Всю ночь промучился... Вновь проснулся он
от суматохи. Посреди палаты у стола сгрудилось несколько человек, звякало
стекло о стекло, булькало из графина. Что-то разливали.
-- Так... Кому теперь?-- быстро спросил Китенев.-- Атраковскому нельзя.
Ройзман!
Он взял Ройзмана за рукав, дал ему в пальцы стакан, мутноватый на свет:
-- Давай!
Увидев стакан, Третьяков сразу почувствовал сивушный запах самогонки,
сел в кровати:
-- За что это вы пьете с утра пораньше? Китенев глянул на него:
-- Ты б еще дольше спал. Наши к Берлину подходят, а он только
проснулся.
-- Нет, в самом деле, что случилось? Но ему уже налили:
-- Действуй! Спрашивать будешь потом. И тут же рассказали:
-- У Аветисяна дочка родилась.
В сонном сознании не сразу связалось одно с другим: что Аветисян и есть
тот самый старший лейтенант, раненный в голову навылет, который ночью
напугал его. Он поднял стакан, показывая, что за него пьет, пил, стараясь не
поморщиться, мужественности своей при всех не уронить. По мере того, как
донышко стакана запрокидывалось кверху, Старых взглядом провожал его и даже
сглотнул, помогая издали. Тут и ему поднесли полный до краев. И хоть спешили
все, на дверь оглядывались, он сразу строг стал: святая минута наступила.
Просветлевшими глазами оглядел всех, мыслью сосредоточился:
-- Ну!..
И, сам себе кивнув, выдохнул воздух, потянул, потянул, благодарно
зажмурясь. Вдруг начал синеть, закашлялся, выпученные глаза полезли из
орбит:
-- С-сволочи! Кто воду налил?
Грохнул хохот. Китенев ладонью вытирал слезы:
-- Не будешь жадней всех. Другому наливаю-- он ее уже глазами пьет.
Тебе по правилу вообще бы не давать. Вот у нас в обороне порядок был четкий:
четыре стакана нальют, в трех-- спирт, в одном-- вода. Где что налито, знает
кто наливал. Подняли. Выпили. Ни за что по лицам не различишь, кому что
досталось. А этот интеллигентный очень: от воды кашляет.
И поровну себе и Старыху налил остатки из графина. Как раз два стакана
получилось:
-- Держи, не кашляй!
После этого срочно был вымыт графин, заново налит из-под крана. Китенев
насухо обтер его полотенцем, водрузил на прежнее место посреди стола. И еще
шахматы расставил на доске: люди в шахматы играют, полезным умственным делом
заняты. И радиоточку включили погромче.
Оказывается, вчера вечером Аветисян заговорил вдруг: дождался тишины и
заговорил. Из самых первых слов, сказанных им в палате, было: "У меня дочка
маленькая родилась". А огромные глаза на худом лице спрашивали: будет ли у
дочки жив отец? По общему мнению, выходило, что будет жив. И решено было два
таких события отметить. Когда уже собрались, приготовились, нагрянула в
палату начмед, прозванная ранеными "Танки!". Была она лет двадцати пяти, муж
еЈ воевал где-то на севере, в Карелии, и хоть она иной раз неявно поощряла
взглядом, храбрых что-то не находилось проводить ее до дому. Даже среди
выздоравливающих ни одного такого храбреца не нашлось: была она вся крепкая,
как налитая, портупеи едва хватало перехлестнуть через грудь к ремню.
Вот она и вошла в палату, пока Третьяков спал. А посреди стола стоял
графин, налитый самогонкой. Прятать что-либо в палате-- быстрей только
попадешься, а так стоит графин на своем месте, никому и в голову не стукнет
проверять, что там. Но начмеду показалась вода мутноватой. И, обнаружив
непорядок, заботясь исключительно о здоровье ранбольных, она при общей
сгустившейся тишине взяла графин в руку, еще раз посмотрела на свет,
нахмурилась грозно, пробку стеклянную вынула, понюхала и изумилась. Самой
себе не поверив, налила на донышко стакана, отпила и в тот же момент
выскочила искать замполита госпиталя.
Третьяков доедал застывшую, как студень, синеватую овсяную кашу в
тарелке, а все в палате такие серьезные сидели, такие серьезные, вот-вот
смех грянет. Оттого, что он полночи не спал, от выпитой самогонки все у него
сейчас перед глазами было проясненное, словно другое зрение открылось. И
свет зимний казался сегодня особенным, и белое небо за окном, и снег,
подваливший к стеклу снаружи. Каждая ветка дерева была там вдвое толще от
снега, который она качала на себе.
Он смотрел на всех и видел одновременно, как они с Сашей идут по городу
и месяц им светит. А может, этого не было?
Он ведь уже не надеялся найти эти бараки. Под конец злился на себя:
чего он идет? Кто ждет его? И возвращался несколько раз, а потом снова шел.
И представлялось мысленно, как Саша увидит его, обрадуется, поразится. А
Саша не узнала его. Она стояла одна перед крыльцом, сильно мело с крыши,
фонарь над дверью светил, как в дыму.
-- Саша!-- позвал он.
Она обернулась, вздрогнула, попятилась от него.
-- Саша,-- говорил он и шел к ней. Потом догадался остановиться.-- Это
я, Саша, это же я. Мне соседка сказала, что у тебя мама заболела.
Только тут она поняла, узнала, заплакала. И плакала, вытирая варежками
слезы:
-- Мне страшно уходить отсюда. Она такая худая, такая худая, одни
жилочки. У ней сил нет бороться.
Он загораживал ее от ветра спиной, а сам замерз так, что губы уже не
могли слова выговорить. Когда шли обратно по городу, Саша спросила:
-- У тебя есть что-нибудь под шинелью?
-- Есть.
-- Что?
-- Душа.
-- Ничего не пододето?-- ужаснулась Саша.-- Пошли быстрей.
Он шел, как на деревянных ногах, вместо пальцев в сапогах было что-то
бесчувственное, распухшее. А Сашины валенки мягко похрустывали рядом, и
месяц светил, и снег блистал. Все это было.
Подошел Старых, сел к нему на кровать:
-- Ноги не поморозил?
-- Нет, немного только.
-- Его благодари.-- Старых указал на Атраковско-го.-- В любой мороз
иди, и валенок не надо.
Он рукавом байкового халата утер вспотевшее от самогонки лицо:
-- Молодые, учить вас... Запоминай, покуда я живой! А Третьякову с тем,
что было у него сейчас на душе, как богатому, казалось, каждый из них чем-то
обделен. Шлепая тапочками, пришаркал Ройзман, сел к нему на кровать:
-- Так вы, Третьяков, в училище были в первой батарее? Знаете, мне
кажется, я вас помню.
Ройзман теперь всю свою жизнь заново проходил по памяти и то, что
зрячим не замечал, хотел задним числом увидать. Только вряд ли он помнил
Третьякова: среди курсантов ничем особенным он не отличался. А в памяти
крепче всего застревают те, с кем что-нибудь смешное случалось. Был,
например, у них во взводе курсант Шалобасов, тот с первого построения
запомнился. Вышел от батареи с ответной речью, голос-- будто каждым словом
врага разит. И сказал так:
-- Мы прибыли сюда хватать верхушки артиллерийской науки...
Этого уже никто не забыл. Только трудно давались ему "верхушки
артиллерийской науки". В сорок первом году, когда брали Калинин и ворвались
наши танки с десантом автоматчиков, был в том десанте и Шалобасов, в
валенках сидел на броне. Взрывом снаряда сбросило его с танка, ударило о
мерзлую землю. В себя он пришел, но память отшибло накрепко. Иной раз ничего
невозможно было ему вдолбить. И помогали ему и помирали над ним со смеху. А
разыграть его вообще ничего не стоило. Подойдут с серьезными лицами:
"Слыхал, Шалобасов, вчера Белан опять азимут потерял..." Тому дурная кровь в
голову, глаза выпучит и уже готов идти требовать, чтобы курсанта Белана
привлекли за утерю казенного имущества. Вот Шалобасова и Ройзман не забыл,
заулыбался сразу.
-- А помните, у нас на уроке артиллерии одному курсанту налепили бумагу
на стекла противогаза?
-- Да, да, да! Это были вы?
-- Нет. Акжигитов.
Тут все заговорили о противогазах. В училище как только не мудрили над
курсантами! У Третьякова это еще в памяти было, как вчерашнее. И бегать
заставляли в противогазах по морозу с полной выкладкой. И спали в них.
Спать, правда, курсанты быстро приладились: вынул клапан и дыши... Но у
старшин они тоже были не первое поколение. Подкрадется ночью старшина,
пережмет гофрированную трубку, а курсант дышит хоть бы что, спит себе, сны
видит. Утром в бязевых нательных рубашках все бегут на зарядку, пар от всех
валит на морозе, а провинившийся скалывает саперной лопаткой желтый лед, за
ночь намерзавший на углу казармы.
-- Акжигитов мастер был спать с открытыми глазами. За день и так
намерзнешься в поле, а тут придумали еще на занятиях сидеть в противогазах.
Лицу от резины тепло, стекла от дыхания запотевают, спят все, один Акжигитов
глядит. Вот и налепили бумажки на стекла. Его вызвали к доске, он вскочил--
все, как в дыму. Идет, на столы натыкается...
Ройзман смеялся вместе со всеми, словно самое дорогое вспомнив. Для
него теперь только то зримо, что было в прошлой жизни. А тогда ледяного
взгляда голубых его глаз побаивался Третьяков. Входил капитан Ройзман на
занятия, щеки после бритья блестят, раздражение на шее припудрено. Вызовет к
доске, а взглядом держит на дистанции. Но особенно гордой была у него
походка: на прямых ногах, не сгибая колен. После узнали: в самые первые дни
отступления, в Прибалтике еще, был он ранен в обе ноги. Оттого и походка у
него такая -- поневоле журавлиная.
Майор Батюшков, самый пожилой из преподавателей, по-детски не
выговаривавший ни "р", ни "л", за что и получил от курсантов прозвище
"Посраник божий", жаловался как-то на Ройзмана во время тактических занятий,
когда весь взвод, промерзнув, грелся табачным дымом, спинами от ветра
заслоняясь: "У меня доче'и-- девушки, а к нему женщины ходят по вече'ам.
Каждый 'аз-- новые. И мы с ним в общей ква'ти'е живем..."
И невдомек было ему, что этим только подымает капитана в курсантских
глазах.
Побритый на ощупь, с клочками оставшихся кое-где волос, сидел сейчас
Ройзман в халате, задумавшийся, как старец. Есть ли у него семья? Или на
оккупированной территории остались все? Письма к нему не приходили в
госпиталь ни разу, иначе бы просил прочесть вслух.
А у окна, в углу, как, бывало, он сиживал на Гоши-ной койке, сидел
Старых в ногах Аветисяна, расспрашивал громко, как глухого:
-- Дочка-- это как же будет по-вашему? Что-то неслышно сказал Аветисян.
Старых в изумлении зашевелил губами, складывал их по-чудному, что-то
выговорить пытался:
-- Ну, что ж... Ничего. Тоже и так можно.
Теперь Фая, соседка, открывала ему как своему и, если Саши не было
дома, звала обождать. У нее в комнате всегда жарко натоплено и бело от
накидок, скатерок, скатерочек, развешанных, разложенных повсюду. А у теплой
стены-- кровать, пышная гора подушек.
Ног не вынимая из чесанок, разрезанных позади, чтобы на икры
налезали,-- не каменных фабричных валенок, а из дому присланных мягких
деревенских чесанок,-- сидела Фая посреди обрезков материи, шила что-то
маленькое или вязала крючком крохотный какой-нибудь башмачок. И вздыхала.
Прокричит паровоз на путях, Фая повернет голову к окну, долго слушает: он уж
замолк, а она все слушает. И опять замелькал крючок в руке. Под
успокоительный Фаин голос, под ее вздохи, от металлического мелькания перед
глазами Третьяков засыпал наяву, а уши в тепле горели.
-- ...Вакуированных понагнали, ой, чо делаться стало!-- вздыхает Фая.--
Денег у всех помногу, во по скольку денег, цены-те сразу и поднялись.
Фланелевый халат на животе у Фаи уже не сходится, тонкие, блестящие под
абажуром волосы причесаны гладко, а чтобы пучок на затылке не распадался,
полукруглый гребень в него воткнут. И тишина в комнате, будто мир вымер, не
верится даже, что где-то война идет.
-- Чо на базар не вынесут,-- вакуированные все хватают. Так и хватают,
так и хватают, прямо из рук рвут. Деньги-те подешевели, людям ни к чему не
подступись.
Фая свое говорит, а он свое видит. "Вакуированные"... Вначале и слова
этого не было-- эвакуированные; говорили, как от прошлой войны осталось:
беженцы. Он шел по Плехановской, и вдруг разнеслось: селедку дают. Это было
самое начало войны, еще только карточки вводили. А тут, как до войны, без
карточек.
Прямо на улице скатили на тротуар бочки, поставили весы, и продавщица в
фартуке, мокром на животе от селедочного рассола, продавала развесную
селедку: за головы вытягивала из бочки рукой и шлепала на весы. Сразу
настановилась очередь, и еще подбегали, подбегали люди, радовались удаче.
Странно теперь вспомнить, назад оглянуться: немцы были уже в Минске,
столько людей погибло уже и гибло, гибло ежечасно, а тут радость: селедку
дают. И он тоже радовался, заранее представлял, как принесет домой: без
карточек достал! И разговоры в очереди:
"Хватит на всех? Становиться? Не становиться?" А вперемежку другие
разговоры: что где-то на юге идет огромное танковое сражение, наших больше
тысячи танков уже разгромили немцев. И верят, хочется верить: все так удачно
сразу сошлось. И кто-то знающий доподлинно, из первых рук, разъясняет
авторитетно, теперь немцы покатятся назад...
Вот тут словно страшным ветром подуло на людей, словно хлопья сажи
принесло с пожара. Прямо по трамвайным путям двигались посреди улицы
какие-то повозки, запряженные лошадьми, люди шли нездешние, одетые кто во
что -- кто в шелковом платье, кто в шубе среди лета, дети закопченные
выглядывали из халабуд. Это были беженцы, первые беженцы, которых увидели
здесь: война пригнала впереди себя. Всех их стали пускать за селедкой,
очередь отступилась от весов, а они только пить спрашивали.
Когда он в этот раз по дороге из училища на фронт заехал на станцию
Верещагине, где мать и сестренка жили в эвакуации, он снова этих беженцев
вспомнил. Мама была такая же худая, как те женщины; губы заветренные,
растрескавшиеся до крови. А на левой руке вместо безымянного пальца увидел
он вздрагивающий обрубок. Мать, словно застыдясь перед ним, спрятала руку:
"Зажило уже..." Лялька рассказала ему потом, что это на лесоповале
случилось. И еще у мамы страшный шрам на плече и на лопатке во всю спину.
Фая-- как детство человечества, у нее не война виновата, а
"вакуированные": у них у всех денег помногу, цены из-за них поднялись. И
большинство людей так: видят, что к глазам поближе, что их коснулось самих.
И так останется, и не переубедишь. Причины не многим понятны и не многим
интересны.
-- Первые-то самые все больше из Орши были.-- Фая вздыхает, лицо у нее
сейчас осмысленное.-- Где это Орша?
-- В Белоруссии.
-- И Данилыч мой так говорит. И чо люди думали? Нисколько даже в руки
не взяли с собой. Чо надето на них, то и при них. А детей помногу у каждой.
-- Они, Фая, из-под бомбежки бежали. Тут живыми вырваться, детей
спасти.
-- Ой, страх, страх!-- Углом гребня Фая почесала широкое переносье. И
хоть брови высоко в этот момент подымала, ни одной морщины на лбу не
наморщилось, только весь он выпер подушечкой. Провела гребнем по волосам,
воткнула в узел на затылке.-- Морозы-те как ударили, Данилыч, бывало, придет
с дежурства:
"Опять утром мерзлых у вокзала подбирали..." Дак чо Данилыч, я и сама
видала, вокзал-- вон он...
Прохрустел снег за окном под чьими-то валенками. И Фая и он
прислушались: Данилыч? Саша? Каждый своего ждал. Бухнула входная дверь;
Саша, к себе не зайдя, сюда заглянула, румяная с мороза, белой изморозью
опушен платок вокруг лица. Увидела его-- обрадовалась. В коридоре сказала:
-- Я маму видела. Горло завязанное, такая несчастная в окне. Говорить
не может, кивает мне из-за стекла.
На пушинках платка, на ресницах иней уже растаял от тепла и блестел.
Такой красивой он не видел ее еще ни разу.
Она размотала платок, скинула шубку, в ситцевом платье убежала на кухню
умываться. Рядом со своей шинелью он повесил Сашину шубу, теплую ее теплом,
посмотрел, как они висят. Стоя посреди комнаты в гимнастерке без ремня,
.ждал. Саша вернулась, вытирая лицо полотенцем, говорила невнятно:
-- Мы с мамой спали вместе, и то я не заразилась, а теперь вернусь
оттуда,-- умываюсь, умываюсь... На улице стою, не пускают туда, а все равно
кажется, все микробы на мне.
Она достала из-под подушки кастрюлю, завернутую в телогрейку, делала
все быстро:
-- Сейчас печь затопим.
И, накидав на руку сушившиеся у печи дрова, понесла их в коридор, к
топке.
-- Я без мамы теперь на ночь топлю,-- говорила она, присев на корточки,
обдирая с поленьев бересту на растопку.-- Целый день меня дома нет, так по
крайней мере утром из тепла выходишь на мороз.
-- А что же ты ешь, Саша?
-- Что ты! У нас картошка есть.
Они вместе уложили щепки, дрова на них и подожгли. Запахло березовым
дымком, коридор осветился из топки.
-- Обожди курить,-- предупредила Саша, очищая ему от кожуры остывшую
картошку.
-- Я не хочу,-- говорил он.-- Я после ужина.
-- Как это можно не хотеть картошку? По-моему, от одного ее запаха...
Своя у нас картошка, не покупная, своя.
Крупная очищенная картофелина сахарно искрилась при огне.
-- На.
Он держал ее в руке, ждал, пока Саша очистит себе.
-- Ты любишь такую, в мундире? Я ужасно люблю. А если с молоком?..--
Она откусила, не утерпев.-- Ешь. Я тут одной молочнице вышила платье, целый
месяц вышивала. Заберусь с ногами на кровать, одним глазом-- в учебник, а
сама вышиваю. Васильки по серой парусине: вот так на рукавах, на груди, по
подолу.-- Она обчертила в воздухе, и он увидел ее в этом платье: васильки к
ее серым глазам.-- Она принесла нам целую четверть молока... Я же соль
забыла!
-- Она и без соли вкусная.
-- И мне тоже. Тут какой-то совершенно особенный сорт. Поверишь, мы
одни глазки сажали-- и вот такие клубни. Один куст-- полведра.
Она сбегала в комнату, блюдечко с солью поставила на железный лист
перед печью. Красный огонь из топки плясал на их лицах, на светлом железном
листе. Они сидели перед топкой на низкой скамейке, макали картошку в соль,
розовую от огня.
-- Ты ведь был совершенно не такой,-- сказала Саша.-- И лицо у тебя
было другое.
-- Какое?
Она рассмеялась:
-- Я уже не могу вспомнить сейчас. Просто лицо чужого человека. Нет,
один раз-- не чужое. Знаешь когда? Мне перевязывали ногу, а ты прошел по
коридору. Ты прошел, а я посмотрела тебе вслед. Ты сделал вид, как будто
прошел просто так. Мне стало тебя жалко. Но все равно это был не ты. Я даже
могла бы тебя не узнать. А помнишь, мы сидели на подоконнике?
-- Ты тогда вообще смотрела сквозь меня. Саша помолчала. На лице ее
сменялись отсветы огня из печи.
-- Знаешь, когда ты впервые,-- она посмотрела на него,-- вот такой был,
как сейчас?
-- Когда?
-- Нет, я не тогда увидела, я на другой день вспомнила и подумала, что
ты обморозился и, наверное, заболел. Ты такой заледенелый был в шинели и еще
меня загораживал от ветра.
Они говорили и смотрели в огонь, и это было их общее, что они видели
там.
-- Помнишь, я еще спросила: "У тебя есть что-нибудь под шинелью?" А ты
засмеялся: "Душа!" А у самого губы не могут слова выговорить. Я потом весь
день думала, что ты заболел.
-- Так ты ж меня тогда испугалась.
-- Это не тогда. Я испугалась, когда ты вышел из-за барака. Ты не
видел, какой ты был страшный. Весь заметенный, как волк. Мне даже
показалось, у тебя глаза блестят. И никого кругом. Я ужасно испугалась.
Бухнула входная дверь на кухне. Через коридор прошел вернувшийся с
дежурства Василий Данилович Пястолов, Фаин муж. Жестяные пуговицы на его
железнодорожной шинели-- белые от инея: мороз на улице был сегодня силен.
Данилыч прошел, не кивнув, в форме он высоко себя нес. Но из комнаты вышел
другим человеком: в телогрейке, в растоптанных валенках, в руке-- топор,
старая ушанка примяла одно ухо. Он шел в сарай за дровами, остановился около
них:
-- Маруся не лучше?
-- Сегодня в окне ее видела,-- похвасталась Саша.
-- Значит, на поправку тронулась. В пляшущих отсветах долгоносое лицо
Данилыча то светлело, то думой омрачалось.
-- Плоха была, совсем плоха.-- Поскреб ногтями подбородок, сощуря на
огонь стеклянный взгляд, потянул себя за нос.-- Повезли ее-- нет, думаю, не
выживет. Гляди-ко, жива...
Саша и Третьяков посмотрели друг на друга, удержались, чтоб не
рассмеяться. Он не видел. Постоял еще над ними и пошел с топором в руке,
мягко ступая разношенными валенками.
Увидев, что она очищает картошку, Третьяков прикурил из печи.
-- Подожди,-- опять сказала Саша.
-- Все. Не могу уже. Когда закурил, не могу.
-- Не можешь?
-- Не могу.
-- Нет, как ты честно врешь. И глаза святые.
-- Я не вру.
-- Не врешь. Вот эту, когда покуришь, съешь. Она очистила себе.
-- Мы, когда осенью выкопали картошку, дождались ее наконец, я думала,
мы никогда не наедимся. А капуста тут какая! Даже в Москве на базаре я такой
не видала. Заморозок уже, воздух свежий, холодный, и вот такие огромные
белые кочаны на грядке лежат. Я этот запах, мне кажется, на всю жизнь
запомню. Нам дали участок, одну сотку, мы с мамой пришли копать, а там
вскопано. Мама так напугалась, бегает: "Отобрали у нас, кому-то отдали..." А
я вижу: смятая пачка "Беломора" валяется. Володя курил "Беломор". Я сразу
догадалась: это они с Женькой вскопали.
Непросохшие березовые поленья сипели в печи, на закопченных торцах
накипал желтый сок. Заслонясь рукой от жара, Саша передвигала поленья,
пальцы ее против огня насквозь светились.
-- Мама до войны совсем не такая была. А теперь чуть только что-- сразу
беззащитная становится.-- И посмотрела ему в глаза.-- У меня мама... Моя
мама-- немка.
У него вырвалось простодушно:
-- Ты не похожа.
-- Я с мамой-- одно лицо.
-- Саша, я не то хотел сказать.-- В душе у него шевельнулась к ней
жалость.-- Ведь сейчас быть немкой...
-- Ты понимаешь это? Немка, когда война с немцами. Но она так родилась,
в чем она виновата? И она вообще даже не немка. Бабушка была русская. А
дед... Он всех детей тайком возил в Финляндию крестить в лютеранскую веру.
До революции еще. Клал в корзину и тайком от бабушки вез. Если бы не это,
мама сейчас и по паспорту была бы русская. А с таким паспортом куда она? И
из Москвы мы бы не уезжали ни за что. Но папа очень за нее боялся. Он с
фронта писал тете Нюсе, своей сестре, чтобы мы вместе были, вместе
эвакуировались. А когда он погиб, мама все время мне говорила: "Если со мной
что случится, ты по крайней мере останешься с тетей Нюсей. А так ты
совершенно одна". У нее все время этот страх, она за всех немцев, за все,
что они сделали, себя чувствует виноватой. На ней это -- как пятно какое-то.
Не пережив, нельзя это понять.
Но он понимал и чувствовал. В его семье не было немцев. И мать и отец
его-- русские люди. Но отец арестован. Четыре года оставалось до войны,
слово "немец" не означало то, что оно теперь значит, но уже тогда на нем
было пятно, и он чувствовал это. Саша ему только ближе стала, когда
рассказала сейчас.
-- У меня еще стыд перед мамой,-- говорила она.-- Тут первая весна
такая страшная была, я просто не знаю, как мы пережили ее. Папа погиб,
аттестата нет, все, что привезли с собой, продали. Я утром выпью стакан
теплой воды и иду на экзамены. И вот один раз... Стыдно ужасно! Эти дни,
когда ей плохо было, я прямо отделаться от этого не могла. Понимаешь, я
выкупила хлеб по карточкам. На два дня сразу. На маму и на себя. Вышла из
магазина и чувствую-- не могу. От него так пахнет! Вернулась, попросила
продавщицу отрезать кусочек. А она своим огромным этим ножом вот такой кусок
отхватила. И я съела. Не могла утерпеть. Мама увидела, конечно. Она же,
главное, не работала.-- У Саши в глазах были слезы.-- У нее иждивенческая
карточка. Я работала вечерами после школы, она как бы на моем иждивении, и я
у нее отрезала и съела тайком. И сказать постыдилась. А она вообще такая,
что с себя последнее отдаст. Мы еще когда не все продали, а морозы страшные
в ту зиму... Вот придут просить, тоже эвакуированные, особенно если с
детьми... Она тайком от меня отдаст что-нибудь, а потом такая передо мной
виноватая! "Доченька, ведь мы с тобой все же в тепле..."
Саша встала, ушла в комнату. Когда вернулась, лицо было хмурое, глаза
сухие, щеки горели.
-- Там еще холодно,-- сказала она,-- давай здесь чай пить.
Она принесла чашки, вынула закоптившийся чайник из печи. В коридоре
сразу стало светлей от незаслоненного огня. Они сидели лицами к топке, две
огромные их тени колыхались за спинами по стене, терялись в красноватом
сумраке под потолком.
-- Ведь она почему заболела?-- сказала Саша.-- У тети Нюси Ленечка
заболел дифтеритом. Так она уговорила не отдавать его в больницу, а то он
умрет там. Где-то добыли сыворотку, она сама ухаживала за ним. И меня
заразить боялась, все хлоркой мыла. И заразилась.
Он шел в этот вечер под косматым зимним небом, под толстыми, как тросы,
белыми от инея проводами, шел и думал. Он думал о Саше, о войне, о крови,
которая третий год льется на всех фронтах, а в ней так чудно слилась.
Какой-то дед возил детей крестить, клал, как котят, в корзинку и вез.
Какая связь? А связь есть, только незримая; во всем, что происходит, есть
связь всех с каждым. Согласись он тогда остаться при штабе бригады, как
лейтенант Таранов остался, и никогда бы он не встретил Сашу. Только на
отдалении видишь, как связано одно с другим.
Сильный луч прожектора осветил снег, далеко вперед кинул его тень.
Третьяков оглянулся. По лезвиям рельсов мчался на него слепящий свет,
втягивал в себя из тьмы блестки изморози.
Он сошел с полотна. Налетел, промчался мимо него с грохотом по
прогибающимся рельсам тяжелый состав, увлекая с собой морозный ветер:
товарные вагоны, платформы, туши танков на платформах под заметенным
брезентом, часовые в валенках на площадках вагонов, отвернувшиеся от ветра,
платформы с пушками, вагоны, площадки, часовые-- мелькало, мелькало, мчалось
в грохоте, в стуке колес, и выше, выше над мчащимся составом вздымалась
снежная пыль. В этом взметенном снегу, в снежной мчащейся метели мелькнул и
скрылся последний вагон. Туда умчался, к фронту. И устремилось вслед, с ним
вместе унеслось что-то, как оторвалось от души. И ощутимой стала пустота.
-- Ну, пожили мы дружно, госпитальной каши поели, пора и честь знать. А
то тут с вами воевать разучишься,-- говорил Китенев, по грудь укрытый
одеялом. Как раз с вечера всей палате сменили белье-- и постельное и
нательное,-- и он в чистой клейменой бязевой рубашке лежал высоко на
подушке, заложив руки за голову, край белой простыни отвернут поверх одеяла.
Потянулся, разведя локти, сладко зевнул до слез.-- Будете тут радио без меня
слушать, где чего на свете делается. Я на Украине в госпитале лежал...
-- А говорил, ни разу не раненный,-- на слове поймал его Старых.
-- Ни разу. Это меня при бомбежке привалило. Вот начнут с утра по
радио-- чудно слушать: захоплэно, литакив, гармад, рушныць... Мы возьмемся
считать, сколько у немца "захоплэно"... Да ему уж воевать нечем! У него за
всю войну столько не было, сколько у него "захоплэно".
-- Не ранен, а в госпитале лежал.
-- Не ранен.
-- А контужен -- не один черт? Нет таких в пехоте, чтобы воевал и нигде
не раненный, не побитый.
-- И не контужен. Меня землей привалило!-- с достоинством говорил
Китенев. В госпитале месяцы мелькают быстро, а каждый день долог. Вот
Китенев и старался с утра пораньше "завести" Старыха, благо тот "с
полоборота заводится". Они еще попрепирались со скуки: "Присыпало... А если
б не откопали?" "Второй раз закапывать не пришлось бы..."-- и Китенев
повернулся на бок, подпер голову, стал глядеть на Третьякова. Тот спокойно
сгибал и разгибал поверх одеяла раненую руку. Врач еще на первых перевязках
сказала ему: "Хочешь, чтоб рука осталась крючком?" "Зачем же мне?" --
испугался Третьяков. "Тогда разрабатывай сустав, а то так и срастется". И
хоть больно бывало вначале, кровью промокала повязка, оставаться инвалидом
ему не хотелось.
-- Ну?
Глаза у Китенева светлые, как вода, прозрачные. Третьяков ждал.
-- Вот не знаю, оставлять тебе шинель в наследство, не оставлять?
Может, зря только трепешь казенное имущество? Похоже, что зря.-- В светлых
глазах его смех играет:-- А вообще как?
Третьяков, улыбаясь, ждал:
-- Я спрашиваю, как в смысле морально-политического состояния?
-- Бодрое.
-- А ведь какой был юноша!-- Китенев подложил подушку под спину, сел
повыше.-- Его когда в палату привезли, я думал, к нам девушку кладут. Глаза
ясные, мысли чистые и все устремлены на разгром врага. А полежал с вами, и
вот чего из него получилось. Это он от Старыха понабрался. Не учись у него,
Третьяков, он уже лысый. Между прочим, ты, Старых, своей лысине жизнью
обязан. Ты ведь от стыда прикрылся. А будь у тебя чуб, как у некоторых
военных, стал бы ты каску на голову надевать?
Китенев процедил сквозь пальцы волнистый свой чуб, заметно отросший в
госпитале. Медсестра, с ложечки кормившая Аветисяна гречневой размазней,
сама рыженькая, круглолицая, румяная, так заслушалась радостно, что ложку
уже не в рот совала, а в ухо.
-- А ну, руку мне сожми! -- Китенев протянул Третьякову свою руку. Тот
полюбовался, как на ней от кисги до засученного по локоть рукава играют все
мускулы.
-- Зачем?
-- Старшего по званию спрашивают "зачем"? Приказано жать-- жми! Может,
ты симулянт.
Посмеиваясь, Третьяков слабыми пальцами сжал, сколько мог.
-- И все? Ты что, вообще такой слабосильный? А ну, правой жми! Нет,
силенка есть. А ну, левой еще разок! А ну, смелей!
-- Все.
-- Как все?
-- Все. Сильней не могу.
Тут Старых прискакал, подпираясь под плечо костылем, сел на койку с
разбегу, обнял костыль. Лицо, жаждущее рассказать.
-- Это тоже привели одного на медкомиссию, рука не хуже твоей, не
разгибается... Ты слушай, слушай, опыта набирайся, плохому не научу.
Приводят его, ага... "А ну, руку разогни". "Она у меня такая..." Пробуют
силом разогнуть. Все точно, отвоевался парень, надо списывать по чистой. А
тут хирург-старичок не зря нашелся: "Ну-ко покажи, как она у тебя прежде
была?" "Прежде-то во как!"-- И сам разогнул. Гляди, Третьяков, будут
спрашивать, мимо ушей пропускай.-- Старых махнул себя по уху.-- Врачи, они
теперь до-ошлые...
Белые двери палаты раскрылись, в белых халатах вошли двое. Передний,
солидный, подымал плечи, очки его гордо блеснули на свету. При нем суетился
начхоз.
Начхоз был вольнонаемный. На нем под халатом -- мятые гражданские брюки
в полосочку, не достающие до ботинок. Нестроевой, ограниченно годный по
какой-то статье, он в их офицерскую палату входил, пресмыкаясь, понимал, как
должны раненые смотреть на него, не безрукого, не безногого. И хоть ничего в
его судьбе от них не зависело, готов был услужить каждому. "Жить хочет",--
определил Старых. И даже про то, что начхоз шепелявит от рождения, сказал:
"Придуривается! Нестроевой... С женой спать, тут он строевик, а как на
фронт-- ограниченно годный".
Третьякову всегда стыдно было за этого человека, не стыдящегося унижать
себя. Как можно жить от освидетельствования до освидетельствования, ждать
только, чтоб опять признали ограниченно годным, отпустили дослуживать в
тылу... Ведь мужчина, война идет, люди воюют.
Но сегодня начхоз нес службу при начальстве. Никого в отдельности не
замечая, строгим взглядом прошел по головам:
-- Здесь он, здесь. Разве что если на перевязку... Третьяков! Подводите
вы нас. Вами вот интересуются.
Что-то знакомое почудилось Третьякову в солидном человеке, которого
начхоз пропускал вперед, в его манере подымать плечи. Но тут Старых неохотно
поднялся с кровати, загородил обоих. А когда отскакал в сторону, они уже
стояли в ногах.
-- Володя!
-- Олег!
В портупее косо через плечо, в распахнутом белом халате стоял перед ним
его одноклассник Олег Селиванов, смотрел на него и улыбался. И начхоз
улыбался, родительскими глазами глядел на обоих. И вся палата смотрела на
них.
-- Как ты разыскал меня?
-- Да, понимаешь, совершенно случайно. Олег сел на ребро кровати, полой
халата прикрыл полное колено, обтянутое суконным галифе. Военная форма,
погоны под халатом, портупея, ремень. А в стеклах очков те же кроткие,
домашние глаза. Бывало, стоит Олег у доски, весь перепачканный мелом, потный
от стыда: "Спросите у мамы, я, честное слово, учил..."
-- Слушай, по виду ты прямо "товарищ командующий".
-- Главное, ты здесь столько лежишь, а я лишь вчера узнал. В бумагах
попалось...
-- Представляешь, капитан, вместе в школе учились,-- сказал Третьяков,
отчего-то чувствуя некоторую неловкость за Олега: того так почетно ввели,
такой он сидел здоровый, свежий с улицы.
-- Бывает,-- сказал Китенев и встал, надевая халат.
-- Олег, но как ты здесь?
-- Я -- здесь.
-- Здесь?
-- Здесь.
И оба в этот момент почувствовали тишину палаты.
-- Пошли, ротный, покурим,-- сказал Китенев громко. Вместе со Старыхом
пошли они в коридор. И начхоз удалился, для порядка еще раз оглядев палату.
Шелестел газетой Атраковский на своей койке, заложив руку за голову.
Оголившийся белый худой локоть его с опавшими синими венами, как неживой,
торчал вверх.
Олег протирал стекла очков полой халата, слепо мигал будто припухшими
глазами. Смутно вспоминалось Третьякову-- мать писала ему на фронт или
Лялька писала,-- что призвали Олега вместе с ребятами из их класса, с
Карповым Лешкой, с братьями Елисеевыми, Борисом и Никитой, куда-то их
погнали уже обмундированных, а потом Олег вернулся. И что-то угрожало ему.
Но будто бы вмешался отец, известный в их городе врач-гинеколог, и Олега по
зрению признали негодным к строевой службе. В школе он действительно видел
плохо.
-- Знаешь, кого я здесь встретил на базаре?-- Олег надел очки, взгляд
за стеклами прояснился.-- Мать Сони Батуриной, помнишь ее? Она еще голову
тебе бинтовала на уроках военного дела. По-моему, Соня была в тебя немножко
влюблена. Она ведь убита, ты не знал?
-- Разве она была в армии?
-- Она сама пошла. Такой тогда был подъем в первые дни!
-- Так я ее в августе встретил. Какие ж первые дни?
-- А ты не путаешь?
Нет, он не путал. Он встретил Соню Батурину в самом конце августа: уже
астры продавали. Соня сказала:
"Смотри, астры! Скоро в школу. Только уже не нам. Какие синие!" Он
купил ей букет. Как раз у Петровского спуска. Потом они стояли на мосту.
Соня спиной оперлась о перила, распушивала астры, смотрела на них. Под
мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две их тени на мосту,
казалось, плывут, плывут навстречу. "А ведь мне еще никто никогда не дарил
цветов,-- сказала Соня.-- Ты-- первый". И посмотрела на него, держа букет у
подбородка. Он поразился еще, какие синие у нее глаза. И весь подбородок и
кончик носа она выпачкала желтой пыльцой. Он хотел достать платок, но платок
был грязный, и рукой осторожно стирал пыльцу, а Соня смотрела на него.
Сказала вдруг:
-- Интересно, каким ты будешь после войны, если встретимся?
Значит, она тогда уже знала, что уходит на фронт, но не сказала ему.
Потому что он, парень, был еще не в армии.
-- Она сама подошла ко мне на базаре, а так бы я ее, наверное, не
узнал,-- рассказывал Олег.-- , нее вот эта часть лица... Нет, вот эта...
Подожди, я сейчас вспомню.-- Он пересел на кровати другим боком к окну,
подумал:-- Да вот эта. Она отсюда подошла. Вся вот эта часть лица у нее
перекошена и глаз открыт, как мертвый. Это парез, паралич лицевого нерва. Я
потом был у нее, она мне читала Сонины письма. Очень тяжело... А помнишь,
как у меня на галерее мы играли в солдатики? У тебя была японская армия, а у
меня были венгерские гусары. Помнишь, какие красивые были у меня венгерские
гусары?
Из-за стекол очков с широкого мужского лица смотрели на Третьякова
детские глаза, в которых время остановилось. Они смотрели на него из той
жизни, когда все они еще были бессмертны. Умирали взрослые, умирали старые
люди, а они были бессмертны.
В коридоре, пожимая огромную ладонь Олега, Третьяков сказал: "Приходи
еще",-- а сам очень надеялся, что больше Олег не придет.
Старых сразу же спросил в палате:
-- Кореш?
-- В школе вместе учились. Вот разыскал меня.
-- Большой человек.-- Старых радостно ощерился.-- Нужен родине в тылу.
-- Что ты знаешь? У него зрение...
-- Плохое!
-- Он ночью вообще, если хочешь знать...
-- Фронт с тылом перепутал!-- под смех палаты закончил за него
Старых.-- Сослепу! Это не хуже того, летом в сорок втором везли нас в
санлетучке. Как раз самое он на Сталинград пер... Какая же это станция, вот
не вспомню... Ну, шут с ней. Тут эшелон с оборудованием на путях, тут бабы,
детишки, кого взяли, кого брать не хотят, слезы, визг, писк. Набились к нам
в товарные вагоны. Не положено, а не оставлять же. Тут гражданин вот такой
солидный вперся с чемоданами. Его выпихивать. "Товарищи, товарищи, что вы
делаете? Я нужен нам!"
-- Врешь!-- хохотал Китенев-.-- Ведь врешь!
-- Я нужен нам!
 Для тяжелораненых самые трудные часы ночью, для выздоравливающих самое
тягостное время-- вечер. Вечером в палате сумеречный желтый свет
электричества, хлопья теней по углам, и все, кого отделила война-- и мертвые
и живые,-- все они в этот час с тобой.
Этой ночью снился ему отец. Смотрел на него издали, непохожий на себя,
поникший, стриженный наголо, старый, каким он не видел отца ни разу в жизни.
И в то же время он знал, что этот жалкий человек со шрамом через всю
голову-- это его отец.
Он ведь даже не простился с ним. Когда это случилось, он был в
пионерском лагере. В воскресенье, как обычно, ко всем приехали родители, к
нему почему-то не приехал никто. Потом среди недели приехала мать. Была она,
как после болезни, и всякий раз, когда смотрела на него, он видел в глазах у
нее близкие слезы.
Она сказала, что отец в командировке, что уехал надолго. И только когда
смена в лагере кончилась, он вернулся домой, увидел опечатанную дверь во
вторую комнату, мать рассказала, как это было...
Никогда прежде он так не любил мать, как в эти дни, когда несчастье
обрушилось на них. И он решил для себя твердо: кончит седьмой класс, пойдет
работать. Отец бы тоже так поступил и так бы сказал ему. Лялька маленькая,
пусть учится, а он-- старший. Но потом появился Безайц. Этого он не мог
матери простить: ни за отца, ни за себя.
Но если он воюет честно и на фронт пошел сам, когда их год еще не
призывали, если он все прошел, как положено, так ведь это отец его воспитал.
Мысленно он представлял не раз, как вернется с войны, придет и скажет, и
судьба отца изменится. Он не знал толком, куда он придет, как все будет, но
верил: кончится война, он придет с фронта, и разберутся, поймут, что
произошла страшная ошибка, отец его ни в чем не виноват. Даже с матерью он
не говорил об этом, а с Атраковским временами хотелось поговорить. Они
как-то стояли у окна вблизи операционной, и он спросил, за что у
Атраковского этот орден. Тот сверху глянул себе на рубашку: "Это мой пропуск
в жизнь". И усмехнулся.
Атраковский ходит сейчас по палате, думает о чем-то, думает. И Старых
думает над шахматной доской. С кровати, из сумерек, Третьякову видно, как он
сидит, подперев голову, уминает пальцами розовый шрам на лбу.
-- Конем, конем походи, старшой,-- громко советует повар. А сам, весь
перекривляясь, подмигивает на слепого Ройзмана, что-то другое показывает на
доске. Старых вскочил белый:
-- А вот костылем сейчас в лоб похожу! -- И на всех:-- А ну,
раздвинься! Обступили-- дыхнуть нечем.
-- И чего намахивается?-- пристыженно оправдывался повар.-- Человеку
добра желают, в воду пихают, а он, как оглашенный, на берег лезет...
Повар каждый вечер здесь, в их офицерской палате: стоит смотрит, жаждет
сыграть. Он разъевшийся, выбритое лицо блестит, как безволосое, рыхлая грудь
необъятна. Но это не от вольных хлебов. У него ранение, в котором стыдно
признаваться. Редкий не засмеется, узнав, куда он ранен, повар уже привык к
этому, не обижается. Он как раз перед самой войной женился, руки у него
целы, ноги целы, но приехал домой, жена поплакала-поплакала и честно
сказала, что жить с ним не сможет. И он вернулся обратно в этот госпиталь
вольнонаемным, по вечерам приходит в их палату, переживает: "Пешкой
походи..." Как-то сказал он: "Пока война-- ничего. А кончится война,
разъедетесь вы все..."
И впервые тогда Третьяков поразился мысли: человек боится, что кончится
война. Пока они здесь, он, как все, будто и для него ничего не кончилось. Не
дай Бог, чтобы так ранило, пусть лучше сразу убьет. И все равно у Третьякова
к нему почему-то гадливое чувство.
-- Старшой, дай одну сгоняю,-- просит повар и суетится, чтобы пустили к
доске.
-- Обождешь!
Старых вновь расставляет шахматы, пристукивая фигурами по доске.
-- Давай, капитан, в шашки.
-- В шашки?-- переспросил Ройзман.-- Нет, в шашки трудно, они все
одинаковые.
-- Как он их запоминает! -- поражается Старых.-- Я мыслью вперед
устремлюсь, эти ходы забываю...
Кто-то неуверенно открывал дверь палаты. Посторонний, должно быть,
кто-то. Третьяков приподнялся на здоровом локте, в дверях-- Саша.
-- Саша,-- говорил он, обе ее озябшие руки грея в своей одной руке.
Ткнулся губами в ледяные кончики пальцев и все их один за другим
перецеловал, оторваться не мог. Когда поднял голову, сердце колотилось.
Сияющими глазами Саша смотрела на него.
-- Саша,-- говорил он пьяный.-- Саша. Не надеялся, ждать не мог, а она
пришла.
-- Как же ты догадалась?
-- Я думала, ты заболел. Морозы, а он в одной шинели.
-- Нет шинели, отобрали у меня шинель, в том-то все и дело. Сижу --
выйти не могу.
-- ...Схватил, думаю, воспаление легких. Я даже к маме не пошла.
-- Саша!
Она сидела на подоконнике-- в белом халате, коса перекинута на грудь,--
а он стоял перед ней, держал ее руки, смотрел на них, как на чудо в своей
руке.
-- Там сторожа нового поставили... Я говорю, мне надо насчет
художественной самодеятельности договориться. А я, говорит, не обязан из-за
тебя места лишаться, у меня приказ.
-- Так там две доски в заборе оторваны. Они только на гвозде висят. Их
раздвинуть...
-- Если б не они, я бы не прошла. Хорошо, Тамара Горб дежурит, дала мне
халат.
Какие крошечные у нее пальцы. Озябшие. И почему-то пахнут паровозным
углем.
-- Так я же уголь собирала,-- говорит Саша.-- Это счастье, что мы рядом
с железной дорогой живем, а то бы вовсе топить было нечем. Пока поезд стоит,
обязательно из топки под паровозом насыплется. Иногда целое ведро наберешь.
-- Под вагонами?
-- А иначе гоняют, не дают собирать.
-- А если тронется?
-- Я однажды, знаешь, как напугалась! Ведро там оставила...
Она вдруг соскочила с подоконника: в конце коридора показалась белая
шапочка врача. По лестнице они побежали от него наверх, на третий этаж. И
смеялись, и весело было обоим. Но и там наткнулись на палатного врача. И
всюду, куда они прибегали, натыкались на кого-нибудь. Только на холодной
лестнице, под самым чердаком, никого не было. Они прибежали сюда
запыхавшиеся. Тут стояли огромные снеговые лопаты, движки с деревянными
ручками, прислоненные к стене, что-то валялось. Окно, как в нетопленном
помещении, было все изнутри в мохнатом инее. Около этого голубого снежного
окна он обнял Сашу и поцеловал. Целовал вздрагивающие под его губами веки,
щеки, пальцы, пахнущие углем.
Дрожа, они стояли на холоде, грелись общим теплом. Бухнула дверь внизу,
затопали вверх шаги.
Проводили Ройзмана. И, глядя, как он палочкой ощупывает впереди себя
дорогу, как неуверенной ногой ищет порог, опять Третьяков видел его прежним:
бывало, входил гордо на негнущихся ногах, глянцевые от бритья щеки
припудрены, взгляд холоден.
На его место привела сестра под локоть тоже капитана, согнутого
какой-то болезнью, желтого, желчного, всем недовольного. Призванный осенью
сорок третьего года, когда с него сняли бронь, капитан Макарихин до фронта
еще не добрался, все воевал с врачами по госпиталям. В палате он сразу начал
устраиваться надолго. "Я вас не потесню, если займу еще вот эту полочку?"--
спрашивал он Аветисяна. А тому и челюстью шевельнуть больно, он только мигал
огромными своими мохнатыми ресницами. "Вот и хорошо",-- сам за него
соглашался Макарихин и занимал еще одну полочку.
Он обнюхал подушку со всех сторон, брезгливо держа ее на весу, перетряс
тюфяк, напустив пыли на всю палату.
-- Им лишь бы в строй, лишь бы в строй выпихнуть,-- говорил Макарихин,
кулаками разбивая комья ваты в тюфяке,-- годен, не годен-- в строй,
И вскоре уже ходил между койками, раздавал статьи, по которым каждого
из них должны комиссовать.
-- Твоя-- одиннадцать бе,-- указал он пальцем на Третьякова.--
Ограниченно годный первой степени, что в мирное время означает инвалид
третьей группы.
"Сам ты инвалид ушибленный",-- подумал Третьяков, которому никто еще
никогда этого обидного слова не говорил. И с этой минуты возненавидел
Макарихина. А Старых, когда капитан вышел к сестрам что-то требовать для
себя, сказал, глянув вслед:
-- Вполне может не успеть на войну. "Жизнь отдам за Родину, а на фронт
не поеду..." Из таких.
И долго качал лысой своей головой, которая потому только сидела у него
на плечах, а не сгнила в земле, что вовремя каска на ней оказалась.
За обедом Макарихин ел, дрожа челюстью, всхлипывал над горячим.
-- Воруют,-- говорил он, тяжело дыша.-- Половину воруют из котла. У нас
в запасном полку устроили ревизию повару-- во, сколько за две недели
наворовал! И смеется, мерзавец: "Я за две недели столько, а до меня по
стольку-- за день..."
Байка была старая, всем известная, но Макарихин рассказывал ее как
свою.
-- Вон у вас повар какой разморделый. Для начальства надо украсть? А
для себя? А для семьи?
-- Слушай, Макарихин,-- позвал его Китенев. Тот поднял от миски
замутненные едой глаза.-- У тебя как, на ногах не отразилось?
-- Не понял.
-- Пешком ходишь нормально?
-- Если не на далекие расстояния... Вообще-то у меня, конечно,
плоскостопие-- раз, варикозное расширение -- два...
-- На близкие.
-- На близкие?-- Макарихин взял себя за колено, пристукнул ногой об
пол.-- На близкие могу.
-- Тогда иди ты...-- И Китенев кратко и четко послал его "на близкое
расстояние". Предупредил: -- И не задерживайся!
Макарихин оглядел всех, молча взял свой хлеб, взял миску и отсел
отдельно к себе на кровать.
-- Соскучитесь вы здесь без меня,-- говорил Китенев дня через два,
явившись в палату в полном боевом, в наплечных ремнях, в сапогах.
Выписывался он из госпиталя не утром, как обычно, и не днем даже, а под
вечер, чтобы последнюю ночку здесь, в городе, переночевать. И у Тамары Горб
все в этот день валилось из рук. Она то плакать принималась, то глядела на
всех мокрыми сияющими глазами: к ней уходил он прощаться.
Теперь оставалось их трое из прежней палаты: Атра-ковский, Старых и
Третьяков. И еще Аветисян своим стал за это время, хоть по-прежнему слышно
его не было. Все трое они чувствовали себя здесь недолгими гостями, подходил
их срок.
-- Давай сразу на мою койку переселяйся, будешь рядом с Атраковским,--
говорил Китенев, помогая Третьякову перебраться, и сунул ему под подушку
сложенную шинель.-- Пользуйся. Твоя.
Они сели колено к колену. Китенев достал плоскую фляжку. А когда выпили
на прощание, лицо у Старыха вдруг обмякло.
-- Пехота, ты что?-- смеялся Китенев, сам растрогавшись, и хлопал
Старыха по гулкой спине. Тот хмурился, отворачивался.-- А еще хвалился: я
раньше вас там буду.
-- Все там будем.
-- Просись на наш фронт, вместе будем воевать. Роту тебе не дадут, ты в
голову ушибленный. Дивизией сможешь наворачивать вполне.
Они шутили напоследок, а сами знали, что расстаются навсегда: на долгую
ли, на короткую, но на всю жизнь. Хотя чего в этой жизни не бывает!
В тот же вечер в шинели, оставленной ему в наследство, Третьяков был у
Саши. Фая показала ему, где ключ от комнаты, похвасталась:
-- Иван Данилыч посулился прийти.
Она мыла на кухне картошку, тесно напихивала ее в котелок. Лицо у Фаи
припухло сильней, по нему пятна пошли коричневые-- над бровями, на верхней
губе, так что белый пушок стал виден. Она заметила его взгляд, застыдилась:
-- Ой, чо будет, чо будет, сама не знаю. Таки сны плохи снятся. Эту
ночь,-- Фая махнула на него рукой, будто от себя гнала,-- крысу видала. Да
кака-то больна, горбата, хвост голый вовсе. Ой, как закричу! "Чо ты? Чо
ты?"-- Данилыч мой напугался. У меня у самой сердце выскакиват.
-- Серая была крыса?
-- Будто да-а.
-- Ну, все! Жди, Фая, сына и дочку. Примета верная.
Фая даже зарумянела:
-- Смеешься ли, чо ли?
-- Какой смех! Вот напишешь мне тогда. У нас в госпитале один
человек...
И не выдержал, улыбнулся.
-- А я рот раскрыла, уши развесила,-- хотела было обидеться Фая, но он,
веселый, похаживал по кухне, и ей с ним было не скучно.
Он шел сюда показать себя Саше. Впервые сегодня в оба рукава надел он
гимнастерку. Увидел себя в оконном стекле не в опостылевшем халате, а
подпоясанного, заправленного и понравился сам себе. И шел, чтобы Саша
увидала его таким.
Сбив огонь, вспыхнувший на тряпке, примяв хорошенько тряпку о плиту,
Фая оглянулась на дверь, шепотом сообщила:
-- У Саши-то, мать у ей -- немка!
-- Знаю.
-- Призналась?-- обомлела Фая.
-- А в чем ей, Фая, признаваться? В чем она виновата?
-- Дак война-то с немцами.
-- И Сашин отец с немцами воевал, на фронте погиб.
-- А я чо говорю! Сколь домов в городе, дак похоронки ведь в каждом
дому. Народ обозленный!
И взглядом пригрозила. А потом словно бы вовсе тайное зашептала ему:
-- Не знать, дак и не подумашь сроду. Женщина хороша,
роботяща-роботяща. Ой, беда, беда, чо на свете-то делатся!
И тут увидала руку его в рукаве:
-- Ты чо? Не на войну ли собрался?
-- Тихо, Фая, враг подслушивает! Она и правда оглянулась, прежде чем
поняла. Закачала головой:
-- Вот Сашу обрадуешь... 0-ей, о-ей... С тем ушла к себе, а он сидел в
коридоре на корточках, курил в холодную топку, ждал.
Стукнула входная дверь, тяжелое что-то грохнуло на кухне. Саша, вся
замотанная платком, обындевелая, перетаскивала от порога ведро с углем,
улыбнулась ему:
-- А я знала, что ты придешь. Иду и думаю; наверно, ждет уже.
И смотрела на него радостно. Он подхватил ведро у нее из рук.
-- Как ты его несла, такое тяжелое?
-- Бегом! Пока не отобрали.
-- Опять под вагонами лазала?
-- Под вагонами и собирала.
И оба рассмеялись, так ясно прозвучал у нее Фаин выговор.
-- Говори, что с ним делать?
-- Поставь. Я сейчас из ковшика оболью...
-- А вот мы его под кран!
Он встряхнул ведро на весу, не стукнув, поставил в раковину, открыл
кран. Зашипело, белый пар комом отлетел к потолку, запахло паровозом.
Радостная сила распирала его. Отнеся ведро к топке, огляделся.
-- Так! Сейчас мы щепок наколем...
-- У нас нечем колоть,-- из комнаты сказала Саша.-- Я ножом нащеплю.
-- Найдем.
Он отыскал на кухне под столом у Пястоловых ржавый косарь: без шапки, с
поленом и косарем в руке выскочил на улицу. Смерзшийся снег у крыльца был
звонок, полено далеко отскакивало, как по льду. Он гнался за ним, когда
прошли в ногу братья Пястоловы. Старший был пониже ростом, коренаст и нес
себя с большим достоинством. Он что-то спросил у брата и рукою в перчатке
поощрительно потряс над шапкой у себя:
-- Р-работникам!
Это и был военком, Третьяков разглядел у него на погонах по одной
большой звезде. И, помня, что в тылу младшего по званию украшает скромность,
приветствовал его, как положено:
-- Здравия желаю, товарищ майор.
Василий Данилович так и засветился гордостью за брата, приотстал, всего
его открывая обозрению. А тот с высоты крыльца бросил поощрительно:
-- Уши отморозишь!
-- Ха-ха-ха!-- смехом подхватил шутку младший брат.
Пока наколол, собрал-- озяб. В кухню вскочил-- ни ушей, ни пальцев рук
не чувствует. На примерзшем к подошвам снегу поскользнулся у порога в тепле,
чуть не рассыпал все.
-- Как от тебя морозом пахнет!-- сказала Саша и вдруг увидела его
руку:-- Тебя выписывают? Ты уже здоров?
-- Да нет, нет еще! И честно сознался:
-- Это я просто хотел показаться тебе. Но еще не раз в этот вечер ловил
он на себе ее взгляд, совсем не такой, как прежде. А когда растопили печь и
сидели рядом, Саша спросила:
-- Ты на кого похож, на отца или на маму?
-- Я? Я -- на отца. У нас Лялька -- одно лицо с матерью. Вот жаль,
фотографии в полевой сумке остались, я бы показал тебе.
-- Она младше тебя?
-- Она малышка. На четыре года младше. И Саша увидала, каким добрым
стало у него лицо, когда заговорил о сестренке, какая хорошая у него улыбка.
Опять огонь плясал на их лицах и пахло из печи березовым дымком. У
Пястоловых все громче слышались голоса за дверью.
-- Мне почему-то все время так спокойно было за тебя,-- сказала Саша.--
Конечно, все эти приметы-- глупость. Но когда от тебя ничего не зависит,
начинаешь верить. Считается, если сын похож на мать, будет счастливым.
Володя Худяков одно лицо был с матерью... Может, потому и было спокойно за
тебя, что впереди столько времени! А сейчас увидала твою руку...
-- Вот знай, Саша,-- сказал он,-- со мной ничего не случится.
-- Не говори так!
-- Я тебе обещаю. А ты мне верь. Я если что-нибудь пообещаю...
Тут Фая появилась в коридоре, поманила Сашу в кухню. Он сидел у печи,
смотрел в огонь, пошевеливал прогоравшие поленья, взяв совок, засыпал на них
уголь. Затрещало, запахло паровозом, черный спекавшийся пласт задушил огонь.
Постепенно из него начали пробиваться синие угарные язычки.
Саша вернулась чем-то обрадованная и смущенная.
-- Пойдем к ним.
-- Чего мы там не видели, Саша?
-- Неудобно, зовут все-таки.
-- Послушать, как товарищ майор шутят? Я чего-то не соскучился.
-- Мы ненадолго. Пойдем, а то обидятся.
Он видел, она почему-то хочет пойти, что-то недоговаривает. Встал,
заправил гимнастерку.
-- Загонит меня майор на гауптвахту, передачи будешь носить?
-- Буду!
-- Помни, сама отвела.
У Фаи, как всегда, жарко натоплено. Пахло кислой капустой, она стояла в
миске на столе. Последний раз он ел кислую капусту дома, до войны. И еще
пахло жареным свиным салом. Но им только пахло.
Фая захлопотала, усаживая их за стол:
-- Чайку попьете!
Братья сидели, оба красные, подбородки масленые.
-- Вот она, эта рука его, погляди,-- говорила Фая и брала Третьякова за
скрюченные пальцы левой руки, показывала Ивану Даниловичу. Тот глянул
снисходительно круглыми, будто усмехающимися глазами.
-- Левая?
И тут только заметил Третьяков, что правая рука военкома, лежавшая на
столе,-- в черной кожаной перчатке и рукав на ней, как на палке, обвис.
-- Вместе-то вам как раз двумя руками управляться,-- захохотал Василий
Данилович.-- Твоя лева, его-- права, во как ладно!
-- Точно!-- сказал военком.
-- Он, как знал, с детства левша. Бывало, отец ложку выдернет: "Правой
люди едят, правой!" И в школе ему за нее доставалось. А как на финской праву
руку оторвало, вот она, лева-то, не зря и пригодилась.
И опять военком сказал:
-- Точно!
Круглые его глаза сонно усмехались. По выговору был он, наверное,
из-под Куйбышева откуда-нибудь; в училище у них старшина, родом из города
Чапаевска, вот так же выговаривал: "Точшно".
-- Да он в одной левой побольше удерживает, чем другой в двух руках! --
похвалялся братом Василий Данилович, а тот молча позволял.-- Надо тебе сотню
врачей -- на другой день сто и выставит. По скольку их каждого готовят в
институтах? Лет по пять? По шесть? А он даст двадцать четыре часа на всю
подготовку -- и вот они готовые стоят. Надо двести инженеров, двести и
выстроит перед тобой!
Иван Данилович слушал, посапывая, дышал носом, сонно усмехался. Качнул
головой:
-- Погляди-ко в буфете, может, и ты перед нами выстроишь чего-нибудь?
Василий Данилович заглянул за стеклянную дверцу, вытащил на свет
заткнутую пробкой четвертинку водки.
-- Три пятнадцать до войны стоила! Шесть-- поллитра, три пятнадцать--
четвертинка. Еще коробка папирос "Казбек" была три пятнадцать.
-- Да ты их курил ли тогда, казбеки-то?-- спросил старший брат.
-- Оттого и запомнил, что не курил. А пятнадцать лишних копеек они за
посудину брали,-- как особую хитрость отметил Василий Данилович.-- Это во
сколько же раз она поднялась? О-о, это она во сто раз подскочила! -- говорил
он, наливая в маленькие рюмки, которые Фая недавно, видно, убрала, а теперь
одну за другой ставила, стряхивая предварительно.-- Еще и побольше, чем во
сто раз!
И словно теперь только узнав ей настоящую цену, он каплю, не стекшую с
горлышка, убрал пальцем, а палец тот вкусно облизнул.
Неловко было Третьякову принимать рюмку. В палате у них кто бы что ни
принес, считалось общее. А тут он ясно чувствовал: не свое пьет. Но и
отказываться было нехорошо.
Выпили. Фая положила ему капусты.
-- Капустки вот бери, закуси.
-- Спасибо.
И незаметно пододвинул Саше. А она, не ожидавшая этого, покраснела.
Братья захохотали.
-- Здорово это у них получатся: он пьет, она заку-сыват!
А Фая, будто сердясь, будто швырком, еще подложила на тарелку.
-- Я не хочу, Фая, правда,-- говорила Саша.
-- Врозь, что ль, положить?
-- Нет, мы вместе.
Они и были вместе сейчас, хоть старались друг на друга не смотреть. И
незаметно один другому отодвигали капусту по тарелке. А Фая, подойдя и будто
еще больше осердясь, брала в свою руку нечувствительные, скрюченные, вялые
пальцы его раненой руки, показывала их Ивану Даниловичу:
-- Чо, он ей навоюет, рукой етой? -- Она, как тряпки, разминала
бессильные его пальцы.-- Чо он может ей?
Он отобрал руку, отшутился:
-- У меня, Фая, работа умственная: не пехота, артиллерия. Тут можно
вовсе без рук.
-- Ты, может, думашь чего? -- горячо напустилась Фая.-- По закону ведь,
по закону! Иван Данилыча, если не по закону, лучше не проси!
И младший брат любимым словцом старшего подтвердил:
-- Точно!
Теперь Третьяков понял, зачем их позвали сюда, что Фая шептала там Саше
на кухне. Чудная она, Фая. Ее если сразу не испугаешься, так разглядишь, что
человек она хороший. Вот если б можно было дров для Саши попросить. Ну что
ж, по крайней мере эту рюмку он мог выпить с чистой совестью.
Иван Данилович, от которого Фая и Саша ждали слова, взял живой,
красной, мясистой кистью левой руки деревянный свой протез в черной
перчатке, переложил поудобней. Вот и на правой была бы у него такая же
сильная, красная кисть. Но, может быть, потому он и жив сейчас, что одна
рука у него деревянная. А уж младшего брата наверняка она от фронта
заслонила.
-- Ну что, Василий, есть у тебя там или вся? А то пожми, пожми.
И Василий Данилович "пожал", и как раз три рюмки налилось. Крупными
пальцами старший брат взял свою рюмку, сказал неопределенно и веско:
-- Который человек кровь свою за Родину пролил, имеет право! И будет
иметь!
И первым махнул водку в рот. На улице Саша спросила виновато:
-- Ты не обижаешься на меня? Он улыбнулся улыбкой старшего:
-- Чудные вы обе с Фаей. А я еще понять не мог, чего мы туда идем?
Заговорщицы...
-- Но почему всегда-- самые лучшие? Вот и отец мой и Володя бедный. В
девятнадцать лет успел только погибнуть. Ты не сердись, что я все о нем
говорю. Я вот уже лица его не вижу. Помню, какое оно, а не вижу.
Они подошли к госпиталю. Фонарь у ворот освещал снег вокруг себя.
-- А чего мы туда идем?-- спросил Третьяков.
-- Но ведь тебя искать будут.
-- А я сам найдусь. Саша, дальше фронта не пошлют! Идем к Тоболу. Не
замерзла?
И, обрадовавшись, поражаясь только, что им раньше это в голову не
пришло, они быстро пошли назад, снег только звенел под его коваными
каблуками.
С улицы, с мороза, духота в палате показалась застойной. Третьяков
осторожно притянул за собой дверь, пошел на носках. Когда глаза начали
различать, увидел, раздеваясь, что с соседней кровати, с подушки, улыбается
Атраковский. И самому смешно стало, когда увидел со стороны, как он крался в
темноте между кроватями.
-- Капитан,-- шепотом позвал он,-- потяните рукав. Атраковский сел на
кровати, босые ступни плоско стали на пол. После недавнего приступа был он
совсем слабый, почти не вставал. А тогда забегали врачи по этажу, зачем-то
внесли ширму из простынь, отделили его от палаты. Он лежал холодный, изредка
открывал тусклые глаза.
-- Не напрягайтесь, держите только, держите,-- говорил Третьяков.-- Я
сам из него вылезу. Вылез, отдышался, поправил повязку.
-- Спасибо.
-- Курить хочешь?
-- Помираю! Все искурил.
Слабой рукой Атраковский полазил у себя под подушкой, начал надевать
халат:
-- Пойдем, я тоже постою с тобой. Все равно не сплю.
-- А чего не спите? Болит?
-- Мысли всякие.
-- Мысли!-- Третьяков радостно улыбнулся. Ему все время отчего-то
хотелось улыбаться.-- Думать будем после войны. Вон Старых спит, как святой,
ничего не думает.
Старых спал ничком, свесившаяся рука доставала до полу. И ничуть ему не
мешало, что рядом с ним шепчутся в темноте. Повернулся на бок, хрястнул
сеткой-- он хоть и не высок, а весь, как каменный,-- чмок-нул губами во сне
и мощно захрапел. Белый гипсовый сапог высунулся из-под одеяла.
-- Я вот так спал на фронте,-- говорил Третьяков, пряча обмундирование
под тюфяк.-- Где приткнулся, там и сплю, сейчас даже удивительно. У нас
комбат спал в землянке, снаряд под землянку угодил. Грунт болотистый, снаряд
фугасный, ушел в глубину, выбросить землю силы взрыва не хватило, вспучило
нары, а он и не проснулся. Утром глядит, земляные нары под ним горбом. Вот я
тоже так спал. А здесь и вшей нет, и как будто что-то кусает по целой ночи.
Меня тут не хватились?
-- Нет.
Раскатав тюфяк поверх обмундирования, Третьяков надел халат.
-- Пошли?
Свыкшиеся с темнотой глаза резанул по зрачкам свет в коридоре. Отошли к
операционной, к дальнему окну. Отсюда видны были огни вокзала, огни на
путях. Окно это было такое же, как все, а вот около него почему-то
происходили самые откровенные разговоры. И с Сашей они тут сидели.
Третьяков так долго не курил, что от первых затяжек на всю глубину
легких ударило в голову и губы занемели. Он смотрел в окно и сам себе
улыбался, не замечая. А на Атраковского хорошим от него веяло. При нем
привезли этого мальчика, на глазах оживал. Щеки синеватые с мороза-- от
госпитальной жидкой кормежки во всех в них кровь не греющая,-- а улыбается,
весел. Но даже когда улыбается, есть во взгляде серьезность, глаза
повидавшие. Он и жалел его и завидовал.
В сорок первом году, когда сам он, раненный, попал в плен и гнали их
под конвоем, увидел он с холма всю колонну. Прошел дождь, солнце светило
предвечернее, свет его был такой щемящий, словно не день, а жизнь догорает.
И по всей дороге под автоматами брели пленные, растянувшийся, колышущийся
строй. А там, куда их гнали, посреди голого болота, сидели люди, сотни,
может быть, тысячи людей, земли под ними не было видно: головы, головы,
головы, как икра. Вот такие мальчики, стриженные наголо, сколько из них
могло бы сейчас жить. Впервые тогда он понял, увидав, как мало в этой войне
значит одна человеческая жизнь, сама по себе бесценная, когда счет идет на
тысячи, на сотни тысяч, на миллионы. Но вот эти так мало значащие жизни, эти
люди, способные в бою сражаться до последнего, а там доведенные до того, что
скопом, отпихивая друг друга, кидались на гнилые очистки, и охрана, сытые
молодые солдаты, забавы ради, потому что это позволено, можно, лениво
стреляли в них из-за проволоки,-- вот эти люди, а не какие-то особые, другие
и есть та единственная сила, способная все одолеть. С какой беззаветностью,
с какой готовностью к самопожертвованию подымается эта сила всякий раз в
роковые мгновения, когда гибель грозит всему.
Там, в плену, был с ним летчик, вот такой же мальчик, постарше немного.
Его подбили над самой целью, над переправой, куда он один долетел. И он, не
дрогнув, направил свой самолет в железнодорожный мост, на верную смерть. И
жив остался, отброшенный взрывом. Он умер от заражения, а до последнего
момента все мечтал бежать из плена. И тоже, если б бежал, доказывал бы, что
никого не предал, не изменил, как не раз приходилось это доказывать
Атраковскому, и тоже осталось бы на нем незримое, несмываемое пятно.
В плену ничто Атраковскому не было обидно: враг есть враг, от него он
не ждал для себя ничего хорошего, и сердце у него там было как каменное. Но
когда не верят свои, вот этого нет тяжелей и обидней.
Приглушенное двойными окнами, раздалось гудение идущего поезда. Минуя
станцию, мчался товарный состав; два паровоза, вместе гудя, мощно тянули
его. Он все шел и шел, все возникали на свету, возникали и исчезали вагоны,
платформы; мчался тяжелый воинский эшелон туда, к фронту, и здесь, на
отдалении, вызванивали стекла. А когда словно оборвался состав и пусто стало
на путях, они с одинаковым выражением глаз посмотрели друг на друга. И
впервые увидел Третьяков, что Атраковский не стар, просто худ очень, один
костяк остался.
Однажды, когда меняли белье в палате и Атраковский, сидя на койке,
стянул с себя через голову бязевую рубашку, обнажив могучий, выгнутый дугою,
весь из острых позвонков хребет, Третьяков случайно увидел эту его руку,
которой он сейчас оперся о подоконник. Перемятая, со страшными ямами,
затянутая глянцевитой сморщенной кожицей, словно мясо из нее вырвано
клоками,-- и вот с такой рукой воевал человек, орден боевого Красного
Знамени заслужил, "пропуск в жизнь", как он однажды назвал его.
-- А ведь еще будем вспоминать это время,-- сказал Атраковский, и глаза
его блестели особенно.-- Кто жив останется, будет вспоминать. Тянет уже
туда?
-- Тянет!-- Третьяков поражался, что капитан говорит то самое, что и он
чувствовал.-- Там, когда уж совсем прижмет, думаешь другой раз: хоть бы
ранило, хоть бы перебило что-нибудь! А тут...
Атраковский смотрел на него, как отец на сына:
-- Там головы не подымешь, а душа разгибается в полный рост.
-- Вот потому я люблю взвод управления,-- перебил Третьяков, ему тоже
хотелось сказать.-- Оторвался от батареи, и никого нет над тобой. Чем к
передовой ближе, тем свободней.
-- Через великую катастрофу-- великое освобождение духа,-- говорил
Атраковский.-- Никогда еще от каждого из нас не зависело столько. Потому и
победим. И это не забудется. Гаснет звезда, но остается поле притяжения. Вот
и люди так.
Они еще долго стояли у окна, курили, взволнованные, и когда молчали,
тоже разговаривали. Глядя в добрые глаза этого мальчика, в глубине суровые,
Атраковский всю его судьбу в них прочел.
Олег Селиванов, как был, в шинели, заглянул в палату, выманил
Третьякова в коридор:
-- Пошли!
-- Привез?
-- Сейчас сваливают.
Нажженное ветром лицо Олега было красно, в порах толстой кожи
золотилась щетина на подбородке.
-- Пошли быстрей. Я начальнику госпиталя сказал, тебя отпустят.
Шаг в шаг, звеня каблуками сапог по смерзшемуся снегу, они шли по
улице. Мороз был в тени; снег, доски заборов, лавочки у калиток-- все, как
золой, серым инеем покрыто с ночи. А на солнце снег, притертый до блеска
полозьями саней, слепил. И пахло в зимний день весной.
Впервые Третьяков открыто шел днем по городу:
Олег Селиванов, блистающий очками, перетянутый портупеей, был ему и
конвой и защита.
-- Как же тебе удалось, Олег? Тот улыбнулся:
-- Думаешь, если я здесь, так все знаю и умею? А я ничего не умею. И не
знаю. Хорошо, человек такой подвернулся, как будто знал, сам предложил.
-- Спасибо, Олег.
-- Мне теперь самому приятно, если хочешь знать. Они шли быстро,
говорили на ходу, пар коротко вырывался изо ртов. Вот, никогда не зарекайся
вперед. Провожая Олега в тот раз, Третьяков искренне надеялся, что больше
тот не придет. Не знал, что еще самому придется разыскивать Олега, что
обрадуется, когда на чхоз приведет его.
"Олег,-- сказал он, потому что больше некого было просить,-- мне нужна
машина дров". У того глаза стали круглей очков: "Володя, но где же я возьму?
Да еще машину целую".-- "Не знаю". И оба знали: должен. Из всего их класса,
из всех ребят, один Олег оставался в тылу.
Для себя Третьяков не просил бы, но Сашу не мог он оставить собирать
уголь под вагонами. И не сомневался: захочет Олег-- сможет. Люди, которые на
третьем году войны шли через военно-врачебную комиссию, жизнь свою ценили
дороже машины дров, а Олег-- секретарь ВВК. "У него печать",-- сказал
начхоз. Для Третьякова печать ничего не значила, но по священному трепету, с
которым это было сказано, понял: судьбы людские у него в руках. И еще больше
уверился: сможет. И вот смог. И пришел гордый. А что ж, сделать доброе дело
для другого человека-- это тоже стоит испытать.
Когда, задохнувшиеся от быстрой ходьбы, они подошли к дому, машины там
уже не было. Гора скинутых двухметровых кряжей перед сараем на снегу, и Саша
ворочает их. Она разогнулась с березовым комлем в обнимку, радостная,
смотрела на них:
-- Я думала, Фае привезли. Я Фаю зову, а они прочли по бумажке,
говорят-- мне.
-- Ты б еще отказалась!
-- Они уехали?-- спрашивал Олег.
-- Они почему-то очень торопились. Скинули быстро, даже денег не взяли.
"Чо нам деньги? Ты бы нам спирту..." А откуда же у нас спирт?-- Саша шла к
ним, варежка о варежку отрясая опилки.-- Володя, я ничего не понимаю.
-- Вот, знакомься: Олег Селиванов.-- Он под спину рукой выдвинул вперед
Олега.-- Человек великий и всемогущий. И учился со мной в одном классе. Это
все -- он.
Саша мягко подала теплую из варежки руку, взглянула серыми в черных
ресницах глазами, и Олег, поздоровавшись, смутился, стал протирать очки.
-- Главное, почти одни березовые!-- восхищалась Саша.-- Ты смотри,
березовых сколько!
-- А мы смотреть не будем,-- Третьяков снял с себя ремень, повесил его
через плечо. Он видел, что дрова произвели на Сашу куда большее впечатление,
чем Олег.-- Мы их сейчас распилим, расколем, сложим в сарай и скажем: так и
було!
У Пястоловых в сарае нашлись козлы. Накинув на себя пуховый платок, Фая
вынесла двуручную пилу. Еще раз вышла, вынесла в голой руке колун. Когда вот
так по-хозяйски, это было ей по душе, она радовалась помочь, рада была за
соседей.
Притоптали снег вокруг козел, взвалили для начала ствол потолще.
-- Ну, Саша!
Когда отпал на снег первый отпиленный кругляк, Олег Селиванов вызвался
колоть. Как был в шинели, в ремне, портупее, взмахнул над собой колуном и
уронил очки с носа. И теперь сидел на чурбаке, удрученный своей неловкостью,
трогал пальцами, смотрел на свет слепое от трещин стеклышко. А они пилили
вдвоем.
Белые опилки брызгали из-под пилы: Саше на валенок, ему-- на полу
шинели, на выставленный сапог. Желтым слоем лежали они под ногами, на
истоптанном снегу, свежо и сильно пахло на морозе распиленным деревом.
Саша раскраснелась, распустила платок, волосы у пылающих щек
закурчавились. Он спрашивал:
-- Устала?
Саша трясла головой:
-- Нет!
Легко шла острая пила, двумя руками в варежках Саша тянула ее на себя,
потом и варежки скинула: жарко сделалось. Позади нее, как не оторвавшиеся от
земли дымы, стояли в небе березы, все в инее, окованные тишиной.
К полудню потеплело, нашла туча, густо повалил снег и зарябило все,
закружилось, сильней запахло распиленной березой, словно это от свежего
снега так пахло. Саша стряхивала его с себя варежками, а он все валил.
От станции, то убыстряясь, как за последним вагоном, то опять ровно,
вновь и вновь ударяя на том же стыке, слышен был мчащийся перестук колес, он
отдавался от земли. Нанесло паровозный дым. И показалось, это не снег летит,
а они сквозь него мчатся, мчатся... Скоро и ему загудит паровоз, застучат
под полом колеса. Он посмотрел на Сашу, вот такой будет помнить ее.
Чье-то лицо, белое в черном окне кухни, несколько раз уже возникало за
стеклом. Саша перехватила его взгляд.
-- Это мама!-- крикнула она сквозь шарканье пилы.-- Я маму вчера взяла.
Такая странная стала, все спрашивает. Ходит по дому, как будто ничего не
узнает.-- Саша перевела дыхание.-- Она там, оказывается, воспалением легких
болела. Мне не сказал никто*
В окне махали белой рукой. Саша убежала в дом, а Олег, замерзнув,
сменил ее. Потом они сели покурить на бревнах. Снег, поваливший из тучи, так
же быстро перестал. Опять светило солнце. Третьяков смерил глазом, хватит ли
у них сил распилить все, и положил Олегу на колено горячую от работы руку,
ладонь ее как будто припухла:
-- Спасибо, Олег. Тот обрадовался:
-- Ну что ты! Я же вижу. Я просто не знал как. Жаль, ты раньше не
сказал.
Саша вынесла им напиться и вновь ушла в кухню. Выбежала оттуда,
размахивая длинными рукавами телогрейки, полы доставали ей чуть не до колен.
-- Это Фая меня нарядила! -- смеялась она, отворачивая стеганые рукава.
Она и в телогрейке была хороша, Третьяков видел, как грустно залюбовался ею
Олег.
Саша взялась относить в сарай, а они пилили вдвоем. Солнце обошло круг
над вершинами берез, оно теперь светило в окно кухни, оттуда несколько раз
уже звали, но он понимал, что второй раз им не взяться, с непривычки сил не
хватит. И только когда допилили все, унесли козлы в сарай, когда Саша смела
со снега щепки, кору, древесный мусор, они подхватили пилу и топор, все
вместе пошли к дому.
Шапкой сбивая с себя опилки и снег, Третьяков оглянулся с крыльца: он
берег для себя этот момент. Пусто перед сараем. Смогли, одолели за один раз.
Постукивая негромко сапогами, они друг за другом вступили в кухню, топор и
пилу поставили у дверей.
-- Это не работники, а угодники!-- басом встретила их Фая и качалась,
сложа руки на животе, полкухни заслоняя собой. А у плиты увидел он худую
старушку в Сашином платке на спине. Саша обняла ее, прижалась к ней, украшая
собою:
-- Это моя мама!
И ревниво схватила: что у него на лице? Потом сказала матери:
-- Мама, это Володя.
-- Володя,-- повторила мать, стыдливо прикрыв рот, в котором не хватало
переднего зуба. Рука была белая, бескровная, даже на вид холодная, с белыми
ногтями.
-- Маму там зачем-то остригли,-- говорила Саша, прихорашивая, поправляя
ей волосы над ушами.-- У мамы косы были длинней моих, а она дала остричь
себя коротко. Ни за что бы я не согласилась, если б знала.
Два рослых человека стояли у порога: один совсем солидный, в очках, в
погонах, в ремнях; другой -- я солдатской расстегнутой шинели, и дочь
сказала: "Мама, это Володя".
-- Раздевайтесь,-- говорила мать.-- У меня как раз все горячее.
Раздевайтесь, садитесь к столу. Саша, покажи, где раздеться.
Когда снимали и вешали в комнате шинели, Саша мимолетно заглянула ему в
глаза, он улыбнулся, кивнул. И, радуясь, что ее мама понравилась, утверждая
его в этом, Саша сказала быстро:
-- Она совсем не такая была, это она оттуда потерянная какая-то
вернулась, я даже ее не узнаю.
В кухне, где всю войну не белилось и черным стал закопченный
керосинками потолок, а стены и подоконник потемнели, весь свет садившегося в
снега солнца был сейчас на столе, на старенькой, заштопанной, розовой от
заката скатерти. И глубокие тарелки блестели розовым глянцем.
Фа я отказалась садиться за стол, ушла к себе. Одну за другой брала
мать тарелки к плите и, полные горячих щей, ставила перед каждым. Щи эти,
совсем без мяса, без масла, из одних мороженых капустных листьев и картошки,
были так вкусны и пахучи, как никогда они сытому человеку вкусны не будут. И
все время, пока говорили и ели, Третьяков чувствовал на себе взгляд матери.
Она смотрела на него, подливала в тарелки и все смотрела, смотрела. А Олег
сидел расстроенный и грустный, солнце блестело в слепом стеклышке его очков.
И оттого, что был расстроен, по рассеянности один ел хлеб, не замечая, что
другие не берут хлеба: брал с тарелки, крошил на скатерти и рассеянно ел.
В окно видны были верхушки берез. Только самые верхние, красноватые
веточки огнисто светились, а стволы в прозрачном малиновом свете стояли
сиреневые. Проходил состав, толчками подвигался дым за крышами сараев, и
свет над столом дрожал.
Солнце садилось, день гас, стены темнели, и лица уже плохо различались
против света. Но он все время чувствовал на себе взгляд матери.
Совсем темно было, когда, проводив Олега, они с Сашей шли к госпиталю.
Она спрашивала:
-- Тебе правда понравилась моя мама?
-- Ты на нее похожа,-- сказал он.
-- Ты даже не представляешь, какие мы похожие! Она с косами молодая
была, нас все за сестер принимали, верить не хотели. Это она из больницы
такая вернулась, старенькая, прямо старушка, я не могу на нее смотреть.
У ограды они постояли. Ветер завивал снег у его сапог, хлестал полами
шинели. Спиной загораживая Сашу от ветра, грел он руки ее в своих руках,
мысленно прощался с нею.
"Мама,-- писал он в тот вечер, согнувшись над подоконником, откуда
обычно смотрел на вокзал, на уходящие поезда,-- прости меня за все. Теперь я
знаю, как я тебе портил жизнь. Но я этого не понимал тогда, я теперь понял".
Мать однажды в отчаянную минуту сказала ему:
"Ты не понимаешь, что значит в наши дни взять к себе жену
арестованного. Да еще с двумя детьми. Ты не понимаешь, каким для этого надо
быть человеком!.."
"Меня не надо брать!-- сказал он тогда матери.-- Мне не нужно, чтобы
меня кто-то брал!" И ушел из школы в техникум, чтобы получать стипендию. Он
хотел и в общежитие перейти, но туда брали только иногородних. Теперь он
понимал, как был жесток в своей правоте, что-то совсем иное открывалось его
пониманию. И он подумал впервые, что, если отец жив и вернется, он тоже
поймет и простит. И неожиданно в конце письма вырвалось: "Береги Ляльку!"
В облаке пара, накрывшего перрон, бабы метались вдоль состава, дикими
голосами скликали детишек, лезли на подножки, проводники били их по рукам:
-- Куда? Мест нет!
-- Володя, Володя! В этот вагон!-- кричала Саша. Ей тоже передалась
вокзальная паника. Проводница грудью наперла на него:
-- Полно, не видишь?
Сверху перевешивались из тамбура, кричали:
-- Лейтенант, сколько стоим?
Он стряхнул с погона лямку вещмешка, над головой проводницы кинул
вещмешок в тамбур, видел, как там поймали его на лету. Мимо бежал народ,
толкали их.
-- Я напишу, Сашенька. Как получу номер полевой почты, сразу напишу.
И впрыгнул на подножку уже тронувшегося поезда, отодвинул проводницу
плечом.
Саша шла рядом с подножкой, махала ему. Все прыгало у нее перед
глазами, в какой-то момент она потеряла его.
-- Саша!
Она глядела мимо, не находя. Он вдруг соскочил на перрон, обнял ее,
поцеловал крепко. Выскакивающие из вокзала офицеры в меховых жилетах
оглядывались на них на бегу, прыгали в вагоны. И они с Сашей бежали, она
отталкивала его от себя:
-- Володя, скорей!.. Опоздаешь!
Поезд уже разгонялся. Мелькали мимо оставшиеся на перроне люди, все еще
устремленные к вагонам. Внизу бежала Саша, отставая, что-то кричала. Поезд
начал выгибаться дугой, Саша отбежала в сторону, успела махнуть последний
раз и -- не стало ее, исчезла. Вкус ее слез остался на губах.
Проводница, не глядя, надавила на всех спиной, оттеснив внутрь,
захлопнула железную дверь с закопченным стеклом. Стало глухо. Кто-то передал
вещмешок.
-- Из госпиталя, лейтенант?
Третьяков внимательно посмотрел на говорившего:
-- Из госпиталя.
-- Долго лежал?
Он опять глянул, смущая пристальным взглядом. Слова он слышал, а смысл
доходил поздней: Саша была перед глазами.
-- Долго. С самой осени. И достал из кармана кисет:
-- Газетка есть у кого?
Ему дали оторвать полоску. Третьяков насыпал себе табаку и пустил кисет
по рукам: вступив в вагон, он угощал. Кисет был трофейный, немецкий,
резиновый: отпустишь горловину, и она сама втягивалась, скручивалась винтом.
Табак в этом кисете не пересыхал, не выдыхался, всегда чуть влажноватый,
хорошо тянулся в цигарке. Старых подарил на прощание. Когда Третьяков
оглянулся от ворот госпиталя, они двое стояли в окне палаты: Старых и
Атраковский.
Обойдя круг-- каждый одобрительно разглядывал,-- кисет вернулся к нему.
Задымили все враз, будто на вкус пробовали табак. Стучали колеса под полом,
потряхивало всех вместе. А Саша идет сейчас домой, он видел, как она идет
одна.
Опять появилась проводница, всех потеснив, погромыхала кочергой. Была
она плотная, крепкая, глядела хмуро. Когда нагибалась, солдаты
перемигивались за ее спиной.
Докурили. Третьяков накинул лямку вещмешка на погон, кивнул всем и
толкнул внутрь дверь вагона. Здесь воздух был густ. Он шел по проходу,
качаясь вместе с качающимся полом. На нижних, на верхних, на багажных
полках-- везде лежали, сидели тесно, все было занято еще с начала войны. И
на затоптанном полу из-под нижних полок торчали сапоги, он переступал через
них. Все же над окном, где под самым потолком проходила по вагону труба
отопления, увидел место на узкой, для багажа полке. Закинул туда вещмешок,
влез, повалился боком. Только на боку тут и можно было поместиться.
Придерживаясь то одной, то другой рукой за потолок, он снял шинель,
расстелил ее под собой, мешок подложил под голову. Ну, все. А ночью
пристегнуться ремнем к трубе отопления-- и не свалишься, можно спать.
Он лежал, думал. Весь табачный дым поднимался к нему снизу. Мелькал,
мелькал в дыму солнечный свет, вспыхивал и гас мгновенно: это за окном,
внизу мелькало что-то, заслоняя солнце; поезд - шел быстро.
В духоте под это мелькание и потряхивание он задремал.
Проснулся -- светло над ним на потолке. Свет уже закатный, золотит
каждую дощечку. Он расстегнул мокрый воротник гимнастерки, вытер потную со
сна шею. И вдруг почувствовал ясно, как оборвалось в нем: теперь он уже
далеко. И ничего не изменишь.
Он осторожно спустился вниз, пошел по вагону, рукой придерживаясь за
полки; они блестели снизу вечерним светом. Под ними курили, разговаривали,
ели, мгновенные выражения лиц возникали, пока он шел.
В тамбуре был громче железный грохот. Не отставая от поезда, катилось
по краю снежной равнины красное солнце. Через закопченное стекло тамбур
насквозь был пронизан его дрожащим светом. Под этой световой завесой-- на
железном полу, среди узлов, которыми завалили заиндевелую дверь,-- женщина
поила двоих детей, от губ к губам совала жестяную кружку. Она глянула на
него испуганно-- не прогонит ли?-- заметила, что он, достав уже кисет, не
решается закурить, обрадовалась:
-- Курите! Они привыкши.
Дети казались одного возраста, мокрые губенки одинаково блестели у
обоих.
-- Они привыкши,-- слабым для жалостливости голосом обратил на себя
внимание старик. Только услыша голос, Третьяков увидал его: бороду и шапку
среди узлов. Он понял, дал закурить.
-- Чего на него табак тратить! -- говорила женщина, похорошев от
улыбки.-- Зря только переводит.
Нигде, ни на одной остановке не брали гражданских в этот поезд. И после
каждой станции они оказывались в вагонах, в тамбурах, на площадках: им надо
было ехать, и они как-то ухитрялись, ехали. И эта женщина ехала с детьми, с
вещами, со стариком, который всем был обузой. Он, видно, и сам сознавал это.
Закурив, он закашлялся до синевы, до слез, весь дрожащий. И после каждой
затяжки все посматривал на цигарку в кулаке: сколько осталось.
А у другой двери тамбура лицами друг к другу стояли капитан-летчик и
молодая женщина. Капитан рассказывал про воздушный бой, рука вычерчивала
виражи в воздухе, женщина следовала за ней глазами, на лице-- восторг и
ужас. Капитан был статный, затылок коротко подстрижен, шея туго обтянута
стоячим воротником, а по белой кромке его подворотничка, как по белой нитке,
срываясь и цепляясь за нее, ползла крупная вошь. И Третьяков не знал, как
сказать капитану, чтоб женщина не заметила.
Со свернутым флажком в руке вошла проводница; потянуло запахом уборной
из вагона. Приближалась какая-то станция.
-- Их бы в вагон взять,-- тихо сказал Третьяков, указав глазами на
детей, на обметанную инеем дверь. Мать услышала, замахала на него рукой:
-- Что вы, нам тут хорошо! Чего лучше! Проводница разглаживала ладонью
свернутый, черный от копоти флажок, сгоняла складки к одному краю. Мелькнуло
снаружи здание, мгновенно кинув тень, и опять красный свет солнца пронизал
тамбур. Четко были видны у закопченного стекла двое: молодая женщина
держалась обеими руками за железные прутья, подняв лицо, восхищенно смотрела
на капитана.
-- Себя-то не жаль? -- спросила проводница и глянула на Третьякова,
сощурясь.-- А мне вас вот таких жалко. Всю войну вожу, вожу и все в ту
сторону.
Костер шипел, просыхала вокруг него оттаявшая земля, пар и дым сырых
сучьев разъедали глаза. Закопченные, суток двое не спавшие батарейцы сидели,
нахохлясь, спинами на ветер, размазывали грязные слезы по щекам, скрюченными
от холода пальцами тянулись к огню. И, сидя в дыму, дымили махоркой, грели
душу. Мокрый снег косо летел в костер, на спины, на шапки.
Набив полное ведро снега, Кытин понес его к костру. Там больше дымило,
чем горело.
-- Фомичев!-- крикнул он.-- Плесни еще разок. Подошел тракторист,
шлепая по талому снегу растоптанными, черными от машинного масла валенками.
Все на нем было такое же, в масле и копоти. Из помятого жестяного ведра
плеснул в костер холодной солярки. Пыхнуло, жаром дало в лица. Кто спал,
очнулся, обалделыми глазами глядел в огонь; снег, не долетая до огня,
исчезал в воздухе.
Заслонясь рукавицей, Кытин боком, боком подступал к костру. С остатками
солярки в ведре ждал Фомичев, весь черный стоял в косо летящем снегу, словно
плечом вперед плыл ему навстречу. Глянув на его разбухшие от снеговой воды
валенки, Третьяков подумал: переобуться надо. Он сидел на снарядном ящике,
кашель сотрясал его; лоб, грудь, мышцы живота -- все болело от кашля,
слезящимся глазам больно было глядеть в огонь. Сколько раз на фронте--
мокрый, заледенелый весь, и никакая простуда не берет. А попал в госпиталь,
повалялся на чистых простынках в человеческих условиях, и вот на первом же
переходе простыл.
Он с трудом стянул сырой сапог, размотал портянку. Босую ногу охватило
ветром, озноб прошел по позвоночнику, во всем теле почувствовался жар.
Укрыться бы сейчас шинелью с головой, дышать на озябшие пальцы, закрыть
глаза...
Подошел к костру комбат в длинной шинели. Новый был в батарее командир,
переведенный из другой части,-- капитан Городилин. Говорили, что занимал он
там должность помначштаба полка, и поначалу казалось, не может он этой
должности забыть, низко ему в батарее, оттого и держит всех на дистанции --
и командиров взводов и бойцов,-- с одним только старшиной советуется, и
старшина уже перестал замечать командиров взводов. Но вскоре и через
расстояние разглядели: комбат просто не уверен в себе. И как он ни хмурился
грозно, ни покрикивал, приказания его, даже дельные, выполняли неохотно. Это
уж всегда так, неуверенность в приказе рождает еще большую неуверенность в
исполнении. И все вспоминали Повысенко: вот был комбат! Он и не приказывал,
скажет только, а выполняли бегом.
Но Повысенко не было в полку, под самый Новый год его ранило. И во
взводе у Третьякова несколько человек было новых. Присылали и на его место
младшего лейтенанта, но не долго держатся командиры взводов управления,
убило его раньше, чем фамилию успели запомнить. Кто Шияхметовым называл, кто
Камамбетовым: "В общем, так как-то..." Все тот же Чабаров передал ему взвод,
а приняли его в этот раз так, словно полвойны вместе провоевали, пошло сразу
по взводу: "Наш лейтенант вернулся..." Даже тронуло, как встретили,
почувствовал: вернулся домой.
Так же всеми своими белыми зубами на смуглом лице улыбался Насруллаев.
Так же добровольно исполнял Кытин должность кухарки. Только Обухова, самого
молодого во взводе, было не узнать. И он за это время побывал в медсанбате,
но уложили его туда не пуля, не осколок: на одном из хуторов заразился
Обухов болезнью, которую оставили немцы. Будь сорок второй год, угодил бы он
за этот свой подвиг... Искупать кровью, брать какую-нибудь высотку, которую
и дивизия взять не смогла. Но, на его счастье, времена помягче. "Обухов у
нас награжденный,-- говорили про него во взводе,-- его и к медали
представлять не надо". А он отчего-то возмужал, даже бас у него прорезался.
Подойдя к костру, комбат вынул дымящийся сучок, прикуривал от него,
длинный в длинной шинели, с планшеткой на боку, а все уже чувствовали, что
он сейчас скажет. Наступление шло не первый день, тылы отстали: продукты,
горючее, снаряды-- все осталось позади. По всем дорогам в мокром снегу и
грязи буксовали завязшие машины, их вытаскивали, надрывая силы, и они еще
глубже садились в грязь. В их артиллерийском дивизионе из трех батарей
отстали две. Сначала шестая батарея обломалась. У нее забрали трактор, слили
горючее, забрали снаряды и двумя батареями двинулись вперед. Потом и
четвертая осталась позади-- без горючего и снарядов. Пришлось бы их, пятой,
тоже бросать одно орудие, если бы в прежней МТС не обнаружили ржавый трактор
ЧТЗ-60, такой же точно, как у них. Все годы простоял он при немцах среди
железного лома. Трактористы из двух собрали один целый, и он, словно тут и
был, потянул за собой пушку. Два орудия, два трактора, семнадцать снарядов--
вот весь их дивизион, поспевавший за фронтом.
По дороге, в косо летящем снегу тянулись пехотинцы, все свое снаряжение
и мины для минометчиков неся на себе. Их средство транспорта-- жилистые,
натруженные ноги в ботинках с обмотками, привыкшие месить грязь,-- было
самым надежным по этой погоде: человек не трактор, он и без горючего может
идти. Пехотинцы тянулись на расстоянии друг от друга, оглядывались на огонь.
Ветер толкал их в спины; там, куда они шли, ничего не было видно, даль как
туманом заволокло. Низко над головами пыталась осилить ветер взлетевшая
ворона, дергалась, дергалась толчками, будто вспрыгивала на ветер. Ее
кособоко отнесло в сторону.
Комбат прикурил, кинул дымящийся сучок в огонь под ведро. В черной
воде, тяжелой на вид, крутился в ведре последний нерастаявший комок снега.
-- Обедать собрались?-- Сощурился, послушал, как погромыхивает где-то
слева:-- Не придется обедать. Приказано занять огневые позиции. Командиры
взводов -- ко мне!
Кытин все еще смотрел в ведро. Потом с сердцем выплеснул воду в огонь.
Пар взвился от зашипевших черных углей. И как ошпарило комбата, покраснел,
подстриженные белые усики стали резко видны.
-- Р-разговорчики мне!
Но никто не разговаривал. Вымотавшиеся до последней степени, когда уже
и себя не жаль,-- суток двое без сна и почти без еды -- они были сейчас злы
на комбата, что не дал сварить обед, злы друг на друга, как надо бы злиться
на войну.
Третьяков натягивал сырой сапог, когда мимо про-спешил командир
огневого взвода Лаврентьев, самый старый из командиров по годам, тоже
присланный в батарею недавно. Огромного роста, затянутый по животу на
последнюю дырочку, он спешил к комбату с испуганным лицом, оскользался
ногами по мокрому снегу, отчего казалось, приседает на бегу. Полы его
шинели, как у пехотинца, были пристегнуты спереди к ремню. "Как баба",--
подумал Третьяков и встал. Он подошел к Город илину, сказал тихо, чтобы не
слышали бойцы:
-- Комбат, надо дать людям сварить обед. И закашлялся.
-- Вы что, больны?-- спpосил Гоpодилин. бpезгливо поморщась.
Проверенный способ заставить подчиненного замолчать: ткнуть пальцем в его
недостатки.
-- Я не болен, я здоров. Люди уж сколько времени без горячего.
Он стоял, подчеркнуто готовый выполнять приказания, но говорил твердо.
И видел, что не отменит Горо-дилин приказания. Чем неуверенней в себе
командир, тем непреклонней, это уж всегда так. И советов слушать не станет и
приказа своего не отменит ни за что, боится авторитет потерять.
-- Карту достаньте,-- сказал Городилин, как бы устав напоминать. Все
было ясно. Третьяков достал карту. И тут комбат не удержался:
-- Я, между прочим, тоже без горячего все это время, как вы могли бы
заметить. И ничего.
А если ты командир, так ты хоть вовсе не ешь, а бойцов накорми. Но
снизу вверх учить не положено, смолчал Третьяков.
Тем временем Городилин ставил задачу:
-- Вот-- мы. Вот-- противник. Предположительно! Пойдете в пехоту,
узнаете, какая стрелковая часть впереди, связь установите. Задача ясна?
-- Задача ясна.
-- Выполняйте. Четверых разведчиков возьмете с собой.
Третьяков козырнул. По дороге к взводам Лаврентьев догнал его, пошел
рядом. Он все же чувствовал себя неловко.
-- Конечно, можно было обед сварить, чего там,-- пристыженно за комбата
сказал он. Третьяков ничего не ответил, подумал про себя: "То-то ты и
молчал". Но не ему переучивать Лаврентьева. Этот всю войну провоевал в
противотанковой артиллерии, в гиблых сорокапятках, попал после ранения к ним
в тяжелый артполк и не нарадуется, чувствует себя здесь, как в глубоком
тылу. Он не станет возражать комбату.
Перебрели лощину. Сюда смело снег ветрами, подтаявший, он то пружинил
упруго под ногой, то вдруг обваливался, и вылезали из него, черпая
голенищами. Поле подымалось впереди, там хмурой стеной стояло небо, как
будто все в копоти, перед ним свежевыпавший снег на гребне светло белел.
Где-то слева глухо, отдаленно слышалась стрельба. Авиация не летала: при
такой видимости отсиживаются летчики на аэродромах, играют в домино со
скуки. У них, наверное, и аэродромы развезло: ни взлететь, ни сесть.
На гребне, в реденьких кустах легли оглядеться. Закурили. Сколько ни
вглядывался Третьяков воспаленными от простуды глазами, нигде поблизости
пехоты не было видно: ни окопов, ни землянок, никаких следов. Снежное поле,
теряющаяся в испарениях сырая даль.
Пока лезли по снегу, потные, кашель перестал. Теперь он опять драл
горло.
-- Снегу поешьте,-- посоветовал Обухов.
-- Скажешь тоже!
Третьяков глотал теплый дым, задерживал его в горле. Слышно было, как с
веток с шуршанием обваливается подтаявший снег, лицо ощущало рассеянный свет
и тепло невидимого солнца, бродившего высоко где-то.
-- Гляди! -- показал он Обухову. Над кустом, над мокрыми, тускло
блестевшими голыми ветками толклась в воздухе мошкара.
-- Ожили, тепло чуют,-- сказал Обухов.-- Снег вон уже весной пахнет.
-- Я сейчас запахов никаких не чувствую, заложило все.
Они говорили приглушенными голосами, все время прислушиваясь. Обухов
раскопал под снегом у корня прошлогоднюю, замерзшую зеленой траву, пучком,
как лук, сунул в рот, жевал, зажмуриваясь: зелени захотелось. А Третьяков
всем своим воспаленным горлом почувствовал ледяной холод. Колени его, оттого
что он становился ими на снег, были мокры, его знобило все сильней,
потягивало тело и ноги.
-- На немцев не напхнемся, товарищ лейтенант?-- спросил Обухов
строго.-- Похоже, что пехоты нет впереди.
-- Похоже.-- Третьяков встал первым. Они отошли шагов тридцать, и
затемнело что-то. Скинув ремень с плеча, Третьяков взял автомат на руку,
махнул Обухову идти отдельно. Он правильно сделал, что не четверых
разведчиков взял с собой, а одного. Позади небо было светлей поля, в темных
своих шинелях они четко виднелись на снегу; подпустят немцы близко и положат
всех четверых.
Из колышущейся, редеющей пелены проступал прошлогодний темный стог
сена, подтаявшая снеговая шапка на нем. Если тут у немцев под стогом
пулемет... Но никаких следов не было вокруг. Подошли.
-- У нас тут случай без вас был в дивизионе, товарищ лейтенант.-- И
Обухов охотно присаживался спиной под стог.
-- Хватит спину греть, пошли!
-- Как раз только увезли вас...
-- После войны расскажешь!
И опять они шли по полю, смутно различая друг друга. Их обстреляли,
когда из сырой мглы уже проступили голые, мокрые тополя хутора. Оттуда
засверкало, понеслись к ним трассы пуль; немцы и днем били трассирующими.
Они уже лежали на снегу, а пулемет все не успокаивался, стучал над ними.
Расползлись подальше друг от друга. Третьяков для верности, чтобы вызвать
огонь еще раз, дал несколько очередей. И засверкало с двух сторон. Потом
ударил миномет. Переждали. Вскочив, наперегонки бежали к стогу. Вслед
пулеметчик слал яркие в тумане, сверкающие веера.
-- Я говорил, пехоты нет впереди!-- повеселев от близкой опасности,
хвастался Обухов.
Третьяков набивал патронами плоский магазин немецкого автомата:
-- Дураки немцы, могли нас подпустить. У него в груди отлегло и вся
простуда куда-то девалась.
-- Вот погодите, жиманут немцы Оттуда,-- пообещал Обухов, будто
радуясь.
-- Если есть чем.
-- У него есть!
Обратно шли веселей. И путь показался короче. На огневых позициях
ковырялись в грязи, рыли орудийные окопы. Комбат Городилин выслушал
недоверчиво, снова и снова переспрашивал: "А наша, наша пехота где?" И опять
заставлял рассказывать, как они шли, откуда их обстреляли: все никак не мог
принять, что их батарея, тяжелые их пушки, стоят здесь без всякого
прикрытия, почти без снарядов, а впереди -- немцы.
-- Давайте, комбат, мы левей пойдем, узнаем, кто там?-- предложил
Третьяков. Но тот отчего-то разозлился:
-- Вы чем советы подавать... Советчики!
Сырой день рано стал меркнуть. Там же, на гребне, где они с Обуховым
курили в кустарнике, заняли в сумерках наблюдательный пункт, дотянули сюда
связь. Разведчики, греясь, по очереди долбили землю лопатой, по очереди вели
наблюдение. Темнело. Туман сгустился, закрыл поле, и вскоре не видно стало
ничего.
Земля, промерзшая в глубине, плохо поддавалась лопате. Насыпали
небольшой бруствер впереди, наломали веток, натаскали сена. Сидели,
вслушивались. Третьяков чувствовал, как жар подымается в нем. Сильно зябла
спина, временами он не мог унять дрожь.
Было совсем темно, когда услышали шаги, тяжелое дыхание нескольких
человек: кто-то шел к ним со стороны огневых позиций. Ждали молча. Тяжелое
дыхание приближалось. Мутно посветлело у немцев: там, не взойдя, гасла
ракета, задушенная туманом. При этом брезжущем свете разглядели четверых.
Шли по связи. На полголовы выше других-- Городилин, кто-то малорослый рядом
с ним. Когда подошли ближе, узнали в нем командира дивизиона. Двое
разведчиков сопровождали их.
Оказалось, подошла четвертая батарея, становится на огневые позиции.
Комдив расспросил, что тут слышно. Расспрашивал и вглядывался в лица.
Подумал.
-- Ну что ж, комбат,-- сказал он Городилину.-- До утра останемся тут мы
с тобой.
И, отправляя Третьякова на огневые позиции, чтобы там, в хуторе, он
отлежался в тепле, сказал:
-- А утром сменишь нас. Вот так будет правильно. И сам себе кивнул.
Долгой была эта ночь. Он выпил за ночь полуведерный чугун воды, а жар
не спадал, спекшиеся губы растрескались до крови. Казалось ему, что он не
спит совсем, бред и явь мешались в сознании. Откроет глаза: при красном
свете углей сидит у костра Лаврентьев, пишет что-то, подложив полевую сумку
на колени, шевелит губами. И опять-- красный сумрак между стропилами, кто-то
другой у костра, черная тень колышется позади, заслонила полсарая: снится
это ему или он видит? И все не кончалась ночь.
Несколько раз выходил наружу. Туман, в котором трудно было дышать,
клубился от самой двери; из темноты сарая казалось, ступает он не через
порог, а в белое облако; нога неуверенно щупала перед собой землю.
Утром проснулся мокрый от пота и слабый. Но чувствовал: здоров. Все как
просветлело перед глазами, пустой сарай стал выше, больше. У стены умывался
голый по пояс Лаврентьев, вздрагивал кожей. Пар шел от его мощного тела, от
волосатых лопаток, он покряхтывал, с удовольствием плюхал себе под мышки, с
груди и живота текло.
Третьяков сел на земляном полу. Лицо обтянуло за ночь, глаза ввалились,
он чувствовал это. Подумал, глядя на кучку золы и пепла от костра: там жар
остался, чаю бы согреть. И увидел, как сняло воздухом, повлекло легкий
пепел. В двери сарая, распахнутой рывком, стоял боец. Он еще сказать не
успел, а Третьяков уже на ощупь искал шапку в соломе.
-- Танки!
В дверях замелькали на свету бойцы. Пробегая, Третьяков видел, как
Лаврентьев натягивает на мокрое тело гимнастерку: влез в нее до половины, а
дальше плечи не проходят, машет руками вслепую.
Снаружи оглушил железный стрекот. Бежавший впереди боец поскользнулся
на мокром снегу, испуганно вставал. И вдруг метнулся в сторону, пригибаясь к
земле.
-- Куда? -- крикнул Третьяков, как кнутом стегнул. -- Назад!
Ниже пригнувшись под криком, боец кинулся к орудийным окопам. Там уже
топтались расчеты, разворачивали тяжелые орудия, множество напрягшихся ног
месило сапогами мокрый снег с грязью.
-- Вон! Вон они!-- Из-за щита указывал рукавицей Паравян и обернул
красивое лицо, бледное до желтизны.
Туман невысоко поднялся над землей, в непрозрачном от испарений воздухе
было видно метров на сто пятьдесят от орудий. И там, как тени, мокрые
деревья означили дорогу: с холма в низину и снова на холм. За этой чертой
все сливалось: и серый осевший за ночь снег, из которого вытаивала земля, и
пасмурная, как перед вечером, даль. Третьяков глянул туда, сердце в нем
сорвалось, мгновенно ослабли ноги. Возникая за деревьями, двигались по
дороге бронетранспортеры; тупые, тяжелые туши их были как сгустки тумана. И
сразу, только он увидал их, слышней, ближе стал рев моторов.
-- Один, два, три...-- считал Паравян.
Бронетранспортеры выходили во фланг, а с фронта, куда тянулся провод к
наблюдательному пункту, было все так же тихо.
-- К бою!-- закричал Третьяков, обрывая в себе минуту растерянности, и
вспрыгнул на бруствер. И от второго орудия эхом отдалось: "...бою!" Там
стоял Лаврентьев, рукой попадал в рукав шинели.
Бронетранспортеры все возникали на холме, шли в тумане, смутно
перемещаясь за деревьями.
"Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать",-- считал про себя Паравян.
Звонко била кувалда по металлу: это Насруллаев в одной гимнастерке забивал
сошники в мерзлую землю. Он косо взмахивал из-за плеча, ударял и вскрикивал.
Расчет ждал за щитом, оглядывались на него. Ствол орудия, нацеленный на
дорогу, медленно перемещался.
-- Упреждение-- один корпус!-- сверху сказал наводчику Третьяков, а сам
вглядывался, встряхивал головой. Что-то мешало ему, хлопало по щекам. Только
тут заметил: как спал в шапке с опущенными наушниками, так и стоит в ней. От
нетерпения, чтоб руки занять, снял с головы ушанку, прижав к груди,
заворачивал наушники. Стоя с непокрытой головой, смотрел на дорогу, дышал
тяжело. Пальцы дрожали, никак не могли завязать тесемки. Он уже видел, знал,
каким коротким будет этот бой. Девять снарядов у их орудия, восемь-- у
второго. А бронетранспортеры все возникали из-за холма. Звон кувалды
отсчитывал время. В тот момент, как Насруллаев отбросил кувалду, он махнул
шапкой:
-- Огонь!
Полыхнуло, дрогнула земля под ногами. Огонь взлетел за дорогой, там,
падая, качнулось в тумане дерево. Еще несколько раз взлетал огонь: то на
поле, то за дорогой. Наводчик торопился, нервничал. "Сейчас погоню его!"
Сыпануло по щиту, с шипением зачмокали в грязи раскаленные пули. Отовсюду
над полем понеслись к орудию огненные трассы пуль. Развернувшись от дороги,
бронетранспортеры шли на батарею. Они вылезали из тумана, редел клоками
перед ними туман, и от каждого сверкало, сверкало огнем, низко рубили по
полю огненные трассы. Видно было, как из бронетранспортеров выпрыгивают
автоматчики, бегут позади толпой и от них тоже неслись трассирующие нити.
-- Чабаров!-- закричал Третьяков, спрыгнув в окоп. Он увидал
мелькнувшее по другую сторону орудия побитое оспой нахмуренное лицо
Чабарова.-- Пехоту отсекай огнем!
А сам дышал над ухом наводчика:
-- Не торопись. Целься. Не торопись.
И в уме свой счет шел: пять снарядов осталось. Пять выстрелов. Бахнуло
второе орудие. Где-то позади грохотала четвертая батарея. Значит, там тоже
прорвались немцы.
Завыло низко. Мина! У наводчика дрогнула спина. Не отрывая глаза от
панорамы, продолжая целиться, он весь поджимался спиной, чувствовал эту
летящую мину. По мокрой щеке его тек пот, мутные капли дрожали на
подбородке.
Мина еще выла над ними, когда орудие выстрелило. Из-за щита Третьяков
видел: вырвавшийся вперед бронетранспортер, прыгающие через борта
автоматчики-- один, в каске, с поднятым над собой автоматом, подогнутыми
ногами в прыжке, уже в воздухе был -- все это взорвалось белым огнем,
огненные брызги летели далеко во все стороны-- в лоб влепило.
И тут же одна за другой разорвалось несколько мин. Когда Третьяков
поднялся, весь в жидкой грязи, кто-то шевелился слепо между станинами,
стонал. Живые подымались один за другим. А от второго орудия уже хлынул
расчет. С расставленными станинами, нацеленное на поле, оно стояло в окопе,
а они бежали, и крупней, выше других-- Лаврентьев в распахнутой шинели.
Плеснулся плоский разрыв, разметав бегущих. Хватал себя за спину руками,
перегибался на бегу, падал Лаврентьев.
И опять чей-то крик:
-- Танки!
Они выходили от деревни, от Кравцов-- в тыл батарее. Рухнул сарай, в
котором ночевали, двинулся вперед, разваливаясь. Под ним ворочался танк,
поворачивая башню с пушкой, бревна катились с него, сползала набок
соломенная крыша. Брошенное в окопе орудие подпрыгнуло, словно выстрелило
само и осело в дым разрыва.
Пригибаясь под пулями, Третьяков увидел это, увидел опять
бронетранспортеры, идущие по всему полю, полы-шущие огнем, страх на лицах
заметавшихся людей. Замок снять с/орудия... И не успел крикнуть: разрыв мины
кинул всех на землю. Лежа, вжимаясь в грязь, ловил на слух звук мины,
летящей в окоп. И страшная мысль давила: положили, а сами ворвутся сейчас.
Близкий вой мины. Рычание моторов. Третьяков приподнялся на руках.
-- К оврагу бегите! К посадке! Там снег... Упал раньше разрыва.
Грохнуло. Оторвал голову от земли:
-- К посадке! Там снег глубокий! Туда всем!.. Рвануло на бруствере.
Лежал, зажмурясь. Провизжало над головой. Вскочил.
-- Паравян! Замок снимай! Быстро!
Паравян стоял в окопе, рукой держался за орудие, лицо синело. А в
боку... Увидел и глазам не поверил: в боку его, свежекрасное, сочащееся,
раздувалось, дышало оголенное легкое. Оно дышало, а Паравян задыхался без
воздуха, хватал его мертвеющим оскаленным ртом.
Чьи-то трясущиеся руки мешали снять замок. Насрул-лаев. Детски
ласковые, бесстрашные глаза преданно глянули на него.
-- Беги, Эльдар!
Прижав тяжелый замок к животу, Насруллаев выглянул, побежал.
Паравян сидел на земле. Лицо облито слезами и потом, тусклый блеск
меркнущего зрачка. Стоя на коленях, весь напряженный, Третьяков сыпал в
карман шинели автоматные патроны. Наверху стукали выстрелы. Накинул на шею
ремень автомата. Пригибаясь, выскочил из окопа. По всему полю бежали люди.
Озирались на бегу, падали, вскакивали, бежали. Бронетранспортер сбоку
налетел на Насруллаева. Тот бросил замок, помчался, выгибаясь. Трассирующая
очередь срубила его. Распластанный, он еще пытался встать. Третьяков не
видел, как его накрыло гусеницей, но крик его нечеловеческий полоснул по
сердцу.
Он бежал под пулями, задыхался, чувствовал, как слабеют, отнимаются
ноги. Воздуху не хватало. В глазах темнело, плыло, и манил, тянул к себе
свежий клин снега. Под конец уже не бежал, шел на подгибающихся ногах,
всасывал в себя воздух обожженными легкими. Упал лицом в снег. Рев мотора с
неба мчался на него.
В великом весеннем наступлении 1944 года, развернувшемся на юге
Украины, немецкий контрудар в районе Апостолово ничего уже не мог изменить--
ни хода войны, ни хода истории. Он только временно замедлил наступление на
этом участке и ничего не значил в масштабе происходивших событий. Но у
людей, которые отражали этот нацеленный на них удар, была у каждого одна,
единожды дарованная ему жизнь.
Необычайно ранняя весна за месяц до срока превратила зимние дороги в
черноземные топи, тяжелая техника тонула в них, увязали машины со снарядами,
тылы растянулись на полтысячи километров, и горючее, которое везли к фронту,
сжигалось на дорогах. Но подтянули артиллерию, подошел танковый корпус,
погнал прорвавшуюся группировку, и те же самые немецкие танки и
бронетранспортеры, которые прошли через огневые позиции артиллеристов,
расстреливая и давя живых, теперь, подбитые, сожженные и целые, увязшие в
грязи, брошенные, стояли по полям.
На третий день хоронили погибших батарейцев. Снег стаял совсем, только
в низине и у посадки, куда зимой намело его ветрами, сохранились
грязно-серые клочья. Блестели на солнце лужи, и среди них по всему полю
лежали убитые. В шинелях, впитавших в себя воду, в мокрых ватниках,
окоченелые, лежали они там, где настигла их смерть. Пахотное поле у хутора
Кравцы, на котором из года в год сеяли и убирали пшеницу и куда каждую осень
выгоняли на стерню гусей, стало для них последним в жизни полем боя. И
живые, ос-кользаясь по жирному чернозему, с трудом вытягивая из него сапоги,
ходили, разыскивая и узнавая убитых.
Недалеко от посадки, метрах в двухстах пятидесяти от того места, где
сам он упал в снег и где последняя пулеметная очередь прошла над ним,
разыскал Третьяков Насруллаева. Тот лежал в облепленных пудами чернозема
сапогах, раздавленные ноги были неестественно вывернуты. Лежал он навзничь,
ватник над оголенным желтым животом сбился к подбородку, кисть руки, которой
он в последнем усилии заслонил глаза, закостенела над ним на весу и
отражалась неподвижно в спокойной снеговой воде лужи, по которой скользило
белопенное облако. Как он кричал тогда! Темная раковина мученически
оскаленного рта, казалось, и сейчас хранит немые отзвуки того крика.
А впервые Третьяков увидел его, когда принимал взвод, и запомнил с того
раза. Бойцы, голые по пояс, рыли щели за хатой, и среди облитых потом,
лоснившихся на солнце тел заметно выделялся Насруллаев, могучий, как борец,
грудь по самое горло заросла черным волосом. Попалась еще в списке фамилия
Джедже-лашвили, и Третьяков почему-то подумал, что это он и есть.
В орудийном окопе, между раздвинутых станин, спиной опершись о станину,
сидел Паравян, голову без шапки уронил на грудь. Со стриженого затылка к уху
-- засохшая полоса крови. Значит, был еще жив, кто-то из немцев, зайдя
сбоку, дострелил его.
Девятнадцать человек подобрали на поле и похоронили у Кравцов.
Лаврентьева среди них не было. Многие видели, как падал он, запрокинувшись,
хватая себя руками за спину. Может быть, жив был и немцы угнали его в плен.
Дострелили где-нибудь по дороге, когда на них нажали. Всю войну пробыл он в
противотанковой артиллерии, радовался, что после госпиталя попал в тяжелый
артполк, старался очень, все ему тут было хорошо. Говорил: "Тут у вас
воевать можно!"
Яркий, весенний день. Мокрый блеск солнца. А у Третьякова что-то
опустилось на глаза, притемняет сверху и день и небо-- тень легла на все.
На хуторе во дворах набито войск. Всюду машины, кони, пушки, снуют
бойцы из двора во двор, костры горят на земле, дымят кухни. Какая-то часть
подошла ночью. Пахнет дымом костров, конским навозом, бензином.
Из ближнего двора Третьякова окликают:
-- Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
Весь его взвод сидит у пригретой солнцем белой стены хаты. Перевернутая
бричка без колес, как стол, вокруг нее разместились кто на чем. Ему
освободили место. Рыжеватый, с морковным румянцем во всю щеку боец сбегал к
кухне, в угол двора, где гуще народа, толкотня и крик, принес котелок супа.
Он без шинели, широк в плечах, узкобедрый, сильно затянут ремнем. Беря
котелок, Третьяков пристально глянул ему в лицо. Под белыми ресницами --
рыжие веселые глаза. Джедже-лашвили. А все еще видел Насруллаева, давило ему
на лоб, незримый козырек нависал над глазами, застил свет солнца. Нет, он не
контужен, но какой-то оглушенный он, никак в себя не придет: видит все,
слышит, а понимает с опозданием.
Только отхлебнув, он посмотрел, что ест. В котелке-- суп-пюре
гороховый, густой и желтый. И с этой ложкой, закрыв глаза, он мысленно
помянул тех, кого уж нет с ними сегодня. Они все еще были здесь, вот так же
могли толкаться сейчас у кухни, сидеть на солнце.
Глиняная, побеленная стена хаты была побита осколками. На ней жужжали,
ползали облепившие ее мухи.
Изумрудно-зеленые, синие, вялые после зимы, они оживали на весеннем
солнце. Зачем погибли люди? Зачем гибнут еще? Ведь кончена война, кончена. И
уже не изменить это: победили мы. Но вот оттягивают час своей гибели те, кто
ее начал, и еще вышлют они к фронту не одну дивизию, и пехотную и танковую,
и люди убивают друг друга, и погибают, и скольким еще погибнуть суждено.
-- "Рама"! -- кричат во дворе. И по всему хутору из двора во двор
перекидывается крик:
-- "Рама"!
Двухфюзеляжный немецкий разведчик "фокке-вульф" кружит высоко в небе,
гудит. Солнце слепящее, кучно вспыхивают в синеве белые зенитные разрывы,
сопровождая самолет, а его самого не видно, только иногда взблеснет коротко
на солнце что-то алюминиевым блеском. И все, подняв лица, смотрят с земли.
Сколько за войну видел Третьяков сбитых самолетов, но ни разу не видал,
чтобы сбили "раму". Белые хлопья зениток все вспыхивают и вспыхивают,
отставая от них, отдельно и глухо слышны за толщей воздуха в вышине частые
разрывы.
Вспрыгнув на бричку, Кытин палит вверх из карабина.
-- Слезь! -- говорит ему Чабаров.-- Что ты ее, собьешь?
И Третьяков, которому надоело хлопанье над ухом, говорит:
-- Слезь!
Расстреляв обойму, Кытин смеется довольный:
-- Подыхать полетел.
Джеджелашвили собирает котелки, идет мыть их в луже: сегодня он "за
кухарку". Все закуривают махорку. Солнце размаривает у стены. Живым-- живое.
Чабаров рассказывает, как у них в Татарии вялят гусей весной:
-- Вот самое такое солнце у нас в марте. Снег еще, солнце яркое, пыли
нет, мух нет. Гуси жирные ходят по двору. Вяленого гуся поешь, никакой
другой закуски не захочешь.
-- Ну!-- торопит Обухов.
-- Чего ну?-- Чабаров не любит, чтоб его перебивали.
-- Вялите их как?
-- Совсем просто...
В конце улицы показался из переулка "виллис" командира полка. И уже
кричит кто-то:
-- Первый дивизион!..
-- Эх, сержант,-- говорит Кытин,-- только мы твоих гусей
распробовались...
В соседнем дворе взрокотал мотор трактора, пронзительно заржала лошадь.
Влажные, теплые ветры с моря гнали весну на север, обнажая от снега
обширные равнины, а на юге подсыхали дороги, и по всему правобережью Украины
шло наступление наших войск. Уже и Кривой Рог и Никополь остались позади,
уже форсировали Ингулец, смело устремившись в прорыв, шли освобождать
Одессу.
"...У нас вся жизнь от сводки до сводки,-- писала мать.-- Вот не было
от тебя писем, и прямо камень на сердце. Днем как-то услыхала твой голос,
ясно услышала, как ты позвал меня. И ходила сама не своя. Потом Ляля
прибегает с улицы, почтальона встретила. Мы с ней обревелись от радости,
читаем обе и ничего сначала не поймем. Ты, конечно, обманываешь меня, чтобы
я не волновалась, а бои у вас были, наверное, страшные, если даже по радио
про это Апостолово упоминали..."
И Саша писала: "...Я все уговариваю маму не сажать огород этой весной,
а она боится. И Фая говорит: "Накопаете картошки осенью, с ней и поезжайте,
а без нее вы-- чо?" А я уже не могу, домой хочется. Самое страшное пережито,
теперь как-нибудь. Да! Совсем забыла написать: у Фаи-- девочка. Такая
веселенькая, такая разумная, меня уже узнает. И совершенно ни на кого из них
не похожа".
Теплый ветер трепал в пальцах два тетрадных листка: из Лялькиной и
Сашиной тетрадей. Невысоко поднявшееся над степью солнце пекло спину сквозь
шинель, зимняя шапка на затылке парила голову. Потряхивало на тракторе,
укачивало в сон. Отяжелелые веки сами закрывались.
Позади, повернув лицо к солнцу, командир орудия Алавидзе пел
по-грузински что-то красивое, похожее на молитву-- должно быть, встречал
всходившее солнце. Оборачиваясь, Третьяков видел: Алавидзе сидит на орудии,
а внизу, рядом с ним, идут по дороге Джед-желашвили и замковый Кочерава,
густо заросший черным волосом по самые брови. Оба ждут страстно, пока
Алавидзе выводит мелодию, смотрят снизу на него. Кочерава взмахивает шапкой,
и в два тонких женских голоса они подхватывают песню, идут нахмуренные,
решительные, как на бой. И уже кто-то бежит к ним от другого орудия.
Фомичев, управляясь с рычагами трактора, крутит головой:
-- Должно, на погоду. У их так: один запел, все-- как по команде. Вон
еще двое бегут, опоздать боятся.
Ему завидно немного, он усмехается, чтоб себя не уронить.
Солнце нежарко пригревает, воздух колеблется над степью, беззвучно
встают дымы разрывов. Когда сидишь на тракторе рядом с мотором, странная,
беззвучная война вокруг. Временами рокот мотора выпадает из слуха;
вздрогнув, Третьяков просыпается. Складывает письма по сгибам в два
треугольничка. Где-то его письма разминулись с ними в дороге, долго они
будут идти по почте полевой; наверное, Одессу раньше возьмут.
Брошенное немецкое орудие стоит у самой дороги. Почему-то немецкие
пушки всегда выглядят массивней, тяжелей наших. Камуфлированное,
желто-пятнистое, оно увязло, а вытянуть уже не успели. И танк немецкий
стоит, башня с орудием далеко отброшена. Вот так в сорок первом году поле
боя оставалось за ними, и все, что подбито, цело или вновь будет
восстановлено, все оставалось у них. Теперь поле боя-- за нами. И те
бронетранспортеры, что давили батарею у Кравцов, наверное, недалеко ушли.
Третьяков прячет письма в нагрудный карман гимнастерки, достает оттуда
зеркальце в кожаном футляре. Зеркальце хорошее, двустороннее, небьющееся:
полированная сталь. Вчера на закате солнца его разведчики вместе с пехотой
ворвались в рощицу. Какая-то немецкая тыловая часть стояла там. Бежали, все
побросав: горючее осталось в бочках, врытых в землю, ящики консервов; в
повозке, в сене, нашли бочонок вина и там же-- брошенный офицерский мундир с
железным крестом и вот этим зеркальцем в кармане. Наверное, бежал -- об
одном Бога молил: живым остаться. А теперь, если жив, креста жаль, новый,
наверное, не выдадут. Железным крестом Обухов забавляется, говорит: вернусь
с войны, повешу собаке на ошейник-- пусть гавкает.
Сняв шапку, положив на колени, Третьяков разглядывает себя в стальном
зеркальце, обрывками сонных мыслей думает о Саше, о матери, о Ляльке, о том,
что впереди Одесса, Черное море. Ни разу в жизни он еще там не бывал.
Возьмут Одессу-- и спать! Суток двое. А что, правда, объявили бы так и нам и
немцам: спать! Повалились бы все и спали беспробудно. Только на войне так не
бывает. На войне-- кто первый не выдержит. Страшно подумать, сколько всего
было за эти годы. И это еще он в сорок первом году не воевал. Из тех, кто
воевал тогда, мало сегодня осталось. Вот их, погибших в сорок первом, когда
все рушилось, особенно жаль. Ведь они даже издали не увидели победы.
Мама и Лялька заранее поздравляют его в письме с днем рождения:
двадцать восьмого апреля ему двадцать лет. Когда-то казалось: двадцать пять
лет-- это уже старый человек. А что было в этот день год назад? Был он тогда
в училище, стоял на посту, охранял арт-парк. На посту, если не в мороз,
лучше всего стоять ночью. Стоишь себе один, звезды над тобой светят, а ты
думаешь о чем хочешь. Только ночью у курсанта мысль свободна, так ночью он
как раз" спит. А днем и минуты нет подумать о себе.
Трактор идет тряско, все скачет в зеркальце: то лоб мелькнет,
поделенный загаром пополам, свалявшиеся под шапкой волосы, то -- подбородок.
Над дорогой, над головами, беззвучно уходят в зенит три звена наших
истребителей. С высоты им видно все, что делается на земле. Виден, наверное,
их тяжелый дивизион, растянувшийся на марше. Вместе с мотопехотой, с легкой
артиллерией он кинут в прорыв поддерживать танки. Видно, наверное, как
впереди танки ведут бой.
Этой ночью они въехали на станцию, а там под парами стоял немецкий
эшелон. Оказалось, он прибыл с ранеными уже после того, как наши танки с
ходу проскочили станцию. Немцы разбежались по хатам, попрятались, жителей не
выпускают. После пехота переловила их на огородах, по погребам, кого-то и
постреляли в ночной суматохе. А многие до сих пор бегают, где-то скрываются,
ночами будут пробиваться к своим.
Под тарахтение трактора от равномерного потряхи-вания Третьяков
задремывает и тут же, как показалось ему, просыпается. Но местность уже
другая, вся накрененная под скат, и близкий горизонт теснит глаз.
Что-то происходит впереди на дороге. Там на коне, высоко над всеми,--
командир дивизиона. Он маленького роста, потому всегда старается взобраться
на что-нибудь повыше. Конь крутится под ним, переплясыва-ет, офицеры стоят
вокруг, комдив над их головами указывает рукой. И уже шестая батарея,
которая шла впереди, сворачивает в сторону, трактора поволокли орудия по
полю.
Спрыгнув, Третьяков бежит туда, а оттуда бежит ему навстречу Городилин,
кричит издали:
-- Алавидзе где?
Он это последнее "дзе" произносит так, что получается у него
"Алавидзя".
-- Здесь Алавидзе!
-- Давай с ним вместе орудия вон в ту балку. Развернешь на дорогу.
Сектор обстрела...
Подвывавший над ними снаряд разорвался на поле. И сразу слышно
недалекую строчку пулеметов. Может, они и все время строчили, только за
рокотом мотора слышно не было?
-- Что случилось, комбат?
-- Приказано занять оборону. Правей где-то немцы прорываются к своим.
-- А наши танки?
-- Танки-- впереди. В общем, так: батарею я сам поставлю. Кустарник
видишь? Давай машины со снарядами туда. Укрытие найди. Быстро!
Третьяков бежит к машинам, на бегу созывая взвод:
-- Чабаров! "Форда"-восьмерку -- вон в тот кустарник!
А сам впрыгнул на подножку ЗИСа. По другую сторону впрыгивают на ходу
Обухов и Кытин с автоматами.
ЗИС старый, кабина деревянная, полвойны прошел. Удерживаясь рукой за
дверцу, вместе с подножкой подпрыгивая над пахотой, Третьяков указывает
дорогу шоферу, а сам из-за кабины оглядывает местность, хочет понять, что
происходит. Видно, как расползаются по полю батареи. Еще несколько разрывов
встают на поле. Тяжелыми бьет. Кто-то на коне прожег по дороге, только пыль
схватывается следом. И все уже иное стало, как перед боем, и солнце строже
светит.
Наклонясь к шоферу, Третьяков показывает ему, с какой стороны заезжать.
Он высмотрел крутой склон, надо стать на него, самое хорошее укрытие. Шофер
кивает, а он, спрыгнув с подножки, бежит назад: там забуксовал трофейный
"форд".
Он и ста метров не отбежал, когда одна за другой полосонули автоматные
очереди. Машина стояла, Обухов на подножке ее держал перед собой автомат,
Кытин с наставленным автоматом в руках пятился от машины, боком, боком,
подвигался к кустам, как будто что-то обходя. Третьяков уже бежал к ним,
выхватывая пистолет на бегу, слышал, как Обухов, сам бледный, палец держа на
спуске, кричит чужим голосом:
-- Хенде хох!
И поторапливает издали стволом автомата:
-- Шнель, шнель!
Увидел, что лейтенант бежит к ним, крикнул радостно:
-- Мы на них чуть колесом не наехали!.. Лежат... Чуть не подавили всех!
Из кустов подымались головы немцев, нерешительно тянули руки над собой.
Набежав, махая на них пистолетом, Третьяков отогнал немцев на поле, Обухов,
Кытин и вылезший с карабином шофер, сам перетрусивший не меньше немцев,
нацеленными дулами сопровождали их. Прибежали разведчики от другой машины,
рыскали по кустам. Еще откуда-то бежал народ.
-- Где их взяли?
-- Гляди, гляди! У-у, зверюга! У-у, глядит как!..
-- Тут и лежали?
-- Колесом чуть не наехали.
-- Тут вот в кустах?
-- А я слышу-- стрельба...
Четырнадцать боящихся расправы немцев стояли на поле, жались в кучу, по
лицам пытались понять, что их ждет, испуганно опускали глаза под взглядами.
Все лица, стирая на них человеческое выражение, комкал страх. Озирались.
Затаенно вслушивались в недалекую стрельбу. На нескольких белели бинты.
Еще двоих поднял в кустах Чабаров и гнал пинками, бегом. С поднятым в
руке автоматом бежал за ними, успевая пинать с обеих ног. Бойцы -- кто с
хохотом, кто зло посверкивая глазами-- ждали. Немцы беспокойно пожимались.
Добежав, двое ткнулись в толпу, толпа дрогнула. И сейчас же офицер, стоявший
ближе других к Третьякову, улыбкой выпрашивая позволение, опустил
единственную поднятую вверх руку-- другая, толсто обмотанная бинтами, на
перевязи висела перед ним,-- суетливо доставал что-то из полевой сумки,
достал, протягивал издали Третьякову, лопоча по-своему. С лица его, как
умытого, падали мутные капли. Немец держал в руках целлулоидный круг и
артиллерийскую координатную мерку, не такие, как у нас, непохожие, совал их,
поощряя взглядом, кивал, кивал. Третьяков инстинктивно отстранялся. И
неожиданно для самого себя громко сказал немцам:
-- Нихт шисен!-- И жестами показывал, что их не расстреляют,--
Арбайтен! Нах Сибирь!
Пленные зашептались, засквозили на лицах бледные улыбки. Недалеко
разорвался прилетевший из-за гребня немецкий снаряд, и чей-то потаенный
злорадный взгляд из толпы поймал на себе Третьяков.
Расталкивая пленных, Чабаров отбирал у них оружие, в общую кучу кидал
на землю полевые сумки, ранцы.
-- Чего с ними делать со всеми?-- спросил он.
-- Что делать? -- И, разозлясь на себя за внезапную жалость, Третьяков
крикнул, чтоб все слышали: -- Сколько в них будет во всех лошадиных сил? А
ну, гони, пускай "форд" вытолкнут.
Под хохот бойцов Обухов погнал пленных к застрявшей в пахоте машине:
-- Арбайтен! Арбайтен!
Не сразу поняв, что от них требуют, немцы облепляют машину, не столько
выталкивают, как жмутся к ней.
Бойцы кричат:
-- А ну, рраз-два! Рраз-два!
-- Раскачивай! Раскачивай!
Просвистело над головами, несколько разрывов взлетает недалеко. В
кузове-- снаряды. Если в них попадет и они рванут, от немцев, облепивших
машину, от бойцов, помогающих криками, останется одна общая воронка. Немцы
налегают осмысленно, кто-то свой командует им, и грузовик, завывая мотором,
дрожа от усилий, несколько раз почти выезжает наверх и опять скатывается в
яму, вырытую колесами. Налегают снова, открыв дверцу, шофер что-то кричит,
опять машина, вся сотрясаясь, ползет наверх. В последний момент, не
выдержав, набегают бойцы, вместе толкают плечами, руками, сапоги упираются в
отъезжающую из-под ног землю. Задрожав в последнем усилии, грузовик
выкатывается, отрывается, и все вместе по инерции бегут за ним несколько
шагов и останавливаются. Общие от общей работы улыбки сходят с лиц.
-- А ну, давай их... Кытин, Обухов!-- хмурясь, оттого что слышит
летящий снаряд, приказывает Третьяков.-- В тыл их... Давайте... Быстро!--
продолжает говорить он и слышит, что снаряд летит сюда, и немцы тоже слышат
это и все слышат.
Кузов фузовика, тяжело переваливаясь, удаляется, будто оседает в
кустах. Два взрыва один за другим встают на поле, заслонив его. "Мимо!"--
успел подумать Третьяков. И тут сильным ударом, так, что он еле устоял на
ногах, швырнуло в сторону левую его руку. Закричали пленные, расступились.
На земле корчился немец. Третьяков попробовал поднять руку, она странно
переламывалась, свисала в рассеченном рукаве. И вот когда началась боль,
замутило до дурноты. Зажмуриваясь, как от горячего, стиснул зубы, пытаясь
болью задавить боль. Увидел мгновенно, как в занесенной руке Чабарова
блеснул приклад автомата, высокий немец шатнулся от него, пальцами закрыл
разбитое лицо.
-- Не бей!-- крикнул Третьяков и не осилил себя, застонал.
Часа через полтора врач полка, совместив перебитые кости, прибинтовал
ему шину к руке.
-- Выше подтяни ему,-- говорил он сестре, которая вешала руку на
косынке.-- Еще вот так. И полюбовался на свою работу.
-- Отрежут мне руку?-- спросил Третьяков, не сумев скрыть испуга.
Врач улыбнулся, привычно бодрым тоном сказал:
-- Вы еще этой рукой повоюете. Еще будете немцев бить этой рукой. Если,
конечно, война не кончится раньше.
-- Спасибо, доктор!-- поблагодарил Третьяков.-- Третий раз и все в эту
руку.
-- Третий-- значит, последний. В жизни все до трех раз.
Раненых было не много, все они, кто мог ходить и ползать, сползлись на
солнечную сторону дома, ждали отправки, и врач тоже вышел на улицу постоять.
-- А что, много там немцев?-- спросил он, прислушиваясь к недалекому
погромыхиванию орудий.-- Большими силами прорываются?
Теперь Третьяков уловил в его голосе некоторую тревогу.
-- Да нет, непохоже. Но вы на ночь все же выставляйте посты.
-- Из кого?
-- Да хоть из легкораненых, которые при санчасти.
-- Раненые должны выздоравливать,-- сказал врач, и на лице его с
поднятыми бровями появилось философское выражение.
-- Захотят жить, постоят.
Третьяков неловко пошевелил плечом, боль прожгла насквозь. Хмурясь, он
наблюдал за сержантом, усатым, здоровым, крепким, который, с веником выйдя
из дома, подметал у крыльца, согнувшись, старательно пылил.
-- Лодырей своих не жалейте,-- сказал он врачу.-- Тут немцы бродят,
учтите. Днем остерегаются, мы чуть колесом их не подавили, спасались в
кустах, а ночью... Оружие ведь валяется везде.
Подошла санитарная повозка, начали грузить раненых. Решив для себя, что
ехать ему во вторую очередь, потому что есть тут раненые похуже, Третьяков в
шинели внапашку сидел на ступеньках крыльца, смотрел, как распоряжается у
повозки санинструктор, молодая, властная, резкая; ездовой только вздрагивал
от ее голоса, опрометью кидался исполнять, и все-- не в ту сторону.
Погрузили тяжелораненого. Его положили в солому на дно повозки, он
слабо постанывал. Кто мог, ковылял сам, стараясь казаться жальче, чем есть.
Достав зажигалку из кармана, Третьяков закурил, глубоко и сладко вдохнул
дым, рассматривал полу своей шинели, вкось забрызганную его кровью, уже
присохшей, ржавой. Он попробовал оттирать ее, сминая сукно в пальцах. Боль,
приглушенная новокаином, сейчас не слишком тревожила его, такую боль терпеть
можно. Не раз еще будут с кровью отрывать бинт от живой раны, пока она не
загноится и повязка сама начнет отставать. Мысленно он уже видел весь путь,
который ожидает его. В этот раз, наверное, загипсуют руку. Вспомнился парень
в санлетучке, как он щепочкой вынимал червей из раны. Вот что, наверное,
терпеть трудно, когда чешется под гипсом...
-- Лейтенант! Иди!
От повозки врач звал его и махал рукой. Решив с самого начала, что
места ему не будет, и настроившись так, Третьяков обрадовался. Подошел.
-- Садись,-- говорил врач.-- Езжай. И в путь, осторожно похлопал по
спине. Теперь, когда его отправляли в тыл, он почувствовал смутную вину
перед теми, кто оставался. И тут заметил пожилого бойца у стены хаты. Он
сидел на земле, вытянув ногу в свежих бинтах, усмехнулся нехорошо и сразу
опустил глаза. Третьяков помедлил.
-- Возьмите вот этого,-- сказал он врачу негромко.-- Я ходячий.
Но боец услышал, закопошился на земле, весь перегорбившись, опираясь на
палку, запрыгал к повозке. Все так же с опущенными глазами лез в нее, как
человек, который отбирает свое. И сразу заторопил ездового:
-- Ну, чего? Поехали...
-- А ты не командуй!-- сорванным голосом закричала на
него,санинструктор. Она сидела рядом с ездовым.-- Раскомандовался... А то
погоню сейчас!
Тот как не слышал, словно все это -- не ему. Она подвинулась на доске,
лежавшей поперек, сердито сказала Третьякову:
-- Садись, лейтенант. Всякий командовать тут начинает...
Он пожал руку врачу, зачем-то огляделся последний раз, влез, сел с ней
рядом. Ну, все. Какой-то свой круг завершила жизнь.
И вот он ехал спиною к фронту. Взвод его, война -- все оставалось
позади. Запахом конского пота наносило от лошадиных спин, короткая рыжая
шерсть на них лоснилась по-весеннему ярко. Светило солнце, вся дымчатая
лежала степь, тени облаков паслись на ней, голубым видением вставали вдали
то ли холмы, то ли горы. И высоко над головою, в высоком ослепительном небе,
строй за строем шли белые кучевые облака. Как хорошо в мире, боже ты мой,
как просторно! Он словно впервые вот так все увидал.
Тень облака скакнула на спины лошадям, лицом, сощуренными от солнца
глазами он мгновенно почувствовал ее.
-- Придержи чуть,-- сказал он ездовому и, когда тот натянул вожжи,
слез, пошел пешком. Ему растрясло рану, она болела опять. Но рана, он знал,
поболит и перестанет, а на душе у него было спокойно и хорошо. Он шел,
держась здоровой рукой за повозку. Санинструктор глянула на него сверху
тяжелыми от недосыпания, остановившимися глазами, подвинулась на край доски,
на его освободившееся место.
-- Давно воюешь?-- спросил он, чтобы разговором отвлечься от боли. Она
зевнула.
-- Достань закурить.
Она была совсем молодая, губы пухлые, рот маленький. Прижмуривая один
глаз, она привычно прикурила от цигарки ездового, закашлялась хрипло с
первой затяжки.
Тень облака, идущая по степи, накрыла овражек. И что-то вдруг там
насторожило Третьякова. Он не знал что, но это было как предчувствие
опасности. ВсЈ время по привычке сознавать себя старшим, он наблюдал за
местностью: и сверху, когда ехал, и теперь, когда шел.
Лошади ступали по дороге, ездовой вожжами поторапливал их, курили
раненые, держась за край повозки рукой, шел он рядом. И все вместе они
подвигались к оврагу. Так же строго, как он вглядывался туда, посмотрел он
снизу на санинструктора; он не хотел зря испугать ее.
Тень облака сдвинулась, солнце вновь осветило овражек. Нет, зря он
насторожился.
-- Воюешь давно?-- спросил опять Третьяков, забыв, что уже спрашивал ее
об этом.
-- Давно,-- сказала она прочистившимся после кашля голосом.-- У нас вся
семья воюет. Старшая сестра пошла сразу, как мужа убили. Братишка тоже. Одна
мама с младшими сидит, ждет писем.
Он шел рядом и снизу посматривал на нее. Если бы это Саша была? Или
Лялька? И жаль ему было сейчас ее, как будто это их жалко.
Он не слышал автоматной очереди: его ударило, подбило под ним ногу,
оторвавшись от повозки, он упал. Все произошло мгновенно. Лежа на земле, он
видел, как понесли лошади под уклон, как санинструктор, девчонка, вырывала у
ездового вожжи, взглядом измерил расстояние, уже отделившее его от них. И
выстрелил наугад. И тут же раздалась автоматная очередь. Он успел заметить,
откуда стреляли, подумал еще, что лежит неудачно, на дороге, на самом виду,
надо бы в кювет сползти. Но в этот момент впереди шевельнулось.
Мир сузился. Он видел его теперь сквозь боевую прорезь. Там, на мушке
пистолета, на конце вытянутой его руки, шевельнулось вновь, стало подыматься
на фоне неба дымчато-серое. Третьяков выстрелил.
Когда санинструктор, остановив коней, оглянулась, на том месте, где их
обстреляли и он упал, ничего не было. Только подымалось отлетевшее от земли
облако взрыва. И строй за строем плыли в небесной выси ослепительно белые
облака, окрыленные ветром.
---------------------------------------------------------------
Григорий Яковлевич Бакланов
НАВЕКИ -- ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ
М, "Советский писатель", 1980, 240 стр План выпуска 1980 г No 5
Редактор 3 В Одинцова Худож редактор Д С Мухин Техн редактор Р Я
Соколова. Корректор С И Крягина
ИБ No 2318
Сдано в набор 01 11 79 Подписано к печати 100480 А 10228 Формат 84Х108
1 32 Бумага тип No 1 Журнальная рубленая гарнитура Офсетная печать Уел печ л
12,6 Уч-изд л 158 Тираж 100000 экз Заказ No 917 Цена 1 р 30 к Издательство
"Советский писатель", 121069 Москва, ул Воровского, 11 Тульская типография
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств
полиграфии и книжной торговли, г Тула, проспект Ленина 109
Для тяжелораненых самые трудные часы ночью, для выздоравливающих самое
тягостное время-- вечер. Вечером в палате сумеречный желтый свет
электричества, хлопья теней по углам, и все, кого отделила война-- и мертвые
и живые,-- все они в этот час с тобой.
Этой ночью снился ему отец. Смотрел на него издали, непохожий на себя,
поникший, стриженный наголо, старый, каким он не видел отца ни разу в жизни.
И в то же время он знал, что этот жалкий человек со шрамом через всю
голову-- это его отец.
Он ведь даже не простился с ним. Когда это случилось, он был в
пионерском лагере. В воскресенье, как обычно, ко всем приехали родители, к
нему почему-то не приехал никто. Потом среди недели приехала мать. Была она,
как после болезни, и всякий раз, когда смотрела на него, он видел в глазах у
нее близкие слезы.
Она сказала, что отец в командировке, что уехал надолго. И только когда
смена в лагере кончилась, он вернулся домой, увидел опечатанную дверь во
вторую комнату, мать рассказала, как это было...
Никогда прежде он так не любил мать, как в эти дни, когда несчастье
обрушилось на них. И он решил для себя твердо: кончит седьмой класс, пойдет
работать. Отец бы тоже так поступил и так бы сказал ему. Лялька маленькая,
пусть учится, а он-- старший. Но потом появился Безайц. Этого он не мог
матери простить: ни за отца, ни за себя.
Но если он воюет честно и на фронт пошел сам, когда их год еще не
призывали, если он все прошел, как положено, так ведь это отец его воспитал.
Мысленно он представлял не раз, как вернется с войны, придет и скажет, и
судьба отца изменится. Он не знал толком, куда он придет, как все будет, но
верил: кончится война, он придет с фронта, и разберутся, поймут, что
произошла страшная ошибка, отец его ни в чем не виноват. Даже с матерью он
не говорил об этом, а с Атраковским временами хотелось поговорить. Они
как-то стояли у окна вблизи операционной, и он спросил, за что у
Атраковского этот орден. Тот сверху глянул себе на рубашку: "Это мой пропуск
в жизнь". И усмехнулся.
Атраковский ходит сейчас по палате, думает о чем-то, думает. И Старых
думает над шахматной доской. С кровати, из сумерек, Третьякову видно, как он
сидит, подперев голову, уминает пальцами розовый шрам на лбу.
-- Конем, конем походи, старшой,-- громко советует повар. А сам, весь
перекривляясь, подмигивает на слепого Ройзмана, что-то другое показывает на
доске. Старых вскочил белый:
-- А вот костылем сейчас в лоб похожу! -- И на всех:-- А ну,
раздвинься! Обступили-- дыхнуть нечем.
-- И чего намахивается?-- пристыженно оправдывался повар.-- Человеку
добра желают, в воду пихают, а он, как оглашенный, на берег лезет...
Повар каждый вечер здесь, в их офицерской палате: стоит смотрит, жаждет
сыграть. Он разъевшийся, выбритое лицо блестит, как безволосое, рыхлая грудь
необъятна. Но это не от вольных хлебов. У него ранение, в котором стыдно
признаваться. Редкий не засмеется, узнав, куда он ранен, повар уже привык к
этому, не обижается. Он как раз перед самой войной женился, руки у него
целы, ноги целы, но приехал домой, жена поплакала-поплакала и честно
сказала, что жить с ним не сможет. И он вернулся обратно в этот госпиталь
вольнонаемным, по вечерам приходит в их палату, переживает: "Пешкой
походи..." Как-то сказал он: "Пока война-- ничего. А кончится война,
разъедетесь вы все..."
И впервые тогда Третьяков поразился мысли: человек боится, что кончится
война. Пока они здесь, он, как все, будто и для него ничего не кончилось. Не
дай Бог, чтобы так ранило, пусть лучше сразу убьет. И все равно у Третьякова
к нему почему-то гадливое чувство.
-- Старшой, дай одну сгоняю,-- просит повар и суетится, чтобы пустили к
доске.
-- Обождешь!
Старых вновь расставляет шахматы, пристукивая фигурами по доске.
-- Давай, капитан, в шашки.
-- В шашки?-- переспросил Ройзман.-- Нет, в шашки трудно, они все
одинаковые.
-- Как он их запоминает! -- поражается Старых.-- Я мыслью вперед
устремлюсь, эти ходы забываю...
Кто-то неуверенно открывал дверь палаты. Посторонний, должно быть,
кто-то. Третьяков приподнялся на здоровом локте, в дверях-- Саша.
-- Саша,-- говорил он, обе ее озябшие руки грея в своей одной руке.
Ткнулся губами в ледяные кончики пальцев и все их один за другим
перецеловал, оторваться не мог. Когда поднял голову, сердце колотилось.
Сияющими глазами Саша смотрела на него.
-- Саша,-- говорил он пьяный.-- Саша. Не надеялся, ждать не мог, а она
пришла.
-- Как же ты догадалась?
-- Я думала, ты заболел. Морозы, а он в одной шинели.
-- Нет шинели, отобрали у меня шинель, в том-то все и дело. Сижу --
выйти не могу.
-- ...Схватил, думаю, воспаление легких. Я даже к маме не пошла.
-- Саша!
Она сидела на подоконнике-- в белом халате, коса перекинута на грудь,--
а он стоял перед ней, держал ее руки, смотрел на них, как на чудо в своей
руке.
-- Там сторожа нового поставили... Я говорю, мне надо насчет
художественной самодеятельности договориться. А я, говорит, не обязан из-за
тебя места лишаться, у меня приказ.
-- Так там две доски в заборе оторваны. Они только на гвозде висят. Их
раздвинуть...
-- Если б не они, я бы не прошла. Хорошо, Тамара Горб дежурит, дала мне
халат.
Какие крошечные у нее пальцы. Озябшие. И почему-то пахнут паровозным
углем.
-- Так я же уголь собирала,-- говорит Саша.-- Это счастье, что мы рядом
с железной дорогой живем, а то бы вовсе топить было нечем. Пока поезд стоит,
обязательно из топки под паровозом насыплется. Иногда целое ведро наберешь.
-- Под вагонами?
-- А иначе гоняют, не дают собирать.
-- А если тронется?
-- Я однажды, знаешь, как напугалась! Ведро там оставила...
Она вдруг соскочила с подоконника: в конце коридора показалась белая
шапочка врача. По лестнице они побежали от него наверх, на третий этаж. И
смеялись, и весело было обоим. Но и там наткнулись на палатного врача. И
всюду, куда они прибегали, натыкались на кого-нибудь. Только на холодной
лестнице, под самым чердаком, никого не было. Они прибежали сюда
запыхавшиеся. Тут стояли огромные снеговые лопаты, движки с деревянными
ручками, прислоненные к стене, что-то валялось. Окно, как в нетопленном
помещении, было все изнутри в мохнатом инее. Около этого голубого снежного
окна он обнял Сашу и поцеловал. Целовал вздрагивающие под его губами веки,
щеки, пальцы, пахнущие углем.
Дрожа, они стояли на холоде, грелись общим теплом. Бухнула дверь внизу,
затопали вверх шаги.
Проводили Ройзмана. И, глядя, как он палочкой ощупывает впереди себя
дорогу, как неуверенной ногой ищет порог, опять Третьяков видел его прежним:
бывало, входил гордо на негнущихся ногах, глянцевые от бритья щеки
припудрены, взгляд холоден.
На его место привела сестра под локоть тоже капитана, согнутого
какой-то болезнью, желтого, желчного, всем недовольного. Призванный осенью
сорок третьего года, когда с него сняли бронь, капитан Макарихин до фронта
еще не добрался, все воевал с врачами по госпиталям. В палате он сразу начал
устраиваться надолго. "Я вас не потесню, если займу еще вот эту полочку?"--
спрашивал он Аветисяна. А тому и челюстью шевельнуть больно, он только мигал
огромными своими мохнатыми ресницами. "Вот и хорошо",-- сам за него
соглашался Макарихин и занимал еще одну полочку.
Он обнюхал подушку со всех сторон, брезгливо держа ее на весу, перетряс
тюфяк, напустив пыли на всю палату.
-- Им лишь бы в строй, лишь бы в строй выпихнуть,-- говорил Макарихин,
кулаками разбивая комья ваты в тюфяке,-- годен, не годен-- в строй,
И вскоре уже ходил между койками, раздавал статьи, по которым каждого
из них должны комиссовать.
-- Твоя-- одиннадцать бе,-- указал он пальцем на Третьякова.--
Ограниченно годный первой степени, что в мирное время означает инвалид
третьей группы.
"Сам ты инвалид ушибленный",-- подумал Третьяков, которому никто еще
никогда этого обидного слова не говорил. И с этой минуты возненавидел
Макарихина. А Старых, когда капитан вышел к сестрам что-то требовать для
себя, сказал, глянув вслед:
-- Вполне может не успеть на войну. "Жизнь отдам за Родину, а на фронт
не поеду..." Из таких.
И долго качал лысой своей головой, которая потому только сидела у него
на плечах, а не сгнила в земле, что вовремя каска на ней оказалась.
За обедом Макарихин ел, дрожа челюстью, всхлипывал над горячим.
-- Воруют,-- говорил он, тяжело дыша.-- Половину воруют из котла. У нас
в запасном полку устроили ревизию повару-- во, сколько за две недели
наворовал! И смеется, мерзавец: "Я за две недели столько, а до меня по
стольку-- за день..."
Байка была старая, всем известная, но Макарихин рассказывал ее как
свою.
-- Вон у вас повар какой разморделый. Для начальства надо украсть? А
для себя? А для семьи?
-- Слушай, Макарихин,-- позвал его Китенев. Тот поднял от миски
замутненные едой глаза.-- У тебя как, на ногах не отразилось?
-- Не понял.
-- Пешком ходишь нормально?
-- Если не на далекие расстояния... Вообще-то у меня, конечно,
плоскостопие-- раз, варикозное расширение -- два...
-- На близкие.
-- На близкие?-- Макарихин взял себя за колено, пристукнул ногой об
пол.-- На близкие могу.
-- Тогда иди ты...-- И Китенев кратко и четко послал его "на близкое
расстояние". Предупредил: -- И не задерживайся!
Макарихин оглядел всех, молча взял свой хлеб, взял миску и отсел
отдельно к себе на кровать.
-- Соскучитесь вы здесь без меня,-- говорил Китенев дня через два,
явившись в палату в полном боевом, в наплечных ремнях, в сапогах.
Выписывался он из госпиталя не утром, как обычно, и не днем даже, а под
вечер, чтобы последнюю ночку здесь, в городе, переночевать. И у Тамары Горб
все в этот день валилось из рук. Она то плакать принималась, то глядела на
всех мокрыми сияющими глазами: к ней уходил он прощаться.
Теперь оставалось их трое из прежней палаты: Атра-ковский, Старых и
Третьяков. И еще Аветисян своим стал за это время, хоть по-прежнему слышно
его не было. Все трое они чувствовали себя здесь недолгими гостями, подходил
их срок.
-- Давай сразу на мою койку переселяйся, будешь рядом с Атраковским,--
говорил Китенев, помогая Третьякову перебраться, и сунул ему под подушку
сложенную шинель.-- Пользуйся. Твоя.
Они сели колено к колену. Китенев достал плоскую фляжку. А когда выпили
на прощание, лицо у Старыха вдруг обмякло.
-- Пехота, ты что?-- смеялся Китенев, сам растрогавшись, и хлопал
Старыха по гулкой спине. Тот хмурился, отворачивался.-- А еще хвалился: я
раньше вас там буду.
-- Все там будем.
-- Просись на наш фронт, вместе будем воевать. Роту тебе не дадут, ты в
голову ушибленный. Дивизией сможешь наворачивать вполне.
Они шутили напоследок, а сами знали, что расстаются навсегда: на долгую
ли, на короткую, но на всю жизнь. Хотя чего в этой жизни не бывает!
В тот же вечер в шинели, оставленной ему в наследство, Третьяков был у
Саши. Фая показала ему, где ключ от комнаты, похвасталась:
-- Иван Данилыч посулился прийти.
Она мыла на кухне картошку, тесно напихивала ее в котелок. Лицо у Фаи
припухло сильней, по нему пятна пошли коричневые-- над бровями, на верхней
губе, так что белый пушок стал виден. Она заметила его взгляд, застыдилась:
-- Ой, чо будет, чо будет, сама не знаю. Таки сны плохи снятся. Эту
ночь,-- Фая махнула на него рукой, будто от себя гнала,-- крысу видала. Да
кака-то больна, горбата, хвост голый вовсе. Ой, как закричу! "Чо ты? Чо
ты?"-- Данилыч мой напугался. У меня у самой сердце выскакиват.
-- Серая была крыса?
-- Будто да-а.
-- Ну, все! Жди, Фая, сына и дочку. Примета верная.
Фая даже зарумянела:
-- Смеешься ли, чо ли?
-- Какой смех! Вот напишешь мне тогда. У нас в госпитале один
человек...
И не выдержал, улыбнулся.
-- А я рот раскрыла, уши развесила,-- хотела было обидеться Фая, но он,
веселый, похаживал по кухне, и ей с ним было не скучно.
Он шел сюда показать себя Саше. Впервые сегодня в оба рукава надел он
гимнастерку. Увидел себя в оконном стекле не в опостылевшем халате, а
подпоясанного, заправленного и понравился сам себе. И шел, чтобы Саша
увидала его таким.
Сбив огонь, вспыхнувший на тряпке, примяв хорошенько тряпку о плиту,
Фая оглянулась на дверь, шепотом сообщила:
-- У Саши-то, мать у ей -- немка!
-- Знаю.
-- Призналась?-- обомлела Фая.
-- А в чем ей, Фая, признаваться? В чем она виновата?
-- Дак война-то с немцами.
-- И Сашин отец с немцами воевал, на фронте погиб.
-- А я чо говорю! Сколь домов в городе, дак похоронки ведь в каждом
дому. Народ обозленный!
И взглядом пригрозила. А потом словно бы вовсе тайное зашептала ему:
-- Не знать, дак и не подумашь сроду. Женщина хороша,
роботяща-роботяща. Ой, беда, беда, чо на свете-то делатся!
И тут увидала руку его в рукаве:
-- Ты чо? Не на войну ли собрался?
-- Тихо, Фая, враг подслушивает! Она и правда оглянулась, прежде чем
поняла. Закачала головой:
-- Вот Сашу обрадуешь... 0-ей, о-ей... С тем ушла к себе, а он сидел в
коридоре на корточках, курил в холодную топку, ждал.
Стукнула входная дверь, тяжелое что-то грохнуло на кухне. Саша, вся
замотанная платком, обындевелая, перетаскивала от порога ведро с углем,
улыбнулась ему:
-- А я знала, что ты придешь. Иду и думаю; наверно, ждет уже.
И смотрела на него радостно. Он подхватил ведро у нее из рук.
-- Как ты его несла, такое тяжелое?
-- Бегом! Пока не отобрали.
-- Опять под вагонами лазала?
-- Под вагонами и собирала.
И оба рассмеялись, так ясно прозвучал у нее Фаин выговор.
-- Говори, что с ним делать?
-- Поставь. Я сейчас из ковшика оболью...
-- А вот мы его под кран!
Он встряхнул ведро на весу, не стукнув, поставил в раковину, открыл
кран. Зашипело, белый пар комом отлетел к потолку, запахло паровозом.
Радостная сила распирала его. Отнеся ведро к топке, огляделся.
-- Так! Сейчас мы щепок наколем...
-- У нас нечем колоть,-- из комнаты сказала Саша.-- Я ножом нащеплю.
-- Найдем.
Он отыскал на кухне под столом у Пястоловых ржавый косарь: без шапки, с
поленом и косарем в руке выскочил на улицу. Смерзшийся снег у крыльца был
звонок, полено далеко отскакивало, как по льду. Он гнался за ним, когда
прошли в ногу братья Пястоловы. Старший был пониже ростом, коренаст и нес
себя с большим достоинством. Он что-то спросил у брата и рукою в перчатке
поощрительно потряс над шапкой у себя:
-- Р-работникам!
Это и был военком, Третьяков разглядел у него на погонах по одной
большой звезде. И, помня, что в тылу младшего по званию украшает скромность,
приветствовал его, как положено:
-- Здравия желаю, товарищ майор.
Василий Данилович так и засветился гордостью за брата, приотстал, всего
его открывая обозрению. А тот с высоты крыльца бросил поощрительно:
-- Уши отморозишь!
-- Ха-ха-ха!-- смехом подхватил шутку младший брат.
Пока наколол, собрал-- озяб. В кухню вскочил-- ни ушей, ни пальцев рук
не чувствует. На примерзшем к подошвам снегу поскользнулся у порога в тепле,
чуть не рассыпал все.
-- Как от тебя морозом пахнет!-- сказала Саша и вдруг увидела его
руку:-- Тебя выписывают? Ты уже здоров?
-- Да нет, нет еще! И честно сознался:
-- Это я просто хотел показаться тебе. Но еще не раз в этот вечер ловил
он на себе ее взгляд, совсем не такой, как прежде. А когда растопили печь и
сидели рядом, Саша спросила:
-- Ты на кого похож, на отца или на маму?
-- Я? Я -- на отца. У нас Лялька -- одно лицо с матерью. Вот жаль,
фотографии в полевой сумке остались, я бы показал тебе.
-- Она младше тебя?
-- Она малышка. На четыре года младше. И Саша увидала, каким добрым
стало у него лицо, когда заговорил о сестренке, какая хорошая у него улыбка.
Опять огонь плясал на их лицах и пахло из печи березовым дымком. У
Пястоловых все громче слышались голоса за дверью.
-- Мне почему-то все время так спокойно было за тебя,-- сказала Саша.--
Конечно, все эти приметы-- глупость. Но когда от тебя ничего не зависит,
начинаешь верить. Считается, если сын похож на мать, будет счастливым.
Володя Худяков одно лицо был с матерью... Может, потому и было спокойно за
тебя, что впереди столько времени! А сейчас увидала твою руку...
-- Вот знай, Саша,-- сказал он,-- со мной ничего не случится.
-- Не говори так!
-- Я тебе обещаю. А ты мне верь. Я если что-нибудь пообещаю...
Тут Фая появилась в коридоре, поманила Сашу в кухню. Он сидел у печи,
смотрел в огонь, пошевеливал прогоравшие поленья, взяв совок, засыпал на них
уголь. Затрещало, запахло паровозом, черный спекавшийся пласт задушил огонь.
Постепенно из него начали пробиваться синие угарные язычки.
Саша вернулась чем-то обрадованная и смущенная.
-- Пойдем к ним.
-- Чего мы там не видели, Саша?
-- Неудобно, зовут все-таки.
-- Послушать, как товарищ майор шутят? Я чего-то не соскучился.
-- Мы ненадолго. Пойдем, а то обидятся.
Он видел, она почему-то хочет пойти, что-то недоговаривает. Встал,
заправил гимнастерку.
-- Загонит меня майор на гауптвахту, передачи будешь носить?
-- Буду!
-- Помни, сама отвела.
У Фаи, как всегда, жарко натоплено. Пахло кислой капустой, она стояла в
миске на столе. Последний раз он ел кислую капусту дома, до войны. И еще
пахло жареным свиным салом. Но им только пахло.
Фая захлопотала, усаживая их за стол:
-- Чайку попьете!
Братья сидели, оба красные, подбородки масленые.
-- Вот она, эта рука его, погляди,-- говорила Фая и брала Третьякова за
скрюченные пальцы левой руки, показывала Ивану Даниловичу. Тот глянул
снисходительно круглыми, будто усмехающимися глазами.
-- Левая?
И тут только заметил Третьяков, что правая рука военкома, лежавшая на
столе,-- в черной кожаной перчатке и рукав на ней, как на палке, обвис.
-- Вместе-то вам как раз двумя руками управляться,-- захохотал Василий
Данилович.-- Твоя лева, его-- права, во как ладно!
-- Точно!-- сказал военком.
-- Он, как знал, с детства левша. Бывало, отец ложку выдернет: "Правой
люди едят, правой!" И в школе ему за нее доставалось. А как на финской праву
руку оторвало, вот она, лева-то, не зря и пригодилась.
И опять военком сказал:
-- Точно!
Круглые его глаза сонно усмехались. По выговору был он, наверное,
из-под Куйбышева откуда-нибудь; в училище у них старшина, родом из города
Чапаевска, вот так же выговаривал: "Точшно".
-- Да он в одной левой побольше удерживает, чем другой в двух руках! --
похвалялся братом Василий Данилович, а тот молча позволял.-- Надо тебе сотню
врачей -- на другой день сто и выставит. По скольку их каждого готовят в
институтах? Лет по пять? По шесть? А он даст двадцать четыре часа на всю
подготовку -- и вот они готовые стоят. Надо двести инженеров, двести и
выстроит перед тобой!
Иван Данилович слушал, посапывая, дышал носом, сонно усмехался. Качнул
головой:
-- Погляди-ко в буфете, может, и ты перед нами выстроишь чего-нибудь?
Василий Данилович заглянул за стеклянную дверцу, вытащил на свет
заткнутую пробкой четвертинку водки.
-- Три пятнадцать до войны стоила! Шесть-- поллитра, три пятнадцать--
четвертинка. Еще коробка папирос "Казбек" была три пятнадцать.
-- Да ты их курил ли тогда, казбеки-то?-- спросил старший брат.
-- Оттого и запомнил, что не курил. А пятнадцать лишних копеек они за
посудину брали,-- как особую хитрость отметил Василий Данилович.-- Это во
сколько же раз она поднялась? О-о, это она во сто раз подскочила! -- говорил
он, наливая в маленькие рюмки, которые Фая недавно, видно, убрала, а теперь
одну за другой ставила, стряхивая предварительно.-- Еще и побольше, чем во
сто раз!
И словно теперь только узнав ей настоящую цену, он каплю, не стекшую с
горлышка, убрал пальцем, а палец тот вкусно облизнул.
Неловко было Третьякову принимать рюмку. В палате у них кто бы что ни
принес, считалось общее. А тут он ясно чувствовал: не свое пьет. Но и
отказываться было нехорошо.
Выпили. Фая положила ему капусты.
-- Капустки вот бери, закуси.
-- Спасибо.
И незаметно пододвинул Саше. А она, не ожидавшая этого, покраснела.
Братья захохотали.
-- Здорово это у них получатся: он пьет, она заку-сыват!
А Фая, будто сердясь, будто швырком, еще подложила на тарелку.
-- Я не хочу, Фая, правда,-- говорила Саша.
-- Врозь, что ль, положить?
-- Нет, мы вместе.
Они и были вместе сейчас, хоть старались друг на друга не смотреть. И
незаметно один другому отодвигали капусту по тарелке. А Фая, подойдя и будто
еще больше осердясь, брала в свою руку нечувствительные, скрюченные, вялые
пальцы его раненой руки, показывала их Ивану Даниловичу:
-- Чо, он ей навоюет, рукой етой? -- Она, как тряпки, разминала
бессильные его пальцы.-- Чо он может ей?
Он отобрал руку, отшутился:
-- У меня, Фая, работа умственная: не пехота, артиллерия. Тут можно
вовсе без рук.
-- Ты, может, думашь чего? -- горячо напустилась Фая.-- По закону ведь,
по закону! Иван Данилыча, если не по закону, лучше не проси!
И младший брат любимым словцом старшего подтвердил:
-- Точно!
Теперь Третьяков понял, зачем их позвали сюда, что Фая шептала там Саше
на кухне. Чудная она, Фая. Ее если сразу не испугаешься, так разглядишь, что
человек она хороший. Вот если б можно было дров для Саши попросить. Ну что
ж, по крайней мере эту рюмку он мог выпить с чистой совестью.
Иван Данилович, от которого Фая и Саша ждали слова, взял живой,
красной, мясистой кистью левой руки деревянный свой протез в черной
перчатке, переложил поудобней. Вот и на правой была бы у него такая же
сильная, красная кисть. Но, может быть, потому он и жив сейчас, что одна
рука у него деревянная. А уж младшего брата наверняка она от фронта
заслонила.
-- Ну что, Василий, есть у тебя там или вся? А то пожми, пожми.
И Василий Данилович "пожал", и как раз три рюмки налилось. Крупными
пальцами старший брат взял свою рюмку, сказал неопределенно и веско:
-- Который человек кровь свою за Родину пролил, имеет право! И будет
иметь!
И первым махнул водку в рот. На улице Саша спросила виновато:
-- Ты не обижаешься на меня? Он улыбнулся улыбкой старшего:
-- Чудные вы обе с Фаей. А я еще понять не мог, чего мы туда идем?
Заговорщицы...
-- Но почему всегда-- самые лучшие? Вот и отец мой и Володя бедный. В
девятнадцать лет успел только погибнуть. Ты не сердись, что я все о нем
говорю. Я вот уже лица его не вижу. Помню, какое оно, а не вижу.
Они подошли к госпиталю. Фонарь у ворот освещал снег вокруг себя.
-- А чего мы туда идем?-- спросил Третьяков.
-- Но ведь тебя искать будут.
-- А я сам найдусь. Саша, дальше фронта не пошлют! Идем к Тоболу. Не
замерзла?
И, обрадовавшись, поражаясь только, что им раньше это в голову не
пришло, они быстро пошли назад, снег только звенел под его коваными
каблуками.
С улицы, с мороза, духота в палате показалась застойной. Третьяков
осторожно притянул за собой дверь, пошел на носках. Когда глаза начали
различать, увидел, раздеваясь, что с соседней кровати, с подушки, улыбается
Атраковский. И самому смешно стало, когда увидел со стороны, как он крался в
темноте между кроватями.
-- Капитан,-- шепотом позвал он,-- потяните рукав. Атраковский сел на
кровати, босые ступни плоско стали на пол. После недавнего приступа был он
совсем слабый, почти не вставал. А тогда забегали врачи по этажу, зачем-то
внесли ширму из простынь, отделили его от палаты. Он лежал холодный, изредка
открывал тусклые глаза.
-- Не напрягайтесь, держите только, держите,-- говорил Третьяков.-- Я
сам из него вылезу. Вылез, отдышался, поправил повязку.
-- Спасибо.
-- Курить хочешь?
-- Помираю! Все искурил.
Слабой рукой Атраковский полазил у себя под подушкой, начал надевать
халат:
-- Пойдем, я тоже постою с тобой. Все равно не сплю.
-- А чего не спите? Болит?
-- Мысли всякие.
-- Мысли!-- Третьяков радостно улыбнулся. Ему все время отчего-то
хотелось улыбаться.-- Думать будем после войны. Вон Старых спит, как святой,
ничего не думает.
Старых спал ничком, свесившаяся рука доставала до полу. И ничуть ему не
мешало, что рядом с ним шепчутся в темноте. Повернулся на бок, хрястнул
сеткой-- он хоть и не высок, а весь, как каменный,-- чмок-нул губами во сне
и мощно захрапел. Белый гипсовый сапог высунулся из-под одеяла.
-- Я вот так спал на фронте,-- говорил Третьяков, пряча обмундирование
под тюфяк.-- Где приткнулся, там и сплю, сейчас даже удивительно. У нас
комбат спал в землянке, снаряд под землянку угодил. Грунт болотистый, снаряд
фугасный, ушел в глубину, выбросить землю силы взрыва не хватило, вспучило
нары, а он и не проснулся. Утром глядит, земляные нары под ним горбом. Вот я
тоже так спал. А здесь и вшей нет, и как будто что-то кусает по целой ночи.
Меня тут не хватились?
-- Нет.
Раскатав тюфяк поверх обмундирования, Третьяков надел халат.
-- Пошли?
Свыкшиеся с темнотой глаза резанул по зрачкам свет в коридоре. Отошли к
операционной, к дальнему окну. Отсюда видны были огни вокзала, огни на
путях. Окно это было такое же, как все, а вот около него почему-то
происходили самые откровенные разговоры. И с Сашей они тут сидели.
Третьяков так долго не курил, что от первых затяжек на всю глубину
легких ударило в голову и губы занемели. Он смотрел в окно и сам себе
улыбался, не замечая. А на Атраковского хорошим от него веяло. При нем
привезли этого мальчика, на глазах оживал. Щеки синеватые с мороза-- от
госпитальной жидкой кормежки во всех в них кровь не греющая,-- а улыбается,
весел. Но даже когда улыбается, есть во взгляде серьезность, глаза
повидавшие. Он и жалел его и завидовал.
В сорок первом году, когда сам он, раненный, попал в плен и гнали их
под конвоем, увидел он с холма всю колонну. Прошел дождь, солнце светило
предвечернее, свет его был такой щемящий, словно не день, а жизнь догорает.
И по всей дороге под автоматами брели пленные, растянувшийся, колышущийся
строй. А там, куда их гнали, посреди голого болота, сидели люди, сотни,
может быть, тысячи людей, земли под ними не было видно: головы, головы,
головы, как икра. Вот такие мальчики, стриженные наголо, сколько из них
могло бы сейчас жить. Впервые тогда он понял, увидав, как мало в этой войне
значит одна человеческая жизнь, сама по себе бесценная, когда счет идет на
тысячи, на сотни тысяч, на миллионы. Но вот эти так мало значащие жизни, эти
люди, способные в бою сражаться до последнего, а там доведенные до того, что
скопом, отпихивая друг друга, кидались на гнилые очистки, и охрана, сытые
молодые солдаты, забавы ради, потому что это позволено, можно, лениво
стреляли в них из-за проволоки,-- вот эти люди, а не какие-то особые, другие
и есть та единственная сила, способная все одолеть. С какой беззаветностью,
с какой готовностью к самопожертвованию подымается эта сила всякий раз в
роковые мгновения, когда гибель грозит всему.
Там, в плену, был с ним летчик, вот такой же мальчик, постарше немного.
Его подбили над самой целью, над переправой, куда он один долетел. И он, не
дрогнув, направил свой самолет в железнодорожный мост, на верную смерть. И
жив остался, отброшенный взрывом. Он умер от заражения, а до последнего
момента все мечтал бежать из плена. И тоже, если б бежал, доказывал бы, что
никого не предал, не изменил, как не раз приходилось это доказывать
Атраковскому, и тоже осталось бы на нем незримое, несмываемое пятно.
В плену ничто Атраковскому не было обидно: враг есть враг, от него он
не ждал для себя ничего хорошего, и сердце у него там было как каменное. Но
когда не верят свои, вот этого нет тяжелей и обидней.
Приглушенное двойными окнами, раздалось гудение идущего поезда. Минуя
станцию, мчался товарный состав; два паровоза, вместе гудя, мощно тянули
его. Он все шел и шел, все возникали на свету, возникали и исчезали вагоны,
платформы; мчался тяжелый воинский эшелон туда, к фронту, и здесь, на
отдалении, вызванивали стекла. А когда словно оборвался состав и пусто стало
на путях, они с одинаковым выражением глаз посмотрели друг на друга. И
впервые увидел Третьяков, что Атраковский не стар, просто худ очень, один
костяк остался.
Однажды, когда меняли белье в палате и Атраковский, сидя на койке,
стянул с себя через голову бязевую рубашку, обнажив могучий, выгнутый дугою,
весь из острых позвонков хребет, Третьяков случайно увидел эту его руку,
которой он сейчас оперся о подоконник. Перемятая, со страшными ямами,
затянутая глянцевитой сморщенной кожицей, словно мясо из нее вырвано
клоками,-- и вот с такой рукой воевал человек, орден боевого Красного
Знамени заслужил, "пропуск в жизнь", как он однажды назвал его.
-- А ведь еще будем вспоминать это время,-- сказал Атраковский, и глаза
его блестели особенно.-- Кто жив останется, будет вспоминать. Тянет уже
туда?
-- Тянет!-- Третьяков поражался, что капитан говорит то самое, что и он
чувствовал.-- Там, когда уж совсем прижмет, думаешь другой раз: хоть бы
ранило, хоть бы перебило что-нибудь! А тут...
Атраковский смотрел на него, как отец на сына:
-- Там головы не подымешь, а душа разгибается в полный рост.
-- Вот потому я люблю взвод управления,-- перебил Третьяков, ему тоже
хотелось сказать.-- Оторвался от батареи, и никого нет над тобой. Чем к
передовой ближе, тем свободней.
-- Через великую катастрофу-- великое освобождение духа,-- говорил
Атраковский.-- Никогда еще от каждого из нас не зависело столько. Потому и
победим. И это не забудется. Гаснет звезда, но остается поле притяжения. Вот
и люди так.
Они еще долго стояли у окна, курили, взволнованные, и когда молчали,
тоже разговаривали. Глядя в добрые глаза этого мальчика, в глубине суровые,
Атраковский всю его судьбу в них прочел.
Олег Селиванов, как был, в шинели, заглянул в палату, выманил
Третьякова в коридор:
-- Пошли!
-- Привез?
-- Сейчас сваливают.
Нажженное ветром лицо Олега было красно, в порах толстой кожи
золотилась щетина на подбородке.
-- Пошли быстрей. Я начальнику госпиталя сказал, тебя отпустят.
Шаг в шаг, звеня каблуками сапог по смерзшемуся снегу, они шли по
улице. Мороз был в тени; снег, доски заборов, лавочки у калиток-- все, как
золой, серым инеем покрыто с ночи. А на солнце снег, притертый до блеска
полозьями саней, слепил. И пахло в зимний день весной.
Впервые Третьяков открыто шел днем по городу:
Олег Селиванов, блистающий очками, перетянутый портупеей, был ему и
конвой и защита.
-- Как же тебе удалось, Олег? Тот улыбнулся:
-- Думаешь, если я здесь, так все знаю и умею? А я ничего не умею. И не
знаю. Хорошо, человек такой подвернулся, как будто знал, сам предложил.
-- Спасибо, Олег.
-- Мне теперь самому приятно, если хочешь знать. Они шли быстро,
говорили на ходу, пар коротко вырывался изо ртов. Вот, никогда не зарекайся
вперед. Провожая Олега в тот раз, Третьяков искренне надеялся, что больше
тот не придет. Не знал, что еще самому придется разыскивать Олега, что
обрадуется, когда на чхоз приведет его.
"Олег,-- сказал он, потому что больше некого было просить,-- мне нужна
машина дров". У того глаза стали круглей очков: "Володя, но где же я возьму?
Да еще машину целую".-- "Не знаю". И оба знали: должен. Из всего их класса,
из всех ребят, один Олег оставался в тылу.
Для себя Третьяков не просил бы, но Сашу не мог он оставить собирать
уголь под вагонами. И не сомневался: захочет Олег-- сможет. Люди, которые на
третьем году войны шли через военно-врачебную комиссию, жизнь свою ценили
дороже машины дров, а Олег-- секретарь ВВК. "У него печать",-- сказал
начхоз. Для Третьякова печать ничего не значила, но по священному трепету, с
которым это было сказано, понял: судьбы людские у него в руках. И еще больше
уверился: сможет. И вот смог. И пришел гордый. А что ж, сделать доброе дело
для другого человека-- это тоже стоит испытать.
Когда, задохнувшиеся от быстрой ходьбы, они подошли к дому, машины там
уже не было. Гора скинутых двухметровых кряжей перед сараем на снегу, и Саша
ворочает их. Она разогнулась с березовым комлем в обнимку, радостная,
смотрела на них:
-- Я думала, Фае привезли. Я Фаю зову, а они прочли по бумажке,
говорят-- мне.
-- Ты б еще отказалась!
-- Они уехали?-- спрашивал Олег.
-- Они почему-то очень торопились. Скинули быстро, даже денег не взяли.
"Чо нам деньги? Ты бы нам спирту..." А откуда же у нас спирт?-- Саша шла к
ним, варежка о варежку отрясая опилки.-- Володя, я ничего не понимаю.
-- Вот, знакомься: Олег Селиванов.-- Он под спину рукой выдвинул вперед
Олега.-- Человек великий и всемогущий. И учился со мной в одном классе. Это
все -- он.
Саша мягко подала теплую из варежки руку, взглянула серыми в черных
ресницах глазами, и Олег, поздоровавшись, смутился, стал протирать очки.
-- Главное, почти одни березовые!-- восхищалась Саша.-- Ты смотри,
березовых сколько!
-- А мы смотреть не будем,-- Третьяков снял с себя ремень, повесил его
через плечо. Он видел, что дрова произвели на Сашу куда большее впечатление,
чем Олег.-- Мы их сейчас распилим, расколем, сложим в сарай и скажем: так и
було!
У Пястоловых в сарае нашлись козлы. Накинув на себя пуховый платок, Фая
вынесла двуручную пилу. Еще раз вышла, вынесла в голой руке колун. Когда вот
так по-хозяйски, это было ей по душе, она радовалась помочь, рада была за
соседей.
Притоптали снег вокруг козел, взвалили для начала ствол потолще.
-- Ну, Саша!
Когда отпал на снег первый отпиленный кругляк, Олег Селиванов вызвался
колоть. Как был в шинели, в ремне, портупее, взмахнул над собой колуном и
уронил очки с носа. И теперь сидел на чурбаке, удрученный своей неловкостью,
трогал пальцами, смотрел на свет слепое от трещин стеклышко. А они пилили
вдвоем.
Белые опилки брызгали из-под пилы: Саше на валенок, ему-- на полу
шинели, на выставленный сапог. Желтым слоем лежали они под ногами, на
истоптанном снегу, свежо и сильно пахло на морозе распиленным деревом.
Саша раскраснелась, распустила платок, волосы у пылающих щек
закурчавились. Он спрашивал:
-- Устала?
Саша трясла головой:
-- Нет!
Легко шла острая пила, двумя руками в варежках Саша тянула ее на себя,
потом и варежки скинула: жарко сделалось. Позади нее, как не оторвавшиеся от
земли дымы, стояли в небе березы, все в инее, окованные тишиной.
К полудню потеплело, нашла туча, густо повалил снег и зарябило все,
закружилось, сильней запахло распиленной березой, словно это от свежего
снега так пахло. Саша стряхивала его с себя варежками, а он все валил.
От станции, то убыстряясь, как за последним вагоном, то опять ровно,
вновь и вновь ударяя на том же стыке, слышен был мчащийся перестук колес, он
отдавался от земли. Нанесло паровозный дым. И показалось, это не снег летит,
а они сквозь него мчатся, мчатся... Скоро и ему загудит паровоз, застучат
под полом колеса. Он посмотрел на Сашу, вот такой будет помнить ее.
Чье-то лицо, белое в черном окне кухни, несколько раз уже возникало за
стеклом. Саша перехватила его взгляд.
-- Это мама!-- крикнула она сквозь шарканье пилы.-- Я маму вчера взяла.
Такая странная стала, все спрашивает. Ходит по дому, как будто ничего не
узнает.-- Саша перевела дыхание.-- Она там, оказывается, воспалением легких
болела. Мне не сказал никто*
В окне махали белой рукой. Саша убежала в дом, а Олег, замерзнув,
сменил ее. Потом они сели покурить на бревнах. Снег, поваливший из тучи, так
же быстро перестал. Опять светило солнце. Третьяков смерил глазом, хватит ли
у них сил распилить все, и положил Олегу на колено горячую от работы руку,
ладонь ее как будто припухла:
-- Спасибо, Олег. Тот обрадовался:
-- Ну что ты! Я же вижу. Я просто не знал как. Жаль, ты раньше не
сказал.
Саша вынесла им напиться и вновь ушла в кухню. Выбежала оттуда,
размахивая длинными рукавами телогрейки, полы доставали ей чуть не до колен.
-- Это Фая меня нарядила! -- смеялась она, отворачивая стеганые рукава.
Она и в телогрейке была хороша, Третьяков видел, как грустно залюбовался ею
Олег.
Саша взялась относить в сарай, а они пилили вдвоем. Солнце обошло круг
над вершинами берез, оно теперь светило в окно кухни, оттуда несколько раз
уже звали, но он понимал, что второй раз им не взяться, с непривычки сил не
хватит. И только когда допилили все, унесли козлы в сарай, когда Саша смела
со снега щепки, кору, древесный мусор, они подхватили пилу и топор, все
вместе пошли к дому.
Шапкой сбивая с себя опилки и снег, Третьяков оглянулся с крыльца: он
берег для себя этот момент. Пусто перед сараем. Смогли, одолели за один раз.
Постукивая негромко сапогами, они друг за другом вступили в кухню, топор и
пилу поставили у дверей.
-- Это не работники, а угодники!-- басом встретила их Фая и качалась,
сложа руки на животе, полкухни заслоняя собой. А у плиты увидел он худую
старушку в Сашином платке на спине. Саша обняла ее, прижалась к ней, украшая
собою:
-- Это моя мама!
И ревниво схватила: что у него на лице? Потом сказала матери:
-- Мама, это Володя.
-- Володя,-- повторила мать, стыдливо прикрыв рот, в котором не хватало
переднего зуба. Рука была белая, бескровная, даже на вид холодная, с белыми
ногтями.
-- Маму там зачем-то остригли,-- говорила Саша, прихорашивая, поправляя
ей волосы над ушами.-- У мамы косы были длинней моих, а она дала остричь
себя коротко. Ни за что бы я не согласилась, если б знала.
Два рослых человека стояли у порога: один совсем солидный, в очках, в
погонах, в ремнях; другой -- я солдатской расстегнутой шинели, и дочь
сказала: "Мама, это Володя".
-- Раздевайтесь,-- говорила мать.-- У меня как раз все горячее.
Раздевайтесь, садитесь к столу. Саша, покажи, где раздеться.
Когда снимали и вешали в комнате шинели, Саша мимолетно заглянула ему в
глаза, он улыбнулся, кивнул. И, радуясь, что ее мама понравилась, утверждая
его в этом, Саша сказала быстро:
-- Она совсем не такая была, это она оттуда потерянная какая-то
вернулась, я даже ее не узнаю.
В кухне, где всю войну не белилось и черным стал закопченный
керосинками потолок, а стены и подоконник потемнели, весь свет садившегося в
снега солнца был сейчас на столе, на старенькой, заштопанной, розовой от
заката скатерти. И глубокие тарелки блестели розовым глянцем.
Фа я отказалась садиться за стол, ушла к себе. Одну за другой брала
мать тарелки к плите и, полные горячих щей, ставила перед каждым. Щи эти,
совсем без мяса, без масла, из одних мороженых капустных листьев и картошки,
были так вкусны и пахучи, как никогда они сытому человеку вкусны не будут. И
все время, пока говорили и ели, Третьяков чувствовал на себе взгляд матери.
Она смотрела на него, подливала в тарелки и все смотрела, смотрела. А Олег
сидел расстроенный и грустный, солнце блестело в слепом стеклышке его очков.
И оттого, что был расстроен, по рассеянности один ел хлеб, не замечая, что
другие не берут хлеба: брал с тарелки, крошил на скатерти и рассеянно ел.
В окно видны были верхушки берез. Только самые верхние, красноватые
веточки огнисто светились, а стволы в прозрачном малиновом свете стояли
сиреневые. Проходил состав, толчками подвигался дым за крышами сараев, и
свет над столом дрожал.
Солнце садилось, день гас, стены темнели, и лица уже плохо различались
против света. Но он все время чувствовал на себе взгляд матери.
Совсем темно было, когда, проводив Олега, они с Сашей шли к госпиталю.
Она спрашивала:
-- Тебе правда понравилась моя мама?
-- Ты на нее похожа,-- сказал он.
-- Ты даже не представляешь, какие мы похожие! Она с косами молодая
была, нас все за сестер принимали, верить не хотели. Это она из больницы
такая вернулась, старенькая, прямо старушка, я не могу на нее смотреть.
У ограды они постояли. Ветер завивал снег у его сапог, хлестал полами
шинели. Спиной загораживая Сашу от ветра, грел он руки ее в своих руках,
мысленно прощался с нею.
"Мама,-- писал он в тот вечер, согнувшись над подоконником, откуда
обычно смотрел на вокзал, на уходящие поезда,-- прости меня за все. Теперь я
знаю, как я тебе портил жизнь. Но я этого не понимал тогда, я теперь понял".
Мать однажды в отчаянную минуту сказала ему:
"Ты не понимаешь, что значит в наши дни взять к себе жену
арестованного. Да еще с двумя детьми. Ты не понимаешь, каким для этого надо
быть человеком!.."
"Меня не надо брать!-- сказал он тогда матери.-- Мне не нужно, чтобы
меня кто-то брал!" И ушел из школы в техникум, чтобы получать стипендию. Он
хотел и в общежитие перейти, но туда брали только иногородних. Теперь он
понимал, как был жесток в своей правоте, что-то совсем иное открывалось его
пониманию. И он подумал впервые, что, если отец жив и вернется, он тоже
поймет и простит. И неожиданно в конце письма вырвалось: "Береги Ляльку!"
В облаке пара, накрывшего перрон, бабы метались вдоль состава, дикими
голосами скликали детишек, лезли на подножки, проводники били их по рукам:
-- Куда? Мест нет!
-- Володя, Володя! В этот вагон!-- кричала Саша. Ей тоже передалась
вокзальная паника. Проводница грудью наперла на него:
-- Полно, не видишь?
Сверху перевешивались из тамбура, кричали:
-- Лейтенант, сколько стоим?
Он стряхнул с погона лямку вещмешка, над головой проводницы кинул
вещмешок в тамбур, видел, как там поймали его на лету. Мимо бежал народ,
толкали их.
-- Я напишу, Сашенька. Как получу номер полевой почты, сразу напишу.
И впрыгнул на подножку уже тронувшегося поезда, отодвинул проводницу
плечом.
Саша шла рядом с подножкой, махала ему. Все прыгало у нее перед
глазами, в какой-то момент она потеряла его.
-- Саша!
Она глядела мимо, не находя. Он вдруг соскочил на перрон, обнял ее,
поцеловал крепко. Выскакивающие из вокзала офицеры в меховых жилетах
оглядывались на них на бегу, прыгали в вагоны. И они с Сашей бежали, она
отталкивала его от себя:
-- Володя, скорей!.. Опоздаешь!
Поезд уже разгонялся. Мелькали мимо оставшиеся на перроне люди, все еще
устремленные к вагонам. Внизу бежала Саша, отставая, что-то кричала. Поезд
начал выгибаться дугой, Саша отбежала в сторону, успела махнуть последний
раз и -- не стало ее, исчезла. Вкус ее слез остался на губах.
Проводница, не глядя, надавила на всех спиной, оттеснив внутрь,
захлопнула железную дверь с закопченным стеклом. Стало глухо. Кто-то передал
вещмешок.
-- Из госпиталя, лейтенант?
Третьяков внимательно посмотрел на говорившего:
-- Из госпиталя.
-- Долго лежал?
Он опять глянул, смущая пристальным взглядом. Слова он слышал, а смысл
доходил поздней: Саша была перед глазами.
-- Долго. С самой осени. И достал из кармана кисет:
-- Газетка есть у кого?
Ему дали оторвать полоску. Третьяков насыпал себе табаку и пустил кисет
по рукам: вступив в вагон, он угощал. Кисет был трофейный, немецкий,
резиновый: отпустишь горловину, и она сама втягивалась, скручивалась винтом.
Табак в этом кисете не пересыхал, не выдыхался, всегда чуть влажноватый,
хорошо тянулся в цигарке. Старых подарил на прощание. Когда Третьяков
оглянулся от ворот госпиталя, они двое стояли в окне палаты: Старых и
Атраковский.
Обойдя круг-- каждый одобрительно разглядывал,-- кисет вернулся к нему.
Задымили все враз, будто на вкус пробовали табак. Стучали колеса под полом,
потряхивало всех вместе. А Саша идет сейчас домой, он видел, как она идет
одна.
Опять появилась проводница, всех потеснив, погромыхала кочергой. Была
она плотная, крепкая, глядела хмуро. Когда нагибалась, солдаты
перемигивались за ее спиной.
Докурили. Третьяков накинул лямку вещмешка на погон, кивнул всем и
толкнул внутрь дверь вагона. Здесь воздух был густ. Он шел по проходу,
качаясь вместе с качающимся полом. На нижних, на верхних, на багажных
полках-- везде лежали, сидели тесно, все было занято еще с начала войны. И
на затоптанном полу из-под нижних полок торчали сапоги, он переступал через
них. Все же над окном, где под самым потолком проходила по вагону труба
отопления, увидел место на узкой, для багажа полке. Закинул туда вещмешок,
влез, повалился боком. Только на боку тут и можно было поместиться.
Придерживаясь то одной, то другой рукой за потолок, он снял шинель,
расстелил ее под собой, мешок подложил под голову. Ну, все. А ночью
пристегнуться ремнем к трубе отопления-- и не свалишься, можно спать.
Он лежал, думал. Весь табачный дым поднимался к нему снизу. Мелькал,
мелькал в дыму солнечный свет, вспыхивал и гас мгновенно: это за окном,
внизу мелькало что-то, заслоняя солнце; поезд - шел быстро.
В духоте под это мелькание и потряхивание он задремал.
Проснулся -- светло над ним на потолке. Свет уже закатный, золотит
каждую дощечку. Он расстегнул мокрый воротник гимнастерки, вытер потную со
сна шею. И вдруг почувствовал ясно, как оборвалось в нем: теперь он уже
далеко. И ничего не изменишь.
Он осторожно спустился вниз, пошел по вагону, рукой придерживаясь за
полки; они блестели снизу вечерним светом. Под ними курили, разговаривали,
ели, мгновенные выражения лиц возникали, пока он шел.
В тамбуре был громче железный грохот. Не отставая от поезда, катилось
по краю снежной равнины красное солнце. Через закопченное стекло тамбур
насквозь был пронизан его дрожащим светом. Под этой световой завесой-- на
железном полу, среди узлов, которыми завалили заиндевелую дверь,-- женщина
поила двоих детей, от губ к губам совала жестяную кружку. Она глянула на
него испуганно-- не прогонит ли?-- заметила, что он, достав уже кисет, не
решается закурить, обрадовалась:
-- Курите! Они привыкши.
Дети казались одного возраста, мокрые губенки одинаково блестели у
обоих.
-- Они привыкши,-- слабым для жалостливости голосом обратил на себя
внимание старик. Только услыша голос, Третьяков увидал его: бороду и шапку
среди узлов. Он понял, дал закурить.
-- Чего на него табак тратить! -- говорила женщина, похорошев от
улыбки.-- Зря только переводит.
Нигде, ни на одной остановке не брали гражданских в этот поезд. И после
каждой станции они оказывались в вагонах, в тамбурах, на площадках: им надо
было ехать, и они как-то ухитрялись, ехали. И эта женщина ехала с детьми, с
вещами, со стариком, который всем был обузой. Он, видно, и сам сознавал это.
Закурив, он закашлялся до синевы, до слез, весь дрожащий. И после каждой
затяжки все посматривал на цигарку в кулаке: сколько осталось.
А у другой двери тамбура лицами друг к другу стояли капитан-летчик и
молодая женщина. Капитан рассказывал про воздушный бой, рука вычерчивала
виражи в воздухе, женщина следовала за ней глазами, на лице-- восторг и
ужас. Капитан был статный, затылок коротко подстрижен, шея туго обтянута
стоячим воротником, а по белой кромке его подворотничка, как по белой нитке,
срываясь и цепляясь за нее, ползла крупная вошь. И Третьяков не знал, как
сказать капитану, чтоб женщина не заметила.
Со свернутым флажком в руке вошла проводница; потянуло запахом уборной
из вагона. Приближалась какая-то станция.
-- Их бы в вагон взять,-- тихо сказал Третьяков, указав глазами на
детей, на обметанную инеем дверь. Мать услышала, замахала на него рукой:
-- Что вы, нам тут хорошо! Чего лучше! Проводница разглаживала ладонью
свернутый, черный от копоти флажок, сгоняла складки к одному краю. Мелькнуло
снаружи здание, мгновенно кинув тень, и опять красный свет солнца пронизал
тамбур. Четко были видны у закопченного стекла двое: молодая женщина
держалась обеими руками за железные прутья, подняв лицо, восхищенно смотрела
на капитана.
-- Себя-то не жаль? -- спросила проводница и глянула на Третьякова,
сощурясь.-- А мне вас вот таких жалко. Всю войну вожу, вожу и все в ту
сторону.
Костер шипел, просыхала вокруг него оттаявшая земля, пар и дым сырых
сучьев разъедали глаза. Закопченные, суток двое не спавшие батарейцы сидели,
нахохлясь, спинами на ветер, размазывали грязные слезы по щекам, скрюченными
от холода пальцами тянулись к огню. И, сидя в дыму, дымили махоркой, грели
душу. Мокрый снег косо летел в костер, на спины, на шапки.
Набив полное ведро снега, Кытин понес его к костру. Там больше дымило,
чем горело.
-- Фомичев!-- крикнул он.-- Плесни еще разок. Подошел тракторист,
шлепая по талому снегу растоптанными, черными от машинного масла валенками.
Все на нем было такое же, в масле и копоти. Из помятого жестяного ведра
плеснул в костер холодной солярки. Пыхнуло, жаром дало в лица. Кто спал,
очнулся, обалделыми глазами глядел в огонь; снег, не долетая до огня,
исчезал в воздухе.
Заслонясь рукавицей, Кытин боком, боком подступал к костру. С остатками
солярки в ведре ждал Фомичев, весь черный стоял в косо летящем снегу, словно
плечом вперед плыл ему навстречу. Глянув на его разбухшие от снеговой воды
валенки, Третьяков подумал: переобуться надо. Он сидел на снарядном ящике,
кашель сотрясал его; лоб, грудь, мышцы живота -- все болело от кашля,
слезящимся глазам больно было глядеть в огонь. Сколько раз на фронте--
мокрый, заледенелый весь, и никакая простуда не берет. А попал в госпиталь,
повалялся на чистых простынках в человеческих условиях, и вот на первом же
переходе простыл.
Он с трудом стянул сырой сапог, размотал портянку. Босую ногу охватило
ветром, озноб прошел по позвоночнику, во всем теле почувствовался жар.
Укрыться бы сейчас шинелью с головой, дышать на озябшие пальцы, закрыть
глаза...
Подошел к костру комбат в длинной шинели. Новый был в батарее командир,
переведенный из другой части,-- капитан Городилин. Говорили, что занимал он
там должность помначштаба полка, и поначалу казалось, не может он этой
должности забыть, низко ему в батарее, оттого и держит всех на дистанции --
и командиров взводов и бойцов,-- с одним только старшиной советуется, и
старшина уже перестал замечать командиров взводов. Но вскоре и через
расстояние разглядели: комбат просто не уверен в себе. И как он ни хмурился
грозно, ни покрикивал, приказания его, даже дельные, выполняли неохотно. Это
уж всегда так, неуверенность в приказе рождает еще большую неуверенность в
исполнении. И все вспоминали Повысенко: вот был комбат! Он и не приказывал,
скажет только, а выполняли бегом.
Но Повысенко не было в полку, под самый Новый год его ранило. И во
взводе у Третьякова несколько человек было новых. Присылали и на его место
младшего лейтенанта, но не долго держатся командиры взводов управления,
убило его раньше, чем фамилию успели запомнить. Кто Шияхметовым называл, кто
Камамбетовым: "В общем, так как-то..." Все тот же Чабаров передал ему взвод,
а приняли его в этот раз так, словно полвойны вместе провоевали, пошло сразу
по взводу: "Наш лейтенант вернулся..." Даже тронуло, как встретили,
почувствовал: вернулся домой.
Так же всеми своими белыми зубами на смуглом лице улыбался Насруллаев.
Так же добровольно исполнял Кытин должность кухарки. Только Обухова, самого
молодого во взводе, было не узнать. И он за это время побывал в медсанбате,
но уложили его туда не пуля, не осколок: на одном из хуторов заразился
Обухов болезнью, которую оставили немцы. Будь сорок второй год, угодил бы он
за этот свой подвиг... Искупать кровью, брать какую-нибудь высотку, которую
и дивизия взять не смогла. Но, на его счастье, времена помягче. "Обухов у
нас награжденный,-- говорили про него во взводе,-- его и к медали
представлять не надо". А он отчего-то возмужал, даже бас у него прорезался.
Подойдя к костру, комбат вынул дымящийся сучок, прикуривал от него,
длинный в длинной шинели, с планшеткой на боку, а все уже чувствовали, что
он сейчас скажет. Наступление шло не первый день, тылы отстали: продукты,
горючее, снаряды-- все осталось позади. По всем дорогам в мокром снегу и
грязи буксовали завязшие машины, их вытаскивали, надрывая силы, и они еще
глубже садились в грязь. В их артиллерийском дивизионе из трех батарей
отстали две. Сначала шестая батарея обломалась. У нее забрали трактор, слили
горючее, забрали снаряды и двумя батареями двинулись вперед. Потом и
четвертая осталась позади-- без горючего и снарядов. Пришлось бы их, пятой,
тоже бросать одно орудие, если бы в прежней МТС не обнаружили ржавый трактор
ЧТЗ-60, такой же точно, как у них. Все годы простоял он при немцах среди
железного лома. Трактористы из двух собрали один целый, и он, словно тут и
был, потянул за собой пушку. Два орудия, два трактора, семнадцать снарядов--
вот весь их дивизион, поспевавший за фронтом.
По дороге, в косо летящем снегу тянулись пехотинцы, все свое снаряжение
и мины для минометчиков неся на себе. Их средство транспорта-- жилистые,
натруженные ноги в ботинках с обмотками, привыкшие месить грязь,-- было
самым надежным по этой погоде: человек не трактор, он и без горючего может
идти. Пехотинцы тянулись на расстоянии друг от друга, оглядывались на огонь.
Ветер толкал их в спины; там, куда они шли, ничего не было видно, даль как
туманом заволокло. Низко над головами пыталась осилить ветер взлетевшая
ворона, дергалась, дергалась толчками, будто вспрыгивала на ветер. Ее
кособоко отнесло в сторону.
Комбат прикурил, кинул дымящийся сучок в огонь под ведро. В черной
воде, тяжелой на вид, крутился в ведре последний нерастаявший комок снега.
-- Обедать собрались?-- Сощурился, послушал, как погромыхивает где-то
слева:-- Не придется обедать. Приказано занять огневые позиции. Командиры
взводов -- ко мне!
Кытин все еще смотрел в ведро. Потом с сердцем выплеснул воду в огонь.
Пар взвился от зашипевших черных углей. И как ошпарило комбата, покраснел,
подстриженные белые усики стали резко видны.
-- Р-разговорчики мне!
Но никто не разговаривал. Вымотавшиеся до последней степени, когда уже
и себя не жаль,-- суток двое без сна и почти без еды -- они были сейчас злы
на комбата, что не дал сварить обед, злы друг на друга, как надо бы злиться
на войну.
Третьяков натягивал сырой сапог, когда мимо про-спешил командир
огневого взвода Лаврентьев, самый старый из командиров по годам, тоже
присланный в батарею недавно. Огромного роста, затянутый по животу на
последнюю дырочку, он спешил к комбату с испуганным лицом, оскользался
ногами по мокрому снегу, отчего казалось, приседает на бегу. Полы его
шинели, как у пехотинца, были пристегнуты спереди к ремню. "Как баба",--
подумал Третьяков и встал. Он подошел к Город илину, сказал тихо, чтобы не
слышали бойцы:
-- Комбат, надо дать людям сварить обед. И закашлялся.
-- Вы что, больны?-- спpосил Гоpодилин. бpезгливо поморщась.
Проверенный способ заставить подчиненного замолчать: ткнуть пальцем в его
недостатки.
-- Я не болен, я здоров. Люди уж сколько времени без горячего.
Он стоял, подчеркнуто готовый выполнять приказания, но говорил твердо.
И видел, что не отменит Горо-дилин приказания. Чем неуверенней в себе
командир, тем непреклонней, это уж всегда так. И советов слушать не станет и
приказа своего не отменит ни за что, боится авторитет потерять.
-- Карту достаньте,-- сказал Городилин, как бы устав напоминать. Все
было ясно. Третьяков достал карту. И тут комбат не удержался:
-- Я, между прочим, тоже без горячего все это время, как вы могли бы
заметить. И ничего.
А если ты командир, так ты хоть вовсе не ешь, а бойцов накорми. Но
снизу вверх учить не положено, смолчал Третьяков.
Тем временем Городилин ставил задачу:
-- Вот-- мы. Вот-- противник. Предположительно! Пойдете в пехоту,
узнаете, какая стрелковая часть впереди, связь установите. Задача ясна?
-- Задача ясна.
-- Выполняйте. Четверых разведчиков возьмете с собой.
Третьяков козырнул. По дороге к взводам Лаврентьев догнал его, пошел
рядом. Он все же чувствовал себя неловко.
-- Конечно, можно было обед сварить, чего там,-- пристыженно за комбата
сказал он. Третьяков ничего не ответил, подумал про себя: "То-то ты и
молчал". Но не ему переучивать Лаврентьева. Этот всю войну провоевал в
противотанковой артиллерии, в гиблых сорокапятках, попал после ранения к ним
в тяжелый артполк и не нарадуется, чувствует себя здесь, как в глубоком
тылу. Он не станет возражать комбату.
Перебрели лощину. Сюда смело снег ветрами, подтаявший, он то пружинил
упруго под ногой, то вдруг обваливался, и вылезали из него, черпая
голенищами. Поле подымалось впереди, там хмурой стеной стояло небо, как
будто все в копоти, перед ним свежевыпавший снег на гребне светло белел.
Где-то слева глухо, отдаленно слышалась стрельба. Авиация не летала: при
такой видимости отсиживаются летчики на аэродромах, играют в домино со
скуки. У них, наверное, и аэродромы развезло: ни взлететь, ни сесть.
На гребне, в реденьких кустах легли оглядеться. Закурили. Сколько ни
вглядывался Третьяков воспаленными от простуды глазами, нигде поблизости
пехоты не было видно: ни окопов, ни землянок, никаких следов. Снежное поле,
теряющаяся в испарениях сырая даль.
Пока лезли по снегу, потные, кашель перестал. Теперь он опять драл
горло.
-- Снегу поешьте,-- посоветовал Обухов.
-- Скажешь тоже!
Третьяков глотал теплый дым, задерживал его в горле. Слышно было, как с
веток с шуршанием обваливается подтаявший снег, лицо ощущало рассеянный свет
и тепло невидимого солнца, бродившего высоко где-то.
-- Гляди! -- показал он Обухову. Над кустом, над мокрыми, тускло
блестевшими голыми ветками толклась в воздухе мошкара.
-- Ожили, тепло чуют,-- сказал Обухов.-- Снег вон уже весной пахнет.
-- Я сейчас запахов никаких не чувствую, заложило все.
Они говорили приглушенными голосами, все время прислушиваясь. Обухов
раскопал под снегом у корня прошлогоднюю, замерзшую зеленой траву, пучком,
как лук, сунул в рот, жевал, зажмуриваясь: зелени захотелось. А Третьяков
всем своим воспаленным горлом почувствовал ледяной холод. Колени его, оттого
что он становился ими на снег, были мокры, его знобило все сильней,
потягивало тело и ноги.
-- На немцев не напхнемся, товарищ лейтенант?-- спросил Обухов
строго.-- Похоже, что пехоты нет впереди.
-- Похоже.-- Третьяков встал первым. Они отошли шагов тридцать, и
затемнело что-то. Скинув ремень с плеча, Третьяков взял автомат на руку,
махнул Обухову идти отдельно. Он правильно сделал, что не четверых
разведчиков взял с собой, а одного. Позади небо было светлей поля, в темных
своих шинелях они четко виднелись на снегу; подпустят немцы близко и положат
всех четверых.
Из колышущейся, редеющей пелены проступал прошлогодний темный стог
сена, подтаявшая снеговая шапка на нем. Если тут у немцев под стогом
пулемет... Но никаких следов не было вокруг. Подошли.
-- У нас тут случай без вас был в дивизионе, товарищ лейтенант.-- И
Обухов охотно присаживался спиной под стог.
-- Хватит спину греть, пошли!
-- Как раз только увезли вас...
-- После войны расскажешь!
И опять они шли по полю, смутно различая друг друга. Их обстреляли,
когда из сырой мглы уже проступили голые, мокрые тополя хутора. Оттуда
засверкало, понеслись к ним трассы пуль; немцы и днем били трассирующими.
Они уже лежали на снегу, а пулемет все не успокаивался, стучал над ними.
Расползлись подальше друг от друга. Третьяков для верности, чтобы вызвать
огонь еще раз, дал несколько очередей. И засверкало с двух сторон. Потом
ударил миномет. Переждали. Вскочив, наперегонки бежали к стогу. Вслед
пулеметчик слал яркие в тумане, сверкающие веера.
-- Я говорил, пехоты нет впереди!-- повеселев от близкой опасности,
хвастался Обухов.
Третьяков набивал патронами плоский магазин немецкого автомата:
-- Дураки немцы, могли нас подпустить. У него в груди отлегло и вся
простуда куда-то девалась.
-- Вот погодите, жиманут немцы Оттуда,-- пообещал Обухов, будто
радуясь.
-- Если есть чем.
-- У него есть!
Обратно шли веселей. И путь показался короче. На огневых позициях
ковырялись в грязи, рыли орудийные окопы. Комбат Городилин выслушал
недоверчиво, снова и снова переспрашивал: "А наша, наша пехота где?" И опять
заставлял рассказывать, как они шли, откуда их обстреляли: все никак не мог
принять, что их батарея, тяжелые их пушки, стоят здесь без всякого
прикрытия, почти без снарядов, а впереди -- немцы.
-- Давайте, комбат, мы левей пойдем, узнаем, кто там?-- предложил
Третьяков. Но тот отчего-то разозлился:
-- Вы чем советы подавать... Советчики!
Сырой день рано стал меркнуть. Там же, на гребне, где они с Обуховым
курили в кустарнике, заняли в сумерках наблюдательный пункт, дотянули сюда
связь. Разведчики, греясь, по очереди долбили землю лопатой, по очереди вели
наблюдение. Темнело. Туман сгустился, закрыл поле, и вскоре не видно стало
ничего.
Земля, промерзшая в глубине, плохо поддавалась лопате. Насыпали
небольшой бруствер впереди, наломали веток, натаскали сена. Сидели,
вслушивались. Третьяков чувствовал, как жар подымается в нем. Сильно зябла
спина, временами он не мог унять дрожь.
Было совсем темно, когда услышали шаги, тяжелое дыхание нескольких
человек: кто-то шел к ним со стороны огневых позиций. Ждали молча. Тяжелое
дыхание приближалось. Мутно посветлело у немцев: там, не взойдя, гасла
ракета, задушенная туманом. При этом брезжущем свете разглядели четверых.
Шли по связи. На полголовы выше других-- Городилин, кто-то малорослый рядом
с ним. Когда подошли ближе, узнали в нем командира дивизиона. Двое
разведчиков сопровождали их.
Оказалось, подошла четвертая батарея, становится на огневые позиции.
Комдив расспросил, что тут слышно. Расспрашивал и вглядывался в лица.
Подумал.
-- Ну что ж, комбат,-- сказал он Городилину.-- До утра останемся тут мы
с тобой.
И, отправляя Третьякова на огневые позиции, чтобы там, в хуторе, он
отлежался в тепле, сказал:
-- А утром сменишь нас. Вот так будет правильно. И сам себе кивнул.
Долгой была эта ночь. Он выпил за ночь полуведерный чугун воды, а жар
не спадал, спекшиеся губы растрескались до крови. Казалось ему, что он не
спит совсем, бред и явь мешались в сознании. Откроет глаза: при красном
свете углей сидит у костра Лаврентьев, пишет что-то, подложив полевую сумку
на колени, шевелит губами. И опять-- красный сумрак между стропилами, кто-то
другой у костра, черная тень колышется позади, заслонила полсарая: снится
это ему или он видит? И все не кончалась ночь.
Несколько раз выходил наружу. Туман, в котором трудно было дышать,
клубился от самой двери; из темноты сарая казалось, ступает он не через
порог, а в белое облако; нога неуверенно щупала перед собой землю.
Утром проснулся мокрый от пота и слабый. Но чувствовал: здоров. Все как
просветлело перед глазами, пустой сарай стал выше, больше. У стены умывался
голый по пояс Лаврентьев, вздрагивал кожей. Пар шел от его мощного тела, от
волосатых лопаток, он покряхтывал, с удовольствием плюхал себе под мышки, с
груди и живота текло.
Третьяков сел на земляном полу. Лицо обтянуло за ночь, глаза ввалились,
он чувствовал это. Подумал, глядя на кучку золы и пепла от костра: там жар
остался, чаю бы согреть. И увидел, как сняло воздухом, повлекло легкий
пепел. В двери сарая, распахнутой рывком, стоял боец. Он еще сказать не
успел, а Третьяков уже на ощупь искал шапку в соломе.
-- Танки!
В дверях замелькали на свету бойцы. Пробегая, Третьяков видел, как
Лаврентьев натягивает на мокрое тело гимнастерку: влез в нее до половины, а
дальше плечи не проходят, машет руками вслепую.
Снаружи оглушил железный стрекот. Бежавший впереди боец поскользнулся
на мокром снегу, испуганно вставал. И вдруг метнулся в сторону, пригибаясь к
земле.
-- Куда? -- крикнул Третьяков, как кнутом стегнул. -- Назад!
Ниже пригнувшись под криком, боец кинулся к орудийным окопам. Там уже
топтались расчеты, разворачивали тяжелые орудия, множество напрягшихся ног
месило сапогами мокрый снег с грязью.
-- Вон! Вон они!-- Из-за щита указывал рукавицей Паравян и обернул
красивое лицо, бледное до желтизны.
Туман невысоко поднялся над землей, в непрозрачном от испарений воздухе
было видно метров на сто пятьдесят от орудий. И там, как тени, мокрые
деревья означили дорогу: с холма в низину и снова на холм. За этой чертой
все сливалось: и серый осевший за ночь снег, из которого вытаивала земля, и
пасмурная, как перед вечером, даль. Третьяков глянул туда, сердце в нем
сорвалось, мгновенно ослабли ноги. Возникая за деревьями, двигались по
дороге бронетранспортеры; тупые, тяжелые туши их были как сгустки тумана. И
сразу, только он увидал их, слышней, ближе стал рев моторов.
-- Один, два, три...-- считал Паравян.
Бронетранспортеры выходили во фланг, а с фронта, куда тянулся провод к
наблюдательному пункту, было все так же тихо.
-- К бою!-- закричал Третьяков, обрывая в себе минуту растерянности, и
вспрыгнул на бруствер. И от второго орудия эхом отдалось: "...бою!" Там
стоял Лаврентьев, рукой попадал в рукав шинели.
Бронетранспортеры все возникали на холме, шли в тумане, смутно
перемещаясь за деревьями.
"Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать",-- считал про себя Паравян.
Звонко била кувалда по металлу: это Насруллаев в одной гимнастерке забивал
сошники в мерзлую землю. Он косо взмахивал из-за плеча, ударял и вскрикивал.
Расчет ждал за щитом, оглядывались на него. Ствол орудия, нацеленный на
дорогу, медленно перемещался.
-- Упреждение-- один корпус!-- сверху сказал наводчику Третьяков, а сам
вглядывался, встряхивал головой. Что-то мешало ему, хлопало по щекам. Только
тут заметил: как спал в шапке с опущенными наушниками, так и стоит в ней. От
нетерпения, чтоб руки занять, снял с головы ушанку, прижав к груди,
заворачивал наушники. Стоя с непокрытой головой, смотрел на дорогу, дышал
тяжело. Пальцы дрожали, никак не могли завязать тесемки. Он уже видел, знал,
каким коротким будет этот бой. Девять снарядов у их орудия, восемь-- у
второго. А бронетранспортеры все возникали из-за холма. Звон кувалды
отсчитывал время. В тот момент, как Насруллаев отбросил кувалду, он махнул
шапкой:
-- Огонь!
Полыхнуло, дрогнула земля под ногами. Огонь взлетел за дорогой, там,
падая, качнулось в тумане дерево. Еще несколько раз взлетал огонь: то на
поле, то за дорогой. Наводчик торопился, нервничал. "Сейчас погоню его!"
Сыпануло по щиту, с шипением зачмокали в грязи раскаленные пули. Отовсюду
над полем понеслись к орудию огненные трассы пуль. Развернувшись от дороги,
бронетранспортеры шли на батарею. Они вылезали из тумана, редел клоками
перед ними туман, и от каждого сверкало, сверкало огнем, низко рубили по
полю огненные трассы. Видно было, как из бронетранспортеров выпрыгивают
автоматчики, бегут позади толпой и от них тоже неслись трассирующие нити.
-- Чабаров!-- закричал Третьяков, спрыгнув в окоп. Он увидал
мелькнувшее по другую сторону орудия побитое оспой нахмуренное лицо
Чабарова.-- Пехоту отсекай огнем!
А сам дышал над ухом наводчика:
-- Не торопись. Целься. Не торопись.
И в уме свой счет шел: пять снарядов осталось. Пять выстрелов. Бахнуло
второе орудие. Где-то позади грохотала четвертая батарея. Значит, там тоже
прорвались немцы.
Завыло низко. Мина! У наводчика дрогнула спина. Не отрывая глаза от
панорамы, продолжая целиться, он весь поджимался спиной, чувствовал эту
летящую мину. По мокрой щеке его тек пот, мутные капли дрожали на
подбородке.
Мина еще выла над ними, когда орудие выстрелило. Из-за щита Третьяков
видел: вырвавшийся вперед бронетранспортер, прыгающие через борта
автоматчики-- один, в каске, с поднятым над собой автоматом, подогнутыми
ногами в прыжке, уже в воздухе был -- все это взорвалось белым огнем,
огненные брызги летели далеко во все стороны-- в лоб влепило.
И тут же одна за другой разорвалось несколько мин. Когда Третьяков
поднялся, весь в жидкой грязи, кто-то шевелился слепо между станинами,
стонал. Живые подымались один за другим. А от второго орудия уже хлынул
расчет. С расставленными станинами, нацеленное на поле, оно стояло в окопе,
а они бежали, и крупней, выше других-- Лаврентьев в распахнутой шинели.
Плеснулся плоский разрыв, разметав бегущих. Хватал себя за спину руками,
перегибался на бегу, падал Лаврентьев.
И опять чей-то крик:
-- Танки!
Они выходили от деревни, от Кравцов-- в тыл батарее. Рухнул сарай, в
котором ночевали, двинулся вперед, разваливаясь. Под ним ворочался танк,
поворачивая башню с пушкой, бревна катились с него, сползала набок
соломенная крыша. Брошенное в окопе орудие подпрыгнуло, словно выстрелило
само и осело в дым разрыва.
Пригибаясь под пулями, Третьяков увидел это, увидел опять
бронетранспортеры, идущие по всему полю, полы-шущие огнем, страх на лицах
заметавшихся людей. Замок снять с/орудия... И не успел крикнуть: разрыв мины
кинул всех на землю. Лежа, вжимаясь в грязь, ловил на слух звук мины,
летящей в окоп. И страшная мысль давила: положили, а сами ворвутся сейчас.
Близкий вой мины. Рычание моторов. Третьяков приподнялся на руках.
-- К оврагу бегите! К посадке! Там снег... Упал раньше разрыва.
Грохнуло. Оторвал голову от земли:
-- К посадке! Там снег глубокий! Туда всем!.. Рвануло на бруствере.
Лежал, зажмурясь. Провизжало над головой. Вскочил.
-- Паравян! Замок снимай! Быстро!
Паравян стоял в окопе, рукой держался за орудие, лицо синело. А в
боку... Увидел и глазам не поверил: в боку его, свежекрасное, сочащееся,
раздувалось, дышало оголенное легкое. Оно дышало, а Паравян задыхался без
воздуха, хватал его мертвеющим оскаленным ртом.
Чьи-то трясущиеся руки мешали снять замок. Насрул-лаев. Детски
ласковые, бесстрашные глаза преданно глянули на него.
-- Беги, Эльдар!
Прижав тяжелый замок к животу, Насруллаев выглянул, побежал.
Паравян сидел на земле. Лицо облито слезами и потом, тусклый блеск
меркнущего зрачка. Стоя на коленях, весь напряженный, Третьяков сыпал в
карман шинели автоматные патроны. Наверху стукали выстрелы. Накинул на шею
ремень автомата. Пригибаясь, выскочил из окопа. По всему полю бежали люди.
Озирались на бегу, падали, вскакивали, бежали. Бронетранспортер сбоку
налетел на Насруллаева. Тот бросил замок, помчался, выгибаясь. Трассирующая
очередь срубила его. Распластанный, он еще пытался встать. Третьяков не
видел, как его накрыло гусеницей, но крик его нечеловеческий полоснул по
сердцу.
Он бежал под пулями, задыхался, чувствовал, как слабеют, отнимаются
ноги. Воздуху не хватало. В глазах темнело, плыло, и манил, тянул к себе
свежий клин снега. Под конец уже не бежал, шел на подгибающихся ногах,
всасывал в себя воздух обожженными легкими. Упал лицом в снег. Рев мотора с
неба мчался на него.
В великом весеннем наступлении 1944 года, развернувшемся на юге
Украины, немецкий контрудар в районе Апостолово ничего уже не мог изменить--
ни хода войны, ни хода истории. Он только временно замедлил наступление на
этом участке и ничего не значил в масштабе происходивших событий. Но у
людей, которые отражали этот нацеленный на них удар, была у каждого одна,
единожды дарованная ему жизнь.
Необычайно ранняя весна за месяц до срока превратила зимние дороги в
черноземные топи, тяжелая техника тонула в них, увязали машины со снарядами,
тылы растянулись на полтысячи километров, и горючее, которое везли к фронту,
сжигалось на дорогах. Но подтянули артиллерию, подошел танковый корпус,
погнал прорвавшуюся группировку, и те же самые немецкие танки и
бронетранспортеры, которые прошли через огневые позиции артиллеристов,
расстреливая и давя живых, теперь, подбитые, сожженные и целые, увязшие в
грязи, брошенные, стояли по полям.
На третий день хоронили погибших батарейцев. Снег стаял совсем, только
в низине и у посадки, куда зимой намело его ветрами, сохранились
грязно-серые клочья. Блестели на солнце лужи, и среди них по всему полю
лежали убитые. В шинелях, впитавших в себя воду, в мокрых ватниках,
окоченелые, лежали они там, где настигла их смерть. Пахотное поле у хутора
Кравцы, на котором из года в год сеяли и убирали пшеницу и куда каждую осень
выгоняли на стерню гусей, стало для них последним в жизни полем боя. И
живые, ос-кользаясь по жирному чернозему, с трудом вытягивая из него сапоги,
ходили, разыскивая и узнавая убитых.
Недалеко от посадки, метрах в двухстах пятидесяти от того места, где
сам он упал в снег и где последняя пулеметная очередь прошла над ним,
разыскал Третьяков Насруллаева. Тот лежал в облепленных пудами чернозема
сапогах, раздавленные ноги были неестественно вывернуты. Лежал он навзничь,
ватник над оголенным желтым животом сбился к подбородку, кисть руки, которой
он в последнем усилии заслонил глаза, закостенела над ним на весу и
отражалась неподвижно в спокойной снеговой воде лужи, по которой скользило
белопенное облако. Как он кричал тогда! Темная раковина мученически
оскаленного рта, казалось, и сейчас хранит немые отзвуки того крика.
А впервые Третьяков увидел его, когда принимал взвод, и запомнил с того
раза. Бойцы, голые по пояс, рыли щели за хатой, и среди облитых потом,
лоснившихся на солнце тел заметно выделялся Насруллаев, могучий, как борец,
грудь по самое горло заросла черным волосом. Попалась еще в списке фамилия
Джедже-лашвили, и Третьяков почему-то подумал, что это он и есть.
В орудийном окопе, между раздвинутых станин, спиной опершись о станину,
сидел Паравян, голову без шапки уронил на грудь. Со стриженого затылка к уху
-- засохшая полоса крови. Значит, был еще жив, кто-то из немцев, зайдя
сбоку, дострелил его.
Девятнадцать человек подобрали на поле и похоронили у Кравцов.
Лаврентьева среди них не было. Многие видели, как падал он, запрокинувшись,
хватая себя руками за спину. Может быть, жив был и немцы угнали его в плен.
Дострелили где-нибудь по дороге, когда на них нажали. Всю войну пробыл он в
противотанковой артиллерии, радовался, что после госпиталя попал в тяжелый
артполк, старался очень, все ему тут было хорошо. Говорил: "Тут у вас
воевать можно!"
Яркий, весенний день. Мокрый блеск солнца. А у Третьякова что-то
опустилось на глаза, притемняет сверху и день и небо-- тень легла на все.
На хуторе во дворах набито войск. Всюду машины, кони, пушки, снуют
бойцы из двора во двор, костры горят на земле, дымят кухни. Какая-то часть
подошла ночью. Пахнет дымом костров, конским навозом, бензином.
Из ближнего двора Третьякова окликают:
-- Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
Весь его взвод сидит у пригретой солнцем белой стены хаты. Перевернутая
бричка без колес, как стол, вокруг нее разместились кто на чем. Ему
освободили место. Рыжеватый, с морковным румянцем во всю щеку боец сбегал к
кухне, в угол двора, где гуще народа, толкотня и крик, принес котелок супа.
Он без шинели, широк в плечах, узкобедрый, сильно затянут ремнем. Беря
котелок, Третьяков пристально глянул ему в лицо. Под белыми ресницами --
рыжие веселые глаза. Джедже-лашвили. А все еще видел Насруллаева, давило ему
на лоб, незримый козырек нависал над глазами, застил свет солнца. Нет, он не
контужен, но какой-то оглушенный он, никак в себя не придет: видит все,
слышит, а понимает с опозданием.
Только отхлебнув, он посмотрел, что ест. В котелке-- суп-пюре
гороховый, густой и желтый. И с этой ложкой, закрыв глаза, он мысленно
помянул тех, кого уж нет с ними сегодня. Они все еще были здесь, вот так же
могли толкаться сейчас у кухни, сидеть на солнце.
Глиняная, побеленная стена хаты была побита осколками. На ней жужжали,
ползали облепившие ее мухи.
Изумрудно-зеленые, синие, вялые после зимы, они оживали на весеннем
солнце. Зачем погибли люди? Зачем гибнут еще? Ведь кончена война, кончена. И
уже не изменить это: победили мы. Но вот оттягивают час своей гибели те, кто
ее начал, и еще вышлют они к фронту не одну дивизию, и пехотную и танковую,
и люди убивают друг друга, и погибают, и скольким еще погибнуть суждено.
-- "Рама"! -- кричат во дворе. И по всему хутору из двора во двор
перекидывается крик:
-- "Рама"!
Двухфюзеляжный немецкий разведчик "фокке-вульф" кружит высоко в небе,
гудит. Солнце слепящее, кучно вспыхивают в синеве белые зенитные разрывы,
сопровождая самолет, а его самого не видно, только иногда взблеснет коротко
на солнце что-то алюминиевым блеском. И все, подняв лица, смотрят с земли.
Сколько за войну видел Третьяков сбитых самолетов, но ни разу не видал,
чтобы сбили "раму". Белые хлопья зениток все вспыхивают и вспыхивают,
отставая от них, отдельно и глухо слышны за толщей воздуха в вышине частые
разрывы.
Вспрыгнув на бричку, Кытин палит вверх из карабина.
-- Слезь! -- говорит ему Чабаров.-- Что ты ее, собьешь?
И Третьяков, которому надоело хлопанье над ухом, говорит:
-- Слезь!
Расстреляв обойму, Кытин смеется довольный:
-- Подыхать полетел.
Джеджелашвили собирает котелки, идет мыть их в луже: сегодня он "за
кухарку". Все закуривают махорку. Солнце размаривает у стены. Живым-- живое.
Чабаров рассказывает, как у них в Татарии вялят гусей весной:
-- Вот самое такое солнце у нас в марте. Снег еще, солнце яркое, пыли
нет, мух нет. Гуси жирные ходят по двору. Вяленого гуся поешь, никакой
другой закуски не захочешь.
-- Ну!-- торопит Обухов.
-- Чего ну?-- Чабаров не любит, чтоб его перебивали.
-- Вялите их как?
-- Совсем просто...
В конце улицы показался из переулка "виллис" командира полка. И уже
кричит кто-то:
-- Первый дивизион!..
-- Эх, сержант,-- говорит Кытин,-- только мы твоих гусей
распробовались...
В соседнем дворе взрокотал мотор трактора, пронзительно заржала лошадь.
Влажные, теплые ветры с моря гнали весну на север, обнажая от снега
обширные равнины, а на юге подсыхали дороги, и по всему правобережью Украины
шло наступление наших войск. Уже и Кривой Рог и Никополь остались позади,
уже форсировали Ингулец, смело устремившись в прорыв, шли освобождать
Одессу.
"...У нас вся жизнь от сводки до сводки,-- писала мать.-- Вот не было
от тебя писем, и прямо камень на сердце. Днем как-то услыхала твой голос,
ясно услышала, как ты позвал меня. И ходила сама не своя. Потом Ляля
прибегает с улицы, почтальона встретила. Мы с ней обревелись от радости,
читаем обе и ничего сначала не поймем. Ты, конечно, обманываешь меня, чтобы
я не волновалась, а бои у вас были, наверное, страшные, если даже по радио
про это Апостолово упоминали..."
И Саша писала: "...Я все уговариваю маму не сажать огород этой весной,
а она боится. И Фая говорит: "Накопаете картошки осенью, с ней и поезжайте,
а без нее вы-- чо?" А я уже не могу, домой хочется. Самое страшное пережито,
теперь как-нибудь. Да! Совсем забыла написать: у Фаи-- девочка. Такая
веселенькая, такая разумная, меня уже узнает. И совершенно ни на кого из них
не похожа".
Теплый ветер трепал в пальцах два тетрадных листка: из Лялькиной и
Сашиной тетрадей. Невысоко поднявшееся над степью солнце пекло спину сквозь
шинель, зимняя шапка на затылке парила голову. Потряхивало на тракторе,
укачивало в сон. Отяжелелые веки сами закрывались.
Позади, повернув лицо к солнцу, командир орудия Алавидзе пел
по-грузински что-то красивое, похожее на молитву-- должно быть, встречал
всходившее солнце. Оборачиваясь, Третьяков видел: Алавидзе сидит на орудии,
а внизу, рядом с ним, идут по дороге Джед-желашвили и замковый Кочерава,
густо заросший черным волосом по самые брови. Оба ждут страстно, пока
Алавидзе выводит мелодию, смотрят снизу на него. Кочерава взмахивает шапкой,
и в два тонких женских голоса они подхватывают песню, идут нахмуренные,
решительные, как на бой. И уже кто-то бежит к ним от другого орудия.
Фомичев, управляясь с рычагами трактора, крутит головой:
-- Должно, на погоду. У их так: один запел, все-- как по команде. Вон
еще двое бегут, опоздать боятся.
Ему завидно немного, он усмехается, чтоб себя не уронить.
Солнце нежарко пригревает, воздух колеблется над степью, беззвучно
встают дымы разрывов. Когда сидишь на тракторе рядом с мотором, странная,
беззвучная война вокруг. Временами рокот мотора выпадает из слуха;
вздрогнув, Третьяков просыпается. Складывает письма по сгибам в два
треугольничка. Где-то его письма разминулись с ними в дороге, долго они
будут идти по почте полевой; наверное, Одессу раньше возьмут.
Брошенное немецкое орудие стоит у самой дороги. Почему-то немецкие
пушки всегда выглядят массивней, тяжелей наших. Камуфлированное,
желто-пятнистое, оно увязло, а вытянуть уже не успели. И танк немецкий
стоит, башня с орудием далеко отброшена. Вот так в сорок первом году поле
боя оставалось за ними, и все, что подбито, цело или вновь будет
восстановлено, все оставалось у них. Теперь поле боя-- за нами. И те
бронетранспортеры, что давили батарею у Кравцов, наверное, недалеко ушли.
Третьяков прячет письма в нагрудный карман гимнастерки, достает оттуда
зеркальце в кожаном футляре. Зеркальце хорошее, двустороннее, небьющееся:
полированная сталь. Вчера на закате солнца его разведчики вместе с пехотой
ворвались в рощицу. Какая-то немецкая тыловая часть стояла там. Бежали, все
побросав: горючее осталось в бочках, врытых в землю, ящики консервов; в
повозке, в сене, нашли бочонок вина и там же-- брошенный офицерский мундир с
железным крестом и вот этим зеркальцем в кармане. Наверное, бежал -- об
одном Бога молил: живым остаться. А теперь, если жив, креста жаль, новый,
наверное, не выдадут. Железным крестом Обухов забавляется, говорит: вернусь
с войны, повешу собаке на ошейник-- пусть гавкает.
Сняв шапку, положив на колени, Третьяков разглядывает себя в стальном
зеркальце, обрывками сонных мыслей думает о Саше, о матери, о Ляльке, о том,
что впереди Одесса, Черное море. Ни разу в жизни он еще там не бывал.
Возьмут Одессу-- и спать! Суток двое. А что, правда, объявили бы так и нам и
немцам: спать! Повалились бы все и спали беспробудно. Только на войне так не
бывает. На войне-- кто первый не выдержит. Страшно подумать, сколько всего
было за эти годы. И это еще он в сорок первом году не воевал. Из тех, кто
воевал тогда, мало сегодня осталось. Вот их, погибших в сорок первом, когда
все рушилось, особенно жаль. Ведь они даже издали не увидели победы.
Мама и Лялька заранее поздравляют его в письме с днем рождения:
двадцать восьмого апреля ему двадцать лет. Когда-то казалось: двадцать пять
лет-- это уже старый человек. А что было в этот день год назад? Был он тогда
в училище, стоял на посту, охранял арт-парк. На посту, если не в мороз,
лучше всего стоять ночью. Стоишь себе один, звезды над тобой светят, а ты
думаешь о чем хочешь. Только ночью у курсанта мысль свободна, так ночью он
как раз" спит. А днем и минуты нет подумать о себе.
Трактор идет тряско, все скачет в зеркальце: то лоб мелькнет,
поделенный загаром пополам, свалявшиеся под шапкой волосы, то -- подбородок.
Над дорогой, над головами, беззвучно уходят в зенит три звена наших
истребителей. С высоты им видно все, что делается на земле. Виден, наверное,
их тяжелый дивизион, растянувшийся на марше. Вместе с мотопехотой, с легкой
артиллерией он кинут в прорыв поддерживать танки. Видно, наверное, как
впереди танки ведут бой.
Этой ночью они въехали на станцию, а там под парами стоял немецкий
эшелон. Оказалось, он прибыл с ранеными уже после того, как наши танки с
ходу проскочили станцию. Немцы разбежались по хатам, попрятались, жителей не
выпускают. После пехота переловила их на огородах, по погребам, кого-то и
постреляли в ночной суматохе. А многие до сих пор бегают, где-то скрываются,
ночами будут пробиваться к своим.
Под тарахтение трактора от равномерного потряхи-вания Третьяков
задремывает и тут же, как показалось ему, просыпается. Но местность уже
другая, вся накрененная под скат, и близкий горизонт теснит глаз.
Что-то происходит впереди на дороге. Там на коне, высоко над всеми,--
командир дивизиона. Он маленького роста, потому всегда старается взобраться
на что-нибудь повыше. Конь крутится под ним, переплясыва-ет, офицеры стоят
вокруг, комдив над их головами указывает рукой. И уже шестая батарея,
которая шла впереди, сворачивает в сторону, трактора поволокли орудия по
полю.
Спрыгнув, Третьяков бежит туда, а оттуда бежит ему навстречу Городилин,
кричит издали:
-- Алавидзе где?
Он это последнее "дзе" произносит так, что получается у него
"Алавидзя".
-- Здесь Алавидзе!
-- Давай с ним вместе орудия вон в ту балку. Развернешь на дорогу.
Сектор обстрела...
Подвывавший над ними снаряд разорвался на поле. И сразу слышно
недалекую строчку пулеметов. Может, они и все время строчили, только за
рокотом мотора слышно не было?
-- Что случилось, комбат?
-- Приказано занять оборону. Правей где-то немцы прорываются к своим.
-- А наши танки?
-- Танки-- впереди. В общем, так: батарею я сам поставлю. Кустарник
видишь? Давай машины со снарядами туда. Укрытие найди. Быстро!
Третьяков бежит к машинам, на бегу созывая взвод:
-- Чабаров! "Форда"-восьмерку -- вон в тот кустарник!
А сам впрыгнул на подножку ЗИСа. По другую сторону впрыгивают на ходу
Обухов и Кытин с автоматами.
ЗИС старый, кабина деревянная, полвойны прошел. Удерживаясь рукой за
дверцу, вместе с подножкой подпрыгивая над пахотой, Третьяков указывает
дорогу шоферу, а сам из-за кабины оглядывает местность, хочет понять, что
происходит. Видно, как расползаются по полю батареи. Еще несколько разрывов
встают на поле. Тяжелыми бьет. Кто-то на коне прожег по дороге, только пыль
схватывается следом. И все уже иное стало, как перед боем, и солнце строже
светит.
Наклонясь к шоферу, Третьяков показывает ему, с какой стороны заезжать.
Он высмотрел крутой склон, надо стать на него, самое хорошее укрытие. Шофер
кивает, а он, спрыгнув с подножки, бежит назад: там забуксовал трофейный
"форд".
Он и ста метров не отбежал, когда одна за другой полосонули автоматные
очереди. Машина стояла, Обухов на подножке ее держал перед собой автомат,
Кытин с наставленным автоматом в руках пятился от машины, боком, боком,
подвигался к кустам, как будто что-то обходя. Третьяков уже бежал к ним,
выхватывая пистолет на бегу, слышал, как Обухов, сам бледный, палец держа на
спуске, кричит чужим голосом:
-- Хенде хох!
И поторапливает издали стволом автомата:
-- Шнель, шнель!
Увидел, что лейтенант бежит к ним, крикнул радостно:
-- Мы на них чуть колесом не наехали!.. Лежат... Чуть не подавили всех!
Из кустов подымались головы немцев, нерешительно тянули руки над собой.
Набежав, махая на них пистолетом, Третьяков отогнал немцев на поле, Обухов,
Кытин и вылезший с карабином шофер, сам перетрусивший не меньше немцев,
нацеленными дулами сопровождали их. Прибежали разведчики от другой машины,
рыскали по кустам. Еще откуда-то бежал народ.
-- Где их взяли?
-- Гляди, гляди! У-у, зверюга! У-у, глядит как!..
-- Тут и лежали?
-- Колесом чуть не наехали.
-- Тут вот в кустах?
-- А я слышу-- стрельба...
Четырнадцать боящихся расправы немцев стояли на поле, жались в кучу, по
лицам пытались понять, что их ждет, испуганно опускали глаза под взглядами.
Все лица, стирая на них человеческое выражение, комкал страх. Озирались.
Затаенно вслушивались в недалекую стрельбу. На нескольких белели бинты.
Еще двоих поднял в кустах Чабаров и гнал пинками, бегом. С поднятым в
руке автоматом бежал за ними, успевая пинать с обеих ног. Бойцы -- кто с
хохотом, кто зло посверкивая глазами-- ждали. Немцы беспокойно пожимались.
Добежав, двое ткнулись в толпу, толпа дрогнула. И сейчас же офицер, стоявший
ближе других к Третьякову, улыбкой выпрашивая позволение, опустил
единственную поднятую вверх руку-- другая, толсто обмотанная бинтами, на
перевязи висела перед ним,-- суетливо доставал что-то из полевой сумки,
достал, протягивал издали Третьякову, лопоча по-своему. С лица его, как
умытого, падали мутные капли. Немец держал в руках целлулоидный круг и
артиллерийскую координатную мерку, не такие, как у нас, непохожие, совал их,
поощряя взглядом, кивал, кивал. Третьяков инстинктивно отстранялся. И
неожиданно для самого себя громко сказал немцам:
-- Нихт шисен!-- И жестами показывал, что их не расстреляют,--
Арбайтен! Нах Сибирь!
Пленные зашептались, засквозили на лицах бледные улыбки. Недалеко
разорвался прилетевший из-за гребня немецкий снаряд, и чей-то потаенный
злорадный взгляд из толпы поймал на себе Третьяков.
Расталкивая пленных, Чабаров отбирал у них оружие, в общую кучу кидал
на землю полевые сумки, ранцы.
-- Чего с ними делать со всеми?-- спросил он.
-- Что делать? -- И, разозлясь на себя за внезапную жалость, Третьяков
крикнул, чтоб все слышали: -- Сколько в них будет во всех лошадиных сил? А
ну, гони, пускай "форд" вытолкнут.
Под хохот бойцов Обухов погнал пленных к застрявшей в пахоте машине:
-- Арбайтен! Арбайтен!
Не сразу поняв, что от них требуют, немцы облепляют машину, не столько
выталкивают, как жмутся к ней.
Бойцы кричат:
-- А ну, рраз-два! Рраз-два!
-- Раскачивай! Раскачивай!
Просвистело над головами, несколько разрывов взлетает недалеко. В
кузове-- снаряды. Если в них попадет и они рванут, от немцев, облепивших
машину, от бойцов, помогающих криками, останется одна общая воронка. Немцы
налегают осмысленно, кто-то свой командует им, и грузовик, завывая мотором,
дрожа от усилий, несколько раз почти выезжает наверх и опять скатывается в
яму, вырытую колесами. Налегают снова, открыв дверцу, шофер что-то кричит,
опять машина, вся сотрясаясь, ползет наверх. В последний момент, не
выдержав, набегают бойцы, вместе толкают плечами, руками, сапоги упираются в
отъезжающую из-под ног землю. Задрожав в последнем усилии, грузовик
выкатывается, отрывается, и все вместе по инерции бегут за ним несколько
шагов и останавливаются. Общие от общей работы улыбки сходят с лиц.
-- А ну, давай их... Кытин, Обухов!-- хмурясь, оттого что слышит
летящий снаряд, приказывает Третьяков.-- В тыл их... Давайте... Быстро!--
продолжает говорить он и слышит, что снаряд летит сюда, и немцы тоже слышат
это и все слышат.
Кузов фузовика, тяжело переваливаясь, удаляется, будто оседает в
кустах. Два взрыва один за другим встают на поле, заслонив его. "Мимо!"--
успел подумать Третьяков. И тут сильным ударом, так, что он еле устоял на
ногах, швырнуло в сторону левую его руку. Закричали пленные, расступились.
На земле корчился немец. Третьяков попробовал поднять руку, она странно
переламывалась, свисала в рассеченном рукаве. И вот когда началась боль,
замутило до дурноты. Зажмуриваясь, как от горячего, стиснул зубы, пытаясь
болью задавить боль. Увидел мгновенно, как в занесенной руке Чабарова
блеснул приклад автомата, высокий немец шатнулся от него, пальцами закрыл
разбитое лицо.
-- Не бей!-- крикнул Третьяков и не осилил себя, застонал.
Часа через полтора врач полка, совместив перебитые кости, прибинтовал
ему шину к руке.
-- Выше подтяни ему,-- говорил он сестре, которая вешала руку на
косынке.-- Еще вот так. И полюбовался на свою работу.
-- Отрежут мне руку?-- спросил Третьяков, не сумев скрыть испуга.
Врач улыбнулся, привычно бодрым тоном сказал:
-- Вы еще этой рукой повоюете. Еще будете немцев бить этой рукой. Если,
конечно, война не кончится раньше.
-- Спасибо, доктор!-- поблагодарил Третьяков.-- Третий раз и все в эту
руку.
-- Третий-- значит, последний. В жизни все до трех раз.
Раненых было не много, все они, кто мог ходить и ползать, сползлись на
солнечную сторону дома, ждали отправки, и врач тоже вышел на улицу постоять.
-- А что, много там немцев?-- спросил он, прислушиваясь к недалекому
погромыхиванию орудий.-- Большими силами прорываются?
Теперь Третьяков уловил в его голосе некоторую тревогу.
-- Да нет, непохоже. Но вы на ночь все же выставляйте посты.
-- Из кого?
-- Да хоть из легкораненых, которые при санчасти.
-- Раненые должны выздоравливать,-- сказал врач, и на лице его с
поднятыми бровями появилось философское выражение.
-- Захотят жить, постоят.
Третьяков неловко пошевелил плечом, боль прожгла насквозь. Хмурясь, он
наблюдал за сержантом, усатым, здоровым, крепким, который, с веником выйдя
из дома, подметал у крыльца, согнувшись, старательно пылил.
-- Лодырей своих не жалейте,-- сказал он врачу.-- Тут немцы бродят,
учтите. Днем остерегаются, мы чуть колесом их не подавили, спасались в
кустах, а ночью... Оружие ведь валяется везде.
Подошла санитарная повозка, начали грузить раненых. Решив для себя, что
ехать ему во вторую очередь, потому что есть тут раненые похуже, Третьяков в
шинели внапашку сидел на ступеньках крыльца, смотрел, как распоряжается у
повозки санинструктор, молодая, властная, резкая; ездовой только вздрагивал
от ее голоса, опрометью кидался исполнять, и все-- не в ту сторону.
Погрузили тяжелораненого. Его положили в солому на дно повозки, он
слабо постанывал. Кто мог, ковылял сам, стараясь казаться жальче, чем есть.
Достав зажигалку из кармана, Третьяков закурил, глубоко и сладко вдохнул
дым, рассматривал полу своей шинели, вкось забрызганную его кровью, уже
присохшей, ржавой. Он попробовал оттирать ее, сминая сукно в пальцах. Боль,
приглушенная новокаином, сейчас не слишком тревожила его, такую боль терпеть
можно. Не раз еще будут с кровью отрывать бинт от живой раны, пока она не
загноится и повязка сама начнет отставать. Мысленно он уже видел весь путь,
который ожидает его. В этот раз, наверное, загипсуют руку. Вспомнился парень
в санлетучке, как он щепочкой вынимал червей из раны. Вот что, наверное,
терпеть трудно, когда чешется под гипсом...
-- Лейтенант! Иди!
От повозки врач звал его и махал рукой. Решив с самого начала, что
места ему не будет, и настроившись так, Третьяков обрадовался. Подошел.
-- Садись,-- говорил врач.-- Езжай. И в путь, осторожно похлопал по
спине. Теперь, когда его отправляли в тыл, он почувствовал смутную вину
перед теми, кто оставался. И тут заметил пожилого бойца у стены хаты. Он
сидел на земле, вытянув ногу в свежих бинтах, усмехнулся нехорошо и сразу
опустил глаза. Третьяков помедлил.
-- Возьмите вот этого,-- сказал он врачу негромко.-- Я ходячий.
Но боец услышал, закопошился на земле, весь перегорбившись, опираясь на
палку, запрыгал к повозке. Все так же с опущенными глазами лез в нее, как
человек, который отбирает свое. И сразу заторопил ездового:
-- Ну, чего? Поехали...
-- А ты не командуй!-- сорванным голосом закричала на
него,санинструктор. Она сидела рядом с ездовым.-- Раскомандовался... А то
погоню сейчас!
Тот как не слышал, словно все это -- не ему. Она подвинулась на доске,
лежавшей поперек, сердито сказала Третьякову:
-- Садись, лейтенант. Всякий командовать тут начинает...
Он пожал руку врачу, зачем-то огляделся последний раз, влез, сел с ней
рядом. Ну, все. Какой-то свой круг завершила жизнь.
И вот он ехал спиною к фронту. Взвод его, война -- все оставалось
позади. Запахом конского пота наносило от лошадиных спин, короткая рыжая
шерсть на них лоснилась по-весеннему ярко. Светило солнце, вся дымчатая
лежала степь, тени облаков паслись на ней, голубым видением вставали вдали
то ли холмы, то ли горы. И высоко над головою, в высоком ослепительном небе,
строй за строем шли белые кучевые облака. Как хорошо в мире, боже ты мой,
как просторно! Он словно впервые вот так все увидал.
Тень облака скакнула на спины лошадям, лицом, сощуренными от солнца
глазами он мгновенно почувствовал ее.
-- Придержи чуть,-- сказал он ездовому и, когда тот натянул вожжи,
слез, пошел пешком. Ему растрясло рану, она болела опять. Но рана, он знал,
поболит и перестанет, а на душе у него было спокойно и хорошо. Он шел,
держась здоровой рукой за повозку. Санинструктор глянула на него сверху
тяжелыми от недосыпания, остановившимися глазами, подвинулась на край доски,
на его освободившееся место.
-- Давно воюешь?-- спросил он, чтобы разговором отвлечься от боли. Она
зевнула.
-- Достань закурить.
Она была совсем молодая, губы пухлые, рот маленький. Прижмуривая один
глаз, она привычно прикурила от цигарки ездового, закашлялась хрипло с
первой затяжки.
Тень облака, идущая по степи, накрыла овражек. И что-то вдруг там
насторожило Третьякова. Он не знал что, но это было как предчувствие
опасности. ВсЈ время по привычке сознавать себя старшим, он наблюдал за
местностью: и сверху, когда ехал, и теперь, когда шел.
Лошади ступали по дороге, ездовой вожжами поторапливал их, курили
раненые, держась за край повозки рукой, шел он рядом. И все вместе они
подвигались к оврагу. Так же строго, как он вглядывался туда, посмотрел он
снизу на санинструктора; он не хотел зря испугать ее.
Тень облака сдвинулась, солнце вновь осветило овражек. Нет, зря он
насторожился.
-- Воюешь давно?-- спросил опять Третьяков, забыв, что уже спрашивал ее
об этом.
-- Давно,-- сказала она прочистившимся после кашля голосом.-- У нас вся
семья воюет. Старшая сестра пошла сразу, как мужа убили. Братишка тоже. Одна
мама с младшими сидит, ждет писем.
Он шел рядом и снизу посматривал на нее. Если бы это Саша была? Или
Лялька? И жаль ему было сейчас ее, как будто это их жалко.
Он не слышал автоматной очереди: его ударило, подбило под ним ногу,
оторвавшись от повозки, он упал. Все произошло мгновенно. Лежа на земле, он
видел, как понесли лошади под уклон, как санинструктор, девчонка, вырывала у
ездового вожжи, взглядом измерил расстояние, уже отделившее его от них. И
выстрелил наугад. И тут же раздалась автоматная очередь. Он успел заметить,
откуда стреляли, подумал еще, что лежит неудачно, на дороге, на самом виду,
надо бы в кювет сползти. Но в этот момент впереди шевельнулось.
Мир сузился. Он видел его теперь сквозь боевую прорезь. Там, на мушке
пистолета, на конце вытянутой его руки, шевельнулось вновь, стало подыматься
на фоне неба дымчато-серое. Третьяков выстрелил.
Когда санинструктор, остановив коней, оглянулась, на том месте, где их
обстреляли и он упал, ничего не было. Только подымалось отлетевшее от земли
облако взрыва. И строй за строем плыли в небесной выси ослепительно белые
облака, окрыленные ветром.
---------------------------------------------------------------
Григорий Яковлевич Бакланов
НАВЕКИ -- ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ
М, "Советский писатель", 1980, 240 стр План выпуска 1980 г No 5
Редактор 3 В Одинцова Худож редактор Д С Мухин Техн редактор Р Я
Соколова. Корректор С И Крягина
ИБ No 2318
Сдано в набор 01 11 79 Подписано к печати 100480 А 10228 Формат 84Х108
1 32 Бумага тип No 1 Журнальная рубленая гарнитура Офсетная печать Уел печ л
12,6 Уч-изд л 158 Тираж 100000 экз Заказ No 917 Цена 1 р 30 к Издательство
"Советский писатель", 121069 Москва, ул Воровского, 11 Тульская типография
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств
полиграфии и книжной торговли, г Тула, проспект Ленина 109
Last-modified: Wed, 27 Dec 2000 21:05:10 GMT


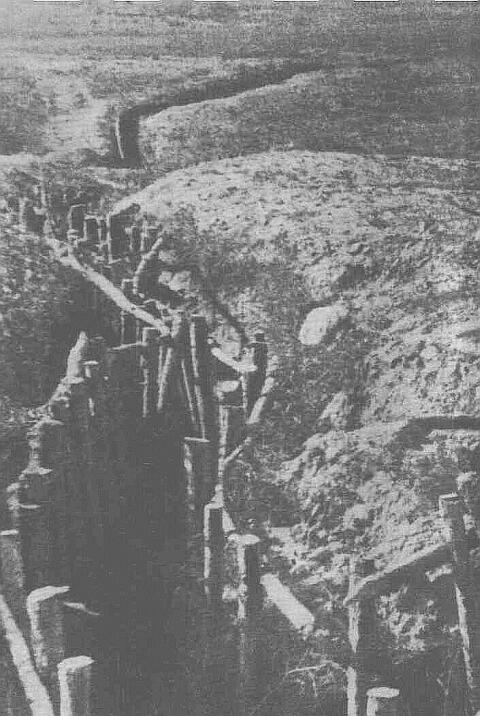

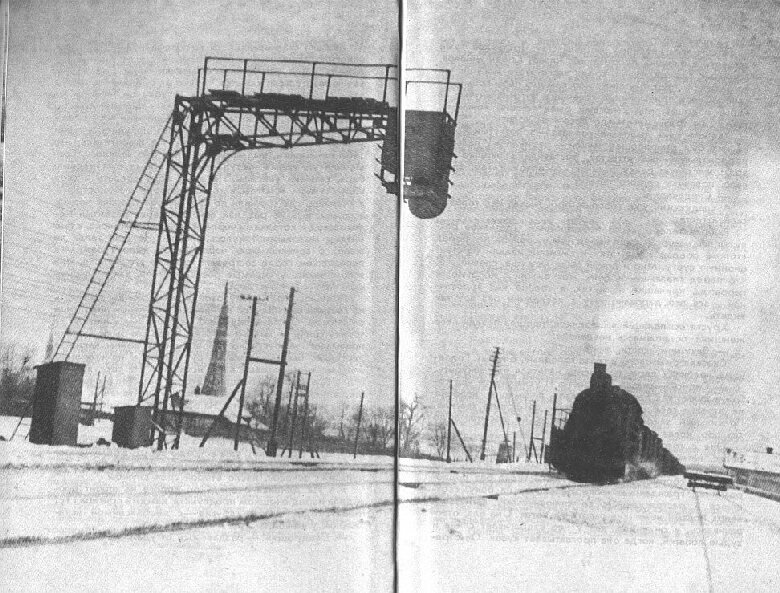 Он остановил на шоссе военный грузовик, подсадил ее в кузов. Став
сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий
борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:
-- Отвернись!
И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в
кузов.
Уносилась назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков
развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они
целовались как сумасшедшие.
-- Останься! -- говорила она.
Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало,
они стукались зубами.
-- На денек...
И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому
и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд
за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина,
беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и
заволоклось известковым облаком.
На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки
скрылась навсегда. Донеслось только:
-- Шинель не потеряй!
А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на
обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже
имени ее не спросил. Но что имя?
Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.
-- Взво-у-уд...-- отпуская от себя строй, старшина загарцевал на
месте.-- Стуй!
Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы набиты
пылью.
-- Нали-и.-.-ву!
Напрягая икры ног, пятясь от строя, старшина звонко вознес голос:
-- Равняйсь! Сми-и-ррна!
У девчат от подмышек до карманов гимнастерок -- темные круги пота. На
той стороне шоссе осенняя рощица порошила на ветру листвой. Кося напряженным
выкаченным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах:
-- Р-разойдись...
И смачно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая
сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины.
Старшина, довольный собой, подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на
обочину, как начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому
виску, по неостывшей щеке тек пот, прокладывая блестящую дорожку.
-- Связисток гоню!-- И подмигнул веселым глазом, белок его был
воспаленный от пыли и солнца.-- Должность-- вредней не придумаешь.
Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно
взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались
девчата из рощицы, кто сорванный цветок нес в руке, кто-- пучок осенних
листьев. Построились, подровнялись. Старшина скомандовал:
-- С места-- песню!
Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.
Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю
военных девчат, весело топавших по пыли.
Он остановил на шоссе военный грузовик, подсадил ее в кузов. Став
сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий
борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:
-- Отвернись!
И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в
кузов.
Уносилась назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков
развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они
целовались как сумасшедшие.
-- Останься! -- говорила она.
Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало,
они стукались зубами.
-- На денек...
И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому
и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд
за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина,
беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и
заволоклось известковым облаком.
На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки
скрылась навсегда. Донеслось только:
-- Шинель не потеряй!
А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на
обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже
имени ее не спросил. Но что имя?
Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.
-- Взво-у-уд...-- отпуская от себя строй, старшина загарцевал на
месте.-- Стуй!
Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы набиты
пылью.
-- Нали-и.-.-ву!
Напрягая икры ног, пятясь от строя, старшина звонко вознес голос:
-- Равняйсь! Сми-и-ррна!
У девчат от подмышек до карманов гимнастерок -- темные круги пота. На
той стороне шоссе осенняя рощица порошила на ветру листвой. Кося напряженным
выкаченным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах:
-- Р-разойдись...
И смачно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая
сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины.
Старшина, довольный собой, подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на
обочину, как начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому
виску, по неостывшей щеке тек пот, прокладывая блестящую дорожку.
-- Связисток гоню!-- И подмигнул веселым глазом, белок его был
воспаленный от пыли и солнца.-- Должность-- вредней не придумаешь.
Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно
взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались
девчата из рощицы, кто сорванный цветок нес в руке, кто-- пучок осенних
листьев. Построились, подровнялись. Старшина скомандовал:
-- С места-- песню!
Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.
Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю
военных девчат, весело топавших по пыли.











